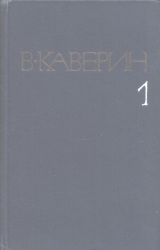
Текст книги "Скандалист"
Автор книги: Вениамин Каверин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 13 страниц)
– Почему вы выходите замуж? – спросил он грустно, свалив голову набок. – Потому что я вас обидел? У вас, кажется, четвертый этаж? Хотите, я сейчас прыгну из окна? Если я расшибусь, вы расскажете об этом Боре? Как его зовут?
– Кого?
– Этого человека. Вашего мужа?
– Кирилл.
– Фамилия?
– Кекчеев.
– Армянин? Татарин? Все равно. Я поговорю с ним. Я объясню ему, почему это неправильно. Боря его знает? Я отхлопочу вас у него. Он умный?
В ответ на этот простой вопрос он должен был выслушать обстоятельный, хотя несколько бессвязный доклад о Кирилле Кекчееве. Она устает от слишком умных людей. Ей легче с ним, чем с писателями или художниками. Впрочем, она еще не знает его. Он то слишком ловок, то неуклюж, то теряется, то говорит дерзости. Он влюблен. В нем чувствуется незаурядная настойчивость, он сделает блестящую карьеру. На днях он говорил с ней о завоевании учреждения, как миссионер об обращении дикарей. Он круглый. Говорит по-латыни. Очень молодой. Франт. Важничает. Смешной. Много ест. И ничего не понимает в живописи.
Некрылов сбросил пальто и встал. Вежливый, очень веселый, он с истинной корректностью поцеловал ей руку. Мир вернулся на свое место, он был трезв, удивительно трезв и ясен. Потягиваясь, размахивая руками, он прошелся по комнате. Ему хотелось схватить что-нибудь, смять, связать узлом. Связать узлом он хотел кочергу, но Вера Александровна отняла кочергу и усадила его обратно.
– Я увезу вас из-под венца, – объявил он, прихлопывая по ее руке ладонью. – Вы хорошо рисуете. Вы милая. Я где-то уже писал об этом. И я не могу позволить вам выйти замуж за этого человека. Во-первых, – он протянул это слово, – вы его не любите. Во-вторых, это не человек. Это болезнь.
ОНА БЫЛА МИЛА, И ОН ЛЮБИЛ ЕЕ.
НО ОН НЕ БЫЛ МИЛ,
И ОНА ЕГО НЕ ЛЮБИЛА
1
Несчастье не сломило Мальвину Эдуардовну. В ней проявились внезапно энергия, распорядительность, даже ум. Боевая курсистка, принципиальная курсистка именно акушерских, а не каких-либо других курсов, проснулась в ней на следующий же день после загадочного исчезновения мужа. Как поседевший на своем деле следователь, она шесть раз подряд допросила прислугу. Выяснилось – профессор свистал, потом оделся и вышел. Дальше шли сведения, противоречащие здравому смыслу. Никакой сестры у профессора в Николаеве не было. Жила когда-то тетя, замерзшая в 1918 году. Трудно было допустить, что он поехал на могилу к тете.
Не потеряв бодрости, потрясая почему-то трудовой книжкой, Мальвина Эдуардовна в течение двух часов буйствовала в милиции. Ей представили подробный список всех ленинградских граждан, покончивших за истекшие сутки самоубийством. Здесь был безработный бухгалтер, не сумевший примириться с тем, что домком перевел его в разряд свободной профессии, и двенадцатилетняя девочка, оставившая краткую записку: «Причина – разочарование в жизни». Но профессора Ложкина не было в этом списке.
Прямо из милиции Мальвина Эдуардовна отправилась в Академию наук. Не соглашаясь на непременного секретаря, она потребовала самого президента. Президента ей увидеть не удалось, но выяснилось: Академия наук сочувствовала, обещали принять все меры, зависящие от нее; а впрочем – это было видно по самому тону разговора – быть может, даже ожидала от без вести пропавшего профессора какого-нибудь фортеля в этом роде. Все ожидали, кроме нее. Она одна его просмотрела.
Из Академии Мальвина Эдуардовна удалилась с достоинством, с твердостью. Но, вернувшись домой, она вдруг почувствовала всю глубину своего несчастья. Боже мой, ведь на нее же смотрели как на женщину, от которой сбежал муж!
К родным она совсем не пошла. Оставались друзья. Разве у Степана Степановича не было друзей, друзей еще с университетской скамьи? Разве его не любили? Не уважали?
На третий день своих бесплодных поисков она надела черное шелковое платье, почти траурное платье, которое скорбно шумело при каждом шаге, взяла лорнет и отправилась к Вязлову.
2
Когда она увидела длинную табачную бороду и сгорбленные умные плечи Вязлова, у нее губы задрожали от жалости к самой себе. Но она сдержалась, только поднесла платок к лицу. Вязлов (он вышел в переднюю, чтобы встретить ее) очень сочувственно и с неожиданной в его годы легкостью поклонился ей, поднес к губам руку. В ответ она громко поцеловала его в лоб. Все это произошло в полном молчании, почти торжественно, почти так, как если бы профессор Ложкин не был уже причастен земных сует.
Придерживая ее под руку, Вязлов провел ее в свою комнату, подвинул кресло поближе к камину, усадил ее, сам сел к столу.
Она сидела выпрямившись, крепко сжимая в руках платок, поджав губы.
– Вот, Иван Ильич, пришла к вам. Вся моя надежда на вас. Вы ведь всегда были нашим другом…
Это было сказано с твердостью. Другом он никогда не был. Напротив того, из-за Мальвины Эдуардовны несколько лет находился с Ложкиным в отношениях холодных, она не раз ссорила мужа с друзьями.
Вязлов послушал немного, о чем она говорит.
– Что ж, так и не нашли его, Степана Степановича? – спросил он, разглаживая кулаком усы. – А может быть, он за границу уехал? Я вот тут как-то сегодня ночью подумал, что он за границу уехал. И решил, что в Париж.
Мальвина Эдуардовна изумленно подняла брови.
– Но ведь у него же и паспорта заграничного не было.
– Ну и что ж такого, что не было! Это не имеет большого значения. Вот у меня был такой знакомый, Морачевич, сенатор. Не тот Морачевич, который в полиции служил, а другой, однофамилец. Так он – но крайней мере, так мне его жена рассказывала – как-то раз вернулся с заседания государственного совета, пообедал даже, кажется, – и уехал. В Париж. Так и пропал. Потом его где-то в портах Средиземного моря видели. Жил среди греков, ловил рыбу.
Мальвина Эдуардовна беспомощно развела руками.
– Впрочем, насчет Степана Степановича, – добавил, немного подумав, Вязлов, – действительно трудно такую историю предположить. Этот Морачевич, он ведь глупый был. Ну, а в сыскном?.. В сыскном-то отделении вы спрашивали?
– В сыскном отделении ничего неизвестно, – сказала Мальвина Эдуардовна, – решительно ничего. Они говорят, – она оскорбленно поджала губы, – что это личное дело Степана Степановича, что он может жить, где хочет, и я вовсе не вправе ему мешать.
Вязлов подвинул к себе коробку с табаком и слегка дрожащими, сухими пальцами принялся набивать папиросу.
– Гм, это интересно… Такая точка зрения для сыскного – это все-таки новость. Это что ж… Такое законодательство теперь? Стало быть, если человек без вести пропал – он имеет на это полное право? Хочу – пропадаю, хочу – нет! Свобода воли, так сказать, индетерминизм. Я вот слышал, что индетерминизм как-то не в моде теперь. А он, оказывается, даже на законодательство имеет влияние. Ну, что ж, стало быть, и разыскивать его на основании свободы воли отказываются?
– Не отказываются, но ничего не обещают.
– Любопытно, очень любопытно. А вот раньше сыскное отделение философски было менее образованно, но работало отчетливее и, очевидно, более успешно. У меня вот Александр, сын, тоже как-то однажды пропал бесследно. Он, правда, тогда еще маленький был. Его, кажется, нянька потеряла… Или нет, это Андрея нянька потеряла. А Александр Густава Омара начитался и в Америку убежал. Я тогда тоже в сыскное отделение обращался. И нашли. Где-то под Москвой на полустанке задержали.
Мальвина Эдуардовна сидела прямая, бледная. Казалось, она была чрезвычайно заинтересована историей с Александром. Но когда Вязлов кончил, она поднесла платок к глазам и заплакала.
– Ведь он же мне ни одного слова не оставил. Он накануне целую ночь взаперти в своем кабинете просидел. И денег с собой не взял. Ушел с одним портфелем.
Вязлов, нахмурившись, гладил тощую бороду. Он привстал и сочувственно тронул ее за рукав.
– Мальвина Эдуардовна, поверьте слову моему – найдется. Ничего особенного в этом деле не нахожу. Усталость. Он отдохнуть поехал, он сейчас где-нибудь в Царском Селе живет. Отдохнет и вернется.
Мальвина Эдуардовна вытирала мокрые глаза, сморкалась.
– Нет, нет, вы только утешаете меня, Иван Ильич. Я знаю, знаю. Он старости своей не пожалел. Я все понимаю отлично. Он не один уехал.
Вязлов пристукнул палкой и с изумлением уставился на нее. Глаза его иронически сощурились, он шумно откашлялся и пустил дым через нос.
– С кем же он уехал?
– С женщиной, – твердо сказала Мальвина Эдуардовна, – к нему курсистки ходили, под видом экзаменов, каждую неделю ходили. Он франтить начал, меня сторониться стал. Его завлекли, завлекли…
3
Когда бессонница перешла в старание уснуть, а уснуть все-таки не удалось, Драгоманов встал и, съежившись, грея под мышками пальцы, вышел в коридор.
Коридор спал и во сне вонял щами.
Прихрамывая, Драгоманов прошел вдоль матовых ламп.
Дохлый студент, известный тем, что даже в поминальной, на похоронах профессора Ершова, речи умудрился пожаловаться ни соседство с уборной, попался ему навстречу.
– Ну, как с клозетом? – приветливо спросил его Драгоманов.
Сверху, с третьего этажа, еще долетали раздробленные голоса, стук шагов. Каждую ночь в третьем этаже собирался клуб трепачей, в который входили все первокурсники, твердо решившие без удержу прожигать жизнь.
Драгоманов загнул за угол, вступил в другой, более семейственный запах и, остановившись у комнаты Лемана, ногой толкнул дверь.
Луна спала вместе с Леманом, в его постели.
Он лежал, зарывшись в подушку, узкие плечи торчали из-под серого солдатского одеяла.
Во сне он походил на отставного клоуна, на рыжего, доведенного до изнеможения.
Драгоманов с досадой посмотрел на него. Но пожалел, будить не стал. Не только не стал будить, но заботливо прикрыл детскую пятку, вылезшую из-под одеяла.
Потом сел к столу.
Казалось, он был прибран раз и навсегда, леманский письменный стол: по правую руку и по левую лежали аккуратные стопочки книг. Рядом с бутылкой чернил стоял морской компас. Леман гордился им – компас был подарен ему пьяным штурманом, который пришел в восторг от собственного некролога.
Драгоманов взглянул на стрелку. Север лежал еще напротив юга, запад напротив востока. Они еще не сошли со своих мест, не поменялись ролями.
Драгоманов пожалел, что они не поменялись ролями, и поставил компас обратно.
Со скучным лицом он принялся пересматривать книги.
Леман читал, как выяснилось, о йогах, о радио, о скорейшем и легчайшем способе научиться гипнозу. Тут же лежало тщательно переписанное сочинение о Белоруссии, которое начиналось словами: «Отнюдь довольно!..»
Прочтя без особенного интереса о том, что белорусы прямые потомки яфетидов, и отложив сочинение в сторону, Драгоманов наткнулся на клеенчатую опрятную тетрадь. На обложке ее было вырезано перочинным ножом, и очень искусно:
МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПИСКИ
СТУДЕНТА ИСТОРИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ИВАНА ЛЕМАНА
а внизу помельче:
с присовокуплением некоторых данных
автобиографического характера
Драгоманов оживился, подсел ближе к свету. Стало быть, что же? Студент исторического отделения Иван Леман ведет мемуары? Его все юродивым считают, а он втихомолку записывает. Быть может, он для того и притворяется человеком неопасным, чтобы без помехи можно было наблюдать, записывать, запоминать.
Драгоманов раскрыл тетрадь и уткнулся в нее с живейшим любопытством.
Леман писал:
«Все перечитавши, и несколько раз, что только нашлось своего или занятого, все передумавши, и неоднократно, что только задержалось в моей старой голове, всем наскучивши, наконец с месяц нахожусь я в совершенном безделии, следовательно, в несносной скуке. Работать в огороде или бродить по окрестностям моего самопроизвольного заточения? Препятствует ежедневный жар. Выезжать на охоту? Стрелять в сие время нечего, к тому же оводы одолевают коней…»
Драгоманов сощурился, с недоумением повертел в руках тетрадь.
– Каких коней? В каком огороде? Впрочем, он летом, кажется, уезжал куда-то. Но «в старой голове»? Он с ума сошел, очевидно.
Он продолжал читать.
«Чем же наполнить день, особенно чем сокращать предолгие предобеденные часы? Писать?.. Я бы, кажется, забыл давно писать, если бы не поддерживал сие неважной перепиской, которая не может дать дельного вещесловия. Но что дельное? Ничтожность не занимательна, следовательно, не должно писать все, что попадать станет под кончик твоего пера. Так вот мой предмет: мое время. Я хочу писать мою жизнь и какие мне памятны важнейшие, случившиеся в течение оной происшествия. Да не подумает кто-либо, что сим маловажным занятием я хочу втесниться в лик творцов сочинений. Отнюдь! Я знаю, какие потребны дарования, сведения, знания, учение, витийство писателям, посвятившим себя или пожалованным препровождать до позднейшего потомства громкие подвиги витязей, славу владык, бедствия народов. Я намереваюсь писать о себе, для себя, для своих, – следовательно, я буду писать, как умею, не поставляя себе образцами ни Ксенофонтов, ни Ливиев, ниже других витий времени нашего и времен минувших. Слог мой, подобно деяньям, будет прост, но правдив, в чем призываю на помощь мою богиню – истину».
Драгоманов, оторопев, гладил себя ладонью по лбу. Леман писал прекрасным языком. Более того – языком, который насчитывал за собой никак не меньше полутораста лет.
«Родился я в Белоруссии, в городке Болотном, от родителей ежели не знаменитейших и богатейших, то от самых здоровых и молодых.
Отец Петр Петрович Леман, юноша 21 года, женился по взаимной сердечной склонности на матери моей, 16-летней отроковице Анне Ивановне Кореньковой, и их счастливый союз на десятом месяце был украшен моим появлением. Родиться первенцем от неискусобрачных (за что буду крепко стоять, по меньшей мере с одной стороны), молодых, здоровых родителей, быть воздоену матернею грудию, значит: получить с жизнью прочное членоустроение, чистую кровь, здоровые соки… Сие наблюдается по всем хорошим конским и другим заводам.
Взгляните на сего благообразного, преисполненного любезности юношу: не являют ли все черты его лица и все движения его тела, что он есть произведение тихих сладостных минут вечера, когда добрые, чувствительные два существа после вечерней, приятной прогулки, в уединенной мирной храмине предаются восторгам целомудренной любви? Не доказывает ли он ярким румянцем своих щек, упругостью своих мышц, широкою грудью, звонким голосом, всегдашней веселостью, что он чадо доброго союза, засеянное дюжим, трудолюбивым земледельцем в ложе сна дородные, здоровые подруги, в тени ли ветвистых рощ, в холодке душистого стога?»
Низко склонившись над столом, дымя папироской, Драгоманов дочитал тетрадь до конца.
Леман сообщал в дальнейшем, что мать его, приживши второго сына, на двадцатом году жизни овдовела и, обижаема будучи тетками, вторично поступила в замужество.
Что отчим утопил было его в пруду, неподалеку от деревни Котляковки, но не успел в сем происшествии, будучи остановлен мимо проезжими поселянами.
Что, отдалясь напоминовениями сколько можно, видит он как бы во сне, что, будучи отправлен на учение в Минск, жил он под начальством какой-то женщины, именем Варвара, «в совершенной праздности», шатаясь по улицам и, «по крайнему изобилию всех плодов, пресыщаясь ими». Что вредные наклонности, происшедшие от сего, заставили его в течение времени погрузиться в распутство. Что попущение своевольствовать со стороны начальства его, женщины Варвары, долженствовало бы предать его всем порокам своеволия. Но что белорусское, хоть и плохое, воспитание не только удержало его от всесовершенной гибели, но содеяло в нем правила нравственности, доброты и благочиния.
Драгоманов тихо положил тетрадь обратно.
Мемуары были чужие.
Бедный студент исторического отделения Иван Леман! Он списывал их откуда-то. Из Радищева? Из Карамзина? Для его некрологов, торжественных и благопристойных, не хватало торжественных мемуаров. Его привлекала звучность. Слова звучали, как медь, почти как молитва.
«Попущение своевольствовать… Всесовершенная гибель».
4
Прожигающие жизнь первокурсники уже не лупили каблуками в пол, лампы в коридоре были уже погашены, когда Драгоманов вышел из леманской комнаты. Он возвращался к себе – не с тем, разумеется, чтобы снова попытаться уснуть. Но он ловил ясный утренний час для работы.
Снежный нетронутый свет падал от Невы в его окно, вещи стояли маленькие, как дети. С посветлевшими глазами он уселся за стол, разложил рукопись – он писал большую статью о языке прозы с лингвистической точки зрения.
Но что-то мешало ему работать, руки были не те, карандаш был не отточен.
Досадливо качнув головой, он отправился обратно к Леману.
– Леман, материальный писец, материалист, – сказал он и, отрывисто рассмеявшись, стянул с него одеяло. – Студент исторического отделения Иван Леман! Извиняюсь, что разбудил.
Леман негромко взвизгнул, поджимая под себя голые, покрытые рыжим пушком ноги. Он испуганно моргал, отмахивался.
– Леман, важное известие, прими во внимание, – сказал снова Драгоманов и сел к нему на кровать. – Один из твоих некрологов можно, кажется, отправить в газету. Не белорус, – добавил он, начиная щекотать Леману пятки, – но зато профессор. Ординарный профессор, не какой-нибудь. И член-корреспондент Академии наук… Ага! Скончался! Погиб, не оставив за собой ни следа, ни дуновения. Фамилия Ложкин, по имени Степан Степанович. Можешь написать о нем в своих мемуарах: «Он был, и его не стало», или «скончал житие свое», или «жизни более уже не причастен». Напиши о нем, дорогой Леман, дорогой студент исторического отделения Иван Леман. В одном я не сомневаюсь. Об одном я сожалею. В одном я всесовершенно уверен. В том, что тебе, дорогой Иван Леман, не удастся сказать на его могиле поминальную речь!
5
– Все негры – брюнеты. Я – брюнет. Следовательно, я – негр?
Меньшая посылка навряд ли была верна. Профессор логики Визель не был брюнетом. Он был сед. Целая туча седых волос сидела на кафедре. Из тучи изредка слышался смех.
Профессор был знаменитый хохотун и насмешник.
Высокий студент с великолепным носом, с волосами, вдохновенно закинутыми назад, стоял перед ним и, что называется, «плавал».
Он «плавал» уже минут двадцать, но достоинства не терял. На каждый вопрос Вязеля он оскорбленно взмахивал шевелюрой, шевелил губами, но молчал.
В экзаменационном листе напротив его фамилии давно уже была нарисована лодочка. Таков был Визеля обычай. Если студент выплывал, к лодочке приделывался плюс, похожий несколько на парус, если же тонул – минус, который можно было, пожалуй, принять за сломанный руль.
К концу сессии целый водный транспорт всплывал на поверхность студенческих неудач.
Ногин, невыспавшийся, усталый, злой, сидел на последней парте и зевал, разглядывая знакомый потолок пятой аудитории.
В книгу он, верный испытанному правилу – перед смертью не надышишься, – не смотрел. Экзамен был приготовлен сгоряча, в три дня.
Три дня подряд он вставал в шесть часов утра и до поздней ночи изучал законы логического мышления, методы опровержения суждений.
Латинское стихотворение, придуманное средневековыми монахами для облегчения запоминания правильных модусов, хлопало в его мозгу, как оконные ставни.
Barbara, Celarent, Darii, Ferioque, prioris,
Cesare, Camestres, Festino, Baroco, secundae…
Седая грива волос на кафедре казалась ему логической ошибкой.
– Ну, хорошо. Оставим негров. Очевидно, вы, коллега, питаете неприязнь к народам хамитской расы. А вот что вы скажете по поводу такого силлогизма? Вы – не то, что я. Я – человек. Следовательно, вы – не человек?
На этот раз студент нашелся быстро.
– Ошибка здесь в том, – уверенно сказал он, – что я тоже человек.
К лодочке на экзаменационном листе неторопливо приделывался руль.
– Не смею сомневаться, – очень серьезно возразил Визель, и весь заходил от хохота на своем тряском стуле, – весь вопрос в том, очень ли вы занятой человек и не можете ли вы прийти ко мне еще раз?
Студент молча взял обратно матрикул и раздраженно засунул его в курс логики, который держал в руках. Он ничего решительно не знал, ни на один вопрос не ответил.
Тем не менее, выходя из аудитории, он громко сказал, оскорбленно тряхнув шевелюрой:
– Гм, странно!
И с треском захлопнул дверь.
Ногин невесело посмеялся ему вслед: «Вот сейчас пойдет эта толстуха, кубышка, которая с утра до вечера катается по университетскому коридору. Тоже срежется, пожалуй. Потом я. И черт их возьми, зачем заставляют они восточников возиться с логикой. Визель бородат. Я не бородат. Следовательно, я не Визель. И никакой ошибки нет, я и в самом деле не Визель. И пролечу я сейчас у этого Визеля, как пуля. Эх, нужно было к Вязлову пойти, Вязлов хорошо экзаменует».
Час назад, когда, в томительном ожидании профессора, он бродил между библиотекой и буфетом, знакомая курсистка рассказала ему, как ее экзаменовал по логике Вязлов. Он задал ей только один вопрос:
– Понятия бывают отрицательные или не бывают?
– Бывают, профессор, – твердо ответила курсистка.
Он пожевал губами, равнодушно посмотрел на нее, немного подумал. Потом поставил в ее матрикуле «вуд». Потом спросил, ткнув пальцем в сторону двери:
– А что ж, там еще многие хотят экзаменоваться?
– Очень многие, профессор.
– Ага. Так вот, подите к ним и скажите, что понятия отрицательными не бывают.
А кубышка-то прекрасно знала предмет! Не давая Визелю сказать ни слова, она энергично и даже как-то хозяйственно сообщила ему, что она аккуратнейшим образом посещала его лекции, что не кто иной как именно Декарт был одним из виднейших представителей рационализма, что два частных суждения, состоящих из одинакового материала, но имеющих разное качество, называются относительно друг друга подпротивными…
И Визель приуныл. Он грустно ерошил бороду. Он свесил с кафедры другую руку, и Ногин разглядел на ней, на мизинце, длинный, отточенный, желтый ноготь.
«Нет, не подходит к Визелю этот ноготь, – подумалось Ногину, – к бороде не подходит. Он, должно быть, им на полях отмечает. А что еще можно таким ногтем делать? Миндаль выковыривать?.. Щекотать?.. Чесаться?.. А ведь кубышка-то сдает! Ай да кубышка, хозяйственная комиссия».
Студент, похожий на гриб, тот самый, который у выхода из аудитории сторожил и проверял список экзаменующихся, давно уже подавал ему знаки.
Ногин кивнул ему и поднес руку к виску. В виске стучало, какой-то круглый пузырек катался под пальцами. Он привычно скрестил их, как это делал, бывало, на хлебных шариках – и вот два пузырька начали кататься под пальцами. Давило на глаза, и все казалось нестройным, как при болезни.
Когда он поднялся, чтобы подойти к кафедре, он еще надеялся, что знакомая четкость придет к нему, едва только он произнесет первое слово.
Но четкость не пришла.
Он молча смотрел на дремучую, на грязно-седую бороду Визеля, и борода все разрасталась, становилась все гуще, все грандиозней. Непослушным ртом он сказал что-то о субъектах и предикатах. Бесконечный желтый ноготь водил по экзаменационному листу, отыскивая его фамилию. Эх, напрасно не пошел он к Вязлову!
– При законе исключенного третьего, – услышал он самого себя и удивился, у него был чужой и напряженный голос, – при законе исключенного третьего…
Что при законе исключенного третьего?
Глазки сочувственно смотрели на него из-под нависших бровей. Где-то за семью горами, за стеклянной дверью стояли студенты. И гриб расхаживал среди них, размахивая своим списком, как знаменем, отбитым у неприятеля с опасностью для жизни.
Перебив самого себя, Ногин попросил задать другой вопрос. Визель охотно согласился. Задумчиво почесав своим ногтем за ухом, он предложил Ногину изложить принципы математической индукции.
И Ногин даже не плавал вокруг математической индукции. Он, как якорь, пошел ко дну.
6
Прямо с экзамена он отправился к Драгоманову. У него ломило виски, глаза болели, но вся логика вплоть до последней страницы стояла перед ним, как на ладони. Он понять не мог, каким образом он срезался.
Драгоманов был не один.
Посередине его комнаты, совершенно голый, стоял человек, которого Ногин узнал по портретам.
Впрочем, человек этот не стоял, а прыгал вокруг свертка с бельем, из которого он доставал сиреневые кальсоны, носки, рубашку.
Драгоманов, посмеиваясь, смотрел на него.
Потом он перевел глаза на Ногина, который изумленно застрял на пороге, не решаясь ни войти, ни выйти, и громко рассмеялся. Но тут и голый увидел Ногина.
Шагнув через кушетку, он закинул кальсоны за спину и быстро сунул Ногину руку.
– Не пугайтесь, – сказал он, – Некрылов. Боря, это кто? Твой ученик? Усади его, если он не женщина. И дай мне воды. Я буду мыться.
Внезапно почувствовав себя гимназистом, Ногин покорно сел на диван.
У Некрылова было большое, белое, круглое тело. Какая-то победительность чувствовалась в нем. Оно распоряжалось.
Став обеими ногами в таз от умывальника, он в одно мгновенье забрызгал всю драгомановскую комнату водой и мылом.
– Что мне делать с Сущевским? – говорил он и тер, тер мочалкой полные плечи. – Он говорит, что я плохо пишу. Я плохо пишу? – быстро спросил он у Ногина. – Вы – студент? Что обо мне говорят студенты? Ты понимаешь, вот Сущевский, – сказал он Драгоманову, сморщившись. – Ты видел его комнату? Его книги? Он не понимает, что сейчас важно.
– Ну и я не понимаю, – раздумчиво сказал Драгоманов, – неизвестно, что важно. Ничего не важно.
Но Некрылов говорил уже о другом. Он растирал мочалкой крепкие безволосые ноги и говорил о другом.
– Я вчера был очень пьян? Я, кажется, бил посуду? Возможно, что я был не совсем прав. Время покажет, кто был прав. Но, видишь ли, они делают не то, что нужно, твои ученики.
– И твои.
– Хорошо, и мои. Мы занимались теорией для того, чтобы повернуть искусство. А они? Они пишут свои статьи только потому, что эти статьи до них не были написаны. Это неправильно, чепуха, ничего не выйдет. Выйдут помощники деканов. Секретари факультетов. Чем вы занимаетесь? – спросил он у Ногина.
– Сенковским, бароном Брамбеусом…
Ногин покраснел и принялся искать в карманах папиросы, которых у него не было.
– Неверно. Вот видишь, Боря, они уже не понимают, для чего они это делают. – Это было сказано с торжеством. – Они хотят писать правильные книги. Они хотят, чтобы их уважали академики. Почему Сенковским? Зачем вам это нужно?
– Он был арабист, – отчаянно смутившись, объяснил Ногин. – И я тоже занимаюсь арабским и хотел бы… У него есть интересные теоретические статьи о гекзаметре…
– Ну, чего там, Ногин! Смелее, кройте его! – радостно сказал Драгоманов. – Ага, он же ни черта не понимает в гекзаметре, вы можете посадить его, шпарьте!
Некрылов захохотал, почесал затылок, сел задом в таз, расплескал воду.
– Я хочу доказать, – справляясь с застенчивостью, окончил Ногин, – что он под свою теорию о происхождении гекзаметра подводит систему арабского стихосложения.
Некрылов перочинным ножом срезал ногти на ногах.
– Боря, это интересно? – спросил он. – Возможно, что это интересно. Напишите об этом статью. Как вас зовут? Почему я вас раньше нигде не видел?
Он наконец натянул на себя кальсоны и рубашку. Рубашка не сошлась, он оборвал пуговицу и сунул ее Драгоманову в карман пиджака.
– Боря, ты холостой, возьми, пригодится.
Ногин смотрел на него во все глаза. Такого человека он видел в первый раз за всю свою жизнь. Как был он похож на этих людей, «которые все же немыслимы вне нашего времени и нашего пространства» и которых он придумал, сидя за арабской грамматикой, над Пиренеями Наличного переулка! Какая сила и какой беспорядок чувствовались в этом человеке!
Он уже почти обожал Некрылова. Он ловил каждое слово, смотрел на него влюбленными глазами.
Некрылов ходил по комнате и застегивал брюки. Дважды уже принимался он танцевать чечетку.
Он ловко убрал таз с водой, вытер пол шваброй и произвел в комнате Драгоманова такую уборку, какую она уже давно не видала.
– Тебе нужно купить буфет, – объявил он, убирая с окна стаканы с окурками и пепельницу с картофельной шелухой, – а может быть, даже и жениться… Ненадолго. На год или на два. На ком тебя женить? На ком его женить? – спросил он, обратившись к Ногину. – Тебя. Нужно. Женить. На хорошей нелитературной женщине. На нелитературной и немолодой. Приезжай в Москву, я тебе это устрою.
Драгоманов был женат уже два или три года, но согласился.
– Но только заметь, Витя, что я люблю женщин проказливых, – сказал он очень серьезно. – Шутливых.
С неподвижностью, почти неприятной, он сидел среди целой бури движений, которые ниспосылал на него неугомонный Некрылов.
Изредка он улыбался, желтые зубы его оскаливались, он ерзал спиной по спинке стула, но для того, чтобы помочь Некрылову, не двинул ни одним пальцем.
На затею его произвести в комнате переворот он смотрел, очевидно, с совершенным равнодушием.
– Но все-таки, – говорил что-то такое Некрылов, – все-таки, все-таки… Все-таки я уезжаю. Сегодня вечером. Хотя, может быть, еще и не сегодня. Мне до отъезда нужно еще убить одного человека, Боря. Это не цитата. Я говорю серьезно.
– И не метафора?
– И не метафора.
Он сел на диван, сел на свою ногу и помрачнел. Потом подложил под себя другую ногу. Он сидел по-турецки и сердито вертел ступнями.
– Я не знаю, что мне с ним делать. Я его убью. Или побью. Мне нужно как-нибудь отделаться от него. Послушай, Боря, ты не знаешь, что это за человек – Кекчеев?
Драгоманов нахмурился. Он вынул из кармана пиджака пуговицу, хмуро посмотрел на нее и швырнул прочь.
– Кекчеева знаю, – сказал он медлительно. – Но что с ним делать – не знаю. Бить его бесполезно.
– Ты понимаешь, я не могу допустить, чтобы Верочка вышла за него замуж.
Драгоманов сощурился и задумчиво покачал головой.
– Странно, – сказал он, снова начиная ерзать, – она ведь, кажется, еще молодая женщина. И очень мила как будто. Ты про Веру Александровну говоришь?
– Я говорю про Верочку Барабанову, – сердито вертя ступнями, сказал Некрылов.
Если бы он не был так занят собой, он бы заметил, может быть, что студент, фамилию которого он немедленно же забыл, откинулся назад, на спинку стула, и сперва залился краской, а потом побледнел. Попытался встать и тотчас же с растерянным лицом упал обратно на стул.
Но Драгоманов, обернувшись на скрип, приметил, что с учеником его творится что-то неладное.
Он встал и, прихрамывая, приблизился к Ногину.
– Милый мой, вам, кажется, дурно? – сказал он с сердечностью. – У вас вид больной. Хотите воды? Что это с вами? Вы переутомились, что ли?
7
Комната складывалась перед его глазами с шумом, как кузнечные мехи. Шумело в ушах. Он тупо смотрел на свои руки и подыскивал имена тому, что произошло. Это было несчастье. Это было простое дело. Это был… мор. Чьи-то чужие стихи всплыли, сами собой сказались в его голове:








