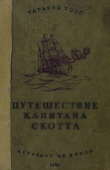Текст книги "Два капитана"
Автор книги: Вениамин Каверин
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 52 страниц) [доступный отрывок для чтения: 19 страниц]
Часть четвёртая
СЕВЕР

ЛЁТНАЯ ШКОЛА
Лето 1928 года. Я вижу себя с узелком в руках на улицах Ленинграда. В узелке – «выходное пособие». Детдомовцы после окончания школы получали «выходное пособие»: ложку, кружку, две пары белья и «всё для первого ночлега». Мы с Петей живём у Сёмы Гинзбурга, слесаря с «Электросилы», бывшего ученика нашей школы. Сёмина мама боится управдома; поэтому каждое утро я уношу «всё для первого ночлега», а вечером опять приношу: я делаю вид, что только что приехал. В столовой по чётным дням мы берём первое за пятнадцать копеек, а по нечётным – второе за двадцать пять. Мы бродим по широкому, просторному городу, по набережным вдоль просторной Невы, и Петя, который чувствует себя в Ленинграде как дома, рассказывает мне о Медном всаднике, а я думаю: «Примут или не примут?»
Три комиссии – медицинская, мандатная и общеобразовательная. Сердце, лёгкие, уши, снова сердце! Кто я, где родился, где учился и почему хочу стать пилотом?
Верно ли, что мне девятнадцать лет? Не подделаны ли года – на вид поменьше! Почему рекомендацию райкома подписал Григорьев, это кто же – брат или однофамилец?
И вот наконец – решительный день! Я стою перед Аэромузеем: здесь мы держали испытания. Это огромный дом со львами на проспекте Рошаля. Петя говорил, что эти львы описаны в «Медном всаднике» и будто на них спасался от наводнения Евгений, – до сих пор не знаю, правда это или нет. Мне не до Пушкина. Львы смотрят на меня с таким видом, как будто и они сейчас начнут спрашивать: кто я, где родился и верно ли, что мне девятнадцать лет?
Но вот когда становится по-настоящему страшно: когда я поднимаюсь на второй этаж и на чёрной витрине нахожу список принятых в лётную школу.
Я читаю: «Власов, Воронов, Голомб, Грибков, Денисяк…» У меня темнеет в глазах: меня нет. Я снова читаю: «Власов, Воронов, Голомб, Грибков, Денисяк». Меня нет! Я набираю побольше воздуху, чтобы спокойно прочесть: «Власов, Воронов, Голомб, Грибков, Денисяк». Я смотрю на этот список, в котором есть, кажется, все фамилии на свете, кроме моей, и мне становится так скучно, как бывает, когда больше не хочется жить.
Под проливным дождём я возвращался домой. «Власов, Воронов, Голомб…» Счастливый Голомб!
Огромный мужчина, широкоплечий, с грубым лицом, какой-то Васко Нуньес Бальбоа, представляется мне, когда я произношу эту фамилию. Конечно! Куда же мне! Проклятый рост!
Петя открывает мне и пугается. Я – мокрый, бледный.
– Что с тобой?
– Петя, меня нет в списке.
– Врёшь!
Сёмина мама вылетает на кухню и спрашивает, не встретил ли я управдома. Я молчу. Я сижу в кухне на стуле, и Петя, опустив голову, грустно стоит передо мной.
Наутро мы вдвоём пошли в Аэромузей и нашли в списке мою фамилию. Она была в другом столбце, где тоже было несколько ребят на «Г» и Григорьевых даже два – Иван и Александр. Петя уверял, что я не нашёл её от волнения.
Время бежит, и вот я вижу себя в той же читальне Аэромузея, где мы сдавали испытания. Тринадцать человек, отобранных мандатной и медицинской комиссией, стоят в строю, и начальник школы – большой, рыжий, весёлый – выходит и говорит:
– Вниманье, товарищи учлёты!
Товарищи учлёты! Я – учлёт! Мурашки бегут у меня по спине, и кажется, что меня окунули сперва в горячую, а потом в холодную воду. Я – учлёт! Я буду летать! Я не слышу, о чём говорит начальник…
Время бежит. Мы приходим на лекции прямо с завода – Сёма Гинзбург устроил меня подручным слесаря на «Электросилу». Мы слушаем материальную часть, теорию авиации, моторы. Очень хочется спать после восьми часов на заводе, но мы слушаем материальную часть, теорию авиации, потом моторы, и только время от времени Миша Голомб, который оказался такого же маленького роста, как и я, заваливается ко мне за спину и начинает тихонько сопеть. Потом он начинает сопеть погромче, и я осторожно бью его головой о стол…
Мы учимся в лётной школе, но как не похожа она на то, что теперь называется лётной школой! У нас нет ни моторов, ни самолётов, ни помещения, ни денег. Правда, в Аэромузее стоит несколько старых, ободранных самолётов – при желании можно вообразить себя разведчиком на «Хавеланде» или истребителем на «Ньюпоре», летавшем, в последний раз на фронтах гражданской войны. Но на этих заслуженных «гробах» нельзя учиться.
Мы собираем моторы. С мандатом Осоавиахима, с великолепным мандатом, согласно которому мы имеем полное право снять со стены любую часть самолёта, мы ездим по всем красным уголкам Ленинграда. Иногда эти части висят и не в красных уголках, а где-нибудь в домкоме над столом бухгалтера, любителя авиации. Мы забираем их и увозим на аэродром. Иногда это происходит мирно, иногда со скандалом. Три раза мы с техником ездим в клуб швейников и доказываем заведующему, что старый мотор, который стоит у него в фойе, не имеет агитационного значения.
Как мы возимся со всем этим заржавленным утилем, когда он наконец попадает в наши руки! Мы чистим и чистим его, и потом снова чистим и чистим. Первые полгода мы, кажется, только и делаем, что чистим и собираем моторы. Мне это труднее, чем другим, – у нас почти все слесари и шофёры. Но я нарочно берусь за самую трудную работу. Навсегда, на всю жизнь я запоминаю левую плоскость самолёта «У-1», на котором мы учились. Это самое грязное место в самолёте – масло из мотора выбрасывается под левую плоскость, и я на пари мою её каждый день до окончания школы. Лёжа на спине, я снимаю грязь щепкой, потом щёткой, потом тряпкой, вода так и бежит по телу, от запаха касторки начинает мутить…
Разумеется, мы не очень-то похожи на будущих пилотов, особенно когда поздней ночью возвращаемся домой с аэродрома и весь трамвай начинает принюхиваться и смотреть на нас с негодованием. Но мы не смущаемся. Мишка говорит:
– От какого это дьявола так пахнет касторкой? Тьфу!
И демонстративно затыкает нос.
Наш день начинается очень рано – часов с семи утра. До десяти мы собираем моторы и по очереди объясняем Ване Грибкову, что такое горизонт. У нас был такой Ваня Грибков, которому вся школа объясняла, что такое горизонт. Потом приезжают инструкторы, и начинаются полёты.
Мой инструктор, он же начальник школы, он же заведующий материальной и хозяйственной частью, – старый лётчик времён гражданской войны. Это большой весёлый человек, любитель необыкновенных историй, которые он рассказывает часами; вспыльчивый и отходчивый, смелый и суеверный. Свои обязанности инструктора он понимает очень просто: он ругает меня, и, чем выше от земли, тем всё крепче становится ругань. Наконец она прекращается – первый раз за полгода!.. Это было великолепно! Минут десять я летел в замечательном настроении. Не ругается – как же я, должно быть, здорово веду самолёт! Несмотря на шум мотора, мне показалось, что я лечу в полной тишине, – непривычное состояние!
Но тут же я понял, в чём дело: телефон разъединился, и трубка болталась за бортом. Я поймал её и вместе с ней последнюю фразу:
– Лопата! Вам бы не летать, а служить в ассенизационном обозе!
Мой инструктор самую страшную ругань соединяет с вежливым обращением на «вы»…
Другой образ встаёт передо мной, когда я вспоминаю свой первый год в Ленинграде. На Корпусный аэродром каждый день приезжает Ч. У него скромное дело – на старой, не однажды битой машине он катает пассажиров. Но мы знаем, что это за человек; мы знаем и любим его задолго до того, как его узнала и полюбила наша страна. Мы знаем, о ком говорят лётчики, собираясь в Аэромузее, который был в те годы чем-то вроде нашего клуба. Мы знаем, кому подражает начальник школы, когда он говорит, немного окая, спокойным басом:
– Ну, как дела? Получаются глубокие виражи? Только, чур, не врать! Ну-ка!
Со всех ног мы бежим к этому человеку, когда после своих удивительных фигур он возвращается на аэродром, и зелёные, как трава, любители высшего пилотажа уползают чуть не на четвереньках, а он смотрит на нас из кабины без очков – лётчик великого чутья, человек, в котором жил орёл.
Вместе со стетоскопом, который оставил мне на память доктор Иван Иваныч, я всюду вожу с собой портрет этого лётчика. Он подарил мне этот портрет не в Ленинграде, когда я был учлётом, а гораздо позже, через несколько лет, в Москве. На этом портрете написано его рукой: «Если быть – так быть лучшим». Это его слова…
Так проходил этот год – трудный, но прекрасный год в Ленинграде. Он был труден, потому что мы работали через силу и получали сорок шесть рублей стипендии в месяц и обедали где придётся или совсем не обедали и, вместо того чтобы учиться летать, три четверти времени тратили на чистку и сборку старых моторов. Но это был прекрасный год, потому что это был год мечтаний, который как бы пунктирной линией наметил мою будущую жизнь, – год, когда я почувствовал, что в силах сделать её такой, какой я хочу её видеть.
Несмотря на то что у меня не было ни одной свободной минуты, я вёл нечто вроде дневника – запись некоторых мыслей и впечатлений. К сожалению, он не сохранился. Но я помню, что на первой странице была цитата из Клаузевица: «Маленький прыжок легче сделать, чем большой. Однако, желая перепрыгнуть широкую канаву, мы не начнём с того, что половинным прыжком прыгнем на её дно».
Это и была моя главная мысль в Ленинграде – двигаться вперёд, не делая половинных прыжков.
Время бежит и останавливается только на один день – в конце августа 1930 года. В этот день я сижу за богатым столом, за огромным столом, составленным из десятка других столов – разной высоты и формы. Высокие окна, стеклянная крыша. Это ателье фотографа-художника Беренштейна, у которого снимает комнату моя сестра Саня.
Глава втораяСАНИНА СВАДЬБА
Я бывал у Сани каждый выходной день и должен сказать – хотя, может быть, странно так говорить о сестре, – что она мне нравилась всё больше и больше. Она была какая-то весёлая, лёгкая и вместе с тем деловая.
Только что поступив в академию, она достала работу в детском издательстве. Комнату она сняла превосходную, и фотограф-художник с семьёй, для которого она тоже что-то делала, просто души в ней не чаял. Она постоянно была в курсе всех наших дел – Петиных и моих – и аккуратно писала за нас старикам. При этом она много работала в академии, и хотя у неё было не такое сильное и смелое дарование, как у Пети, но и она рисовала прекрасно. У неё была любовь к миниатюре – искусство, которым теперь почти не занимаются наши художники, и тонкость, с которой она выписывала все мелкие детали лица и одежды, была просто необыкновенная. Как и в детстве, она любила поговорить и, когда была задета чем-нибудь или увлечена, начинала говорить быстро и как-то так, что я в конце концов ничего не понимал, в чём дело. Словом, это была чудная сестра, и вот теперь она выходила замуж.
Разумеется, нетрудно догадаться, за кого она выходила, хотя из всех ребят, собравшихся в этот вечер в ателье художника-фотографа. Петя меньше всех был похож на жениха. Он спокойно сидел рядом с каким-то остроносым мальчиком и молчал, а мальчик всё наскакивал на него, точно хотел просверлить его своим носом. Я шёпотом спросил у Сани, кто этот остроносый, и она ответила с уважением:
– Изя.
Но мне почему-то не понравился этот Изя.
Вообще это была странная свадьба. Весь вечер гости спорили о какой-то корове – правильно ли, что художник Филиппов уже два с половиной года рисует корову. Будто бы он расчертил её на маленькие квадратики и каждый квадратик пишет отдельно. Я хотел сказать, что это просто больной, но Изя уже успел построить на этой корове целую теорию и даже назвал её с окончанием на «изм». На молодых никто не обращал внимания.
Я шёл на Санину свадьбу с торжественным чувством. Родная сестра выходит замуж – всё-таки это не так уж часто бывает! Утром мы получили большую телеграмму от судьи и тёти Даши на два адреса: жениху с невестой и копия – мне. Целый месяц я собирал для них маленький радиоприёмник. Но этим художникам всё было нипочём. Весь вечер они спорили о корове.
Впрочем, молодым было, кажется, весело, особенно Пете, который время от времени говорил: «Смешно!» – и оглядывался с довольным выражением. Саня была очень занята: тарелок не хватало, и гостей пришлось кормить в две смены.
Только на одну минуту она присела, раскрасневшаяся, захлопотавшаяся, в новом платье с прошивками, которое почему-то напоминало мне Энск и тётю Дашу. Я воспользовался этой минутой и встал.
– Внимание, тост! – с любопытством взглянув на меня, сказал Изя.
Все замолчали.
– Товарищи, во-первых, предлагаю выпить за молодую, – сказал я. – Хотя она мне сестра, но так как никому из гостей не приходит в голову, что нужно всё-таки за неё выпить, приходится этот тост предложить мне.
Все закричали «ура» и стали чокаться с Саней.
– Во-вторых, я предлагаю выпить за молодого, – продолжал я, – хотя по сути дела он должен был прежде выпить за меня. Почему? Потому, что именно я доказал ему, что он должен стать художником, а не лётчиком. Возможно, я открываю тайну, но это факт – он хотел стать лётчиком. Однажды мы спорили с ним об этом целый день, и он уверял меня, что совершенно не любит рисовать. Он боялся, что ему как художнику не удастся проявить все силы души.
Все захохотали, и я постучал ложечкой о стакан.
– Почему же я решил, что он должен стать именно художником? Очень просто: потому, что он показал мне свои картины. Могу удостоверить, что тогда его интересовал только один сюжет. – И я показал на Саню.
– Честное слово, всё врёт, – пробормотал Петя.
– Этот сюжет был изображён в самом разнообразном виде: в лодке, у плиты, на скамеечке у ворот, на скамеечке в саду, в пальто, без пальто, в украинской кофточке и в синем халате. Тут уж нетрудно было предсказать: во-первых, что когда-нибудь Петя станет художником, а во-вторых, что когда-нибудь мы соберёмся за этим столом и будем пить за наших молодых, что я и предлагаю сделать.
И я чокнулся с Саней и Петей и выпил свой стакан до дна.
Потом выпили за меня, а потом за Изю, и это было ошибкой, потому что Изя в ответ произнёс огромную речь с какими-то остроумными выпадами против художника Филиппова, над которыми он один и смеялся. Петька слушал его с довольным видом и всё говорил: «Смешно!», а потом вдруг побагровел и сказал, что Изя – «типичный ахрровский пошляк». «И притом бездарный пошляк», – добавил он, подумав.
Но Изя не согласился, что он бездарный пошляк, и я не знаю, чем кончился бы спор, если бы в эту минуту не пришёл Санин профессор, очень почтенный, с прекрасной чёрной бородой. Все побежали к нему навстречу, и спор прекратился.
Однажды я уже видел настоящего профессора в Зоопарке. Но этот мне понравился больше. В два счёта он напился и сказал мне, что всегда хотел стать авиатором, ещё во время войны 1914 года. Потом он обнял Саню и целовал её несколько дольше, чем это полагалось профессору с такой прекрасной, почтенной бородой. Потом лёг на диван и заснул.
Словом, на Саниной свадьбе было очень весело, но в глубине души я чувствовал тоску, в которой сам себе не хотел признаться. Художники казались мне какими-то странными – и это очень понятно, потому что у меня была другая жизнь и другой круг интересов. Впрочем, кажется, то же самое и они думали обо мне – я почувствовал это во время моей речи.
Но была и другая причина, заставлявшая меня тосковать. И Саня догадалась о ней, потому что, когда профессор, проснувшись, объявил во всеуслышание, что до защиты диплома он запрещает Сане выходить замуж, и все с хохотом окружили его, она тихонько поманила меня, и мы вышли на кухню.
– А тебе привет… Знаешь от кого?
Я сразу понял, от кого, но сказал спокойно:
– Не знаю.
– От Кати.
– В самом деле? Спасибо.
Саня посмотрела на меня с огорчением. Она даже немного побледнела от огорчения и рассердилась на меня, – конечно, она прекрасно видела, что я притворяюсь.
– Ты всё врёшь! – сказала она быстро. – Подумаешь, какой Чайльд-Гарольд нашёлся! Пожалуйста, не смей мне врать, особенно сегодня, когда моя свадьба. Я ей напишу, что ты целый день просил у меня это письмо, а я не дала.
– Ничего я у тебя не прошу.
– Ты просишь в душе, – убеждённо возразила Саня, – а внешне притворяешься, что тебе безразлично. В общем, я могу тебе его дать, только последней страницы не читай. Ладно?
Она сунула мне в руки письмо и убежала. Конечно, я прочитал письмо, а последнюю страницу – три раза, потому что там шла речь обо мне. Вовсе Катя не просила передать мне привет, а просто спрашивала, как мои дела и когда я кончаю школу. На вид это было обыкновенное письмо, а на самом деле – очень грустное. Там было, например, такое место:
«Теперь четыре часа, у нас уже темно, и я вдруг заснула, а когда проснулась, то не могла понять, что случилось хорошее. Оказывается, мне приснился Энск и будто тётки одевают меня в дорогу…»
Я несколько раз прочитал это место, и наш отъезд из Энска, памятный на всю жизнь, представился мне. Я вспомнил, как тётки вслед уходящему поезду кричали свои наставления и как я потом перешёл в Катин вагон и мы стали смотреть, чтó старики положили в наши корзины. Маленький небритый сосед гадал, кто мы такие, и Катя стояла рядом со мной в коридоре. Она стояла рядом со мной, и я смотрел на неё и говорил с ней, – как это трудно было вообразить теперь, когда она была так далеко…
Я не слышал, как вернулась Саня.
– Прочитал?
– Саня, напиши ей, пожалуйста, что мои дела очень хороши, что школу я кончаю в октябре, а потом… Ещё не знаю куда. Буду проситься на Север.
– Сейчас же садись и напиши ей всё это сам!
– Нет, я не буду.
– А я тебя не отпущу, пока не напишешь!
– Саня!
– Вот я сейчас позову Петьку, – серьёзным голосом сказала Саня, – и вообще всех, и мы станем на колени и будем тебя уговаривать, чтобы ты написал, потому что мы считаем, что ты поступаешь жестоко.
– Саня, иди ты к чёрту! Ты просто пьяна. Ну, я пойду.
– Куда? Ты с ума сошёл?
– Нет, пойду. Поздно, а завтра рано вставать.
И вообще…
Я не сказал, что «вообще», но она поняла и на прощанье сочувственно поцеловала меня в щёку.
Глава третьяПИШУ ДОКТОРУ ИВАНУ ИВАНЫЧУ
Я сердился на Катю, потому что перед отъездом из Москвы хотел проститься с ней и написал ей письмо. Но она не ответила и не пришла, хотя знала, что я уезжаю надолго и что, может быть, мы не увидимся никогда. Конечно, я больше не стал ей писать. Что ж, наверно, Николай Антоныч уже успел уверить её в том, что я оклеветал его «самой страшной клеветой, которая только доступна человеческому воображению», и что я – «мальчишка с нечистой кровью», из-за которого умерла её мать.
Ладно, всё ещё впереди! У меня кружилась голова, когда я вспоминал об этой сцене.
Что же мог я сделать в Ленинграде, работая на заводе с восьми до пяти и в лётной школе – с пяти до часу ночи?
Зимой, до полётов, мы занимались в читальне Аэромузея. И вот однажды я спросил завмузеем, не знает ли он чего-нибудь о капитане Татаринове. Нет ли в библиотеке каких-либо книг или его собственной книги «Причины гибели экспедиции Грили»?
Не знаю почему, но завмузеем отнёсся к этому вопросу с большим интересом. Кстати сказать, он был одним из организаторов нашей лётной школы, и учлёты постоянно обращались к нему со всеми своими делами.
– Капитан Татаринов? – переспросил он с удивлением. – Ого! Это здóрово! А почему это тебя интересует?
Чтобы ответить на этот вопрос, мне пришлось бы рассказать ему всё, что вы прочитали. Поэтому я ответил коротко:
– Я вообще люблю читать путешествия.
– Но об этом путешествии как раз почти ничего не известно, – сказал завмузеем. – А ну-ка, пойдём в библиотеку.
Конечно, без него я бы ничего не нашёл, потому что всё это были отдельные статьи в газетах, а книга только одна – маленькая брошюра в двадцать пять страниц, под названием «Женщина на море». Оказывается, капитан написал не только об экспедиции Грили.
Что же это была за книга? Я прочёл её два раза и решил, что это интересная книга, особенно если вспомнить, что её написал морской офицер. И когда! В 1910 году, при царизме.
В этой книге доказывалось, что женщина может быть моряком, и приводились случаи из жизни рыбаков на побережье Азовского моря, когда женщины вели себя в опасных случаях не хуже мужчин и даже ещё смелее. Капитан утверждал, что «недопущение женщин к профессии моряка» приносит, вопреки распространённому суеверию, много бед морякам, принуждённым надолго отрываться от оставленных на берегу семейств, и что в будущем он видит на борту корабля «женщину-механика, женщину-штурмана, женщину-капитана».
Читая эту брошюру, я вспомнил пометки капитана на путешествии Нансена и его докладную записку об экспедиции к Северному полюсу в 1911 году, и мне впервые пришло в голову, что это был не только смелый моряк, но человек с необыкновенно ясной головой и с широкими, передовыми взглядами на жизнь.
Но авторы некоторых статей, очевидно, думали иначе. В «Петербургской газете», например, какой-то журналист выступал против экспедиции на том основании что Совет министров «отклонил просьбу капитана Татаринова об ассигновании необходимых средств». Между прочим, эта статья была написана таким языком: «…ввиду того, что, по удостоверению заинтересованных ведомств, соображения об условиях практического осуществления обсуждающегося путешествия представляются недостаточно обоснованными, причём вообще намечаемая экспедиция капитана Татаринова носит непродуманный характер, Совет министров признал, что правительству через представителя Морского ведомства следует высказаться за отклонение сего предположения».
В другой газете я нашёл интересное фото: красивый белый корабль, напомнивший мне каравеллы из «Столетия открытий». Это была шхуна «Св. Мария». Она выглядела тонкой, стройной, слишком тонкой и стройной, чтобы пройти из Петербурга во Владивосток вдоль, берега Сибири.
В следующем номере той же газеты был напечатан ещё более интересный снимок: судовая команда шхуны. Правда, очень трудно было что-нибудь разобрать на этом снимке, но самое расположение фигур и то, что капитан сидел посередине, скрестив руки на груди, – всё это показалось мне очень знакомым. Где я видел этот снимок? Конечно, у Татариновых, среди других старых фото, которые когда-то показывала мне Катя. Но я продолжал вспоминать. Нет, не у Татариновых! У доктора Ивана Иваныча – вот где я его видел!
В двадцать третьем году, когда я выписался из больницы, я зашёл к нему проститься. Он уезжал на Север, и вот тогда-то, укладывая чемодан, он и выронил это фото. Я подобрал его, стал рассматривать и спросил, почему доктора нет среди судовой команды, а он ответил:
«Потому, что я не плавал на шхуне «Святая Мария». – А потом взял у меня карточку и добавил : – Это у меня от одного человека осталось на память…»
Кто же этот человек?
И вдруг у меня мелькнула одна простая мысль. Но вместе с тем это была и необыкновенная мысль, которую мог подтвердить только сам доктор Иван Иваныч. Я тут же решил написать ему. Прошло около семи лет с тех пор, как он уехал из Москвы, но я почему-то был совершенно уверен, что он жив и здоров и так же читает стихи Козьмы Пруткова, и так же, разговаривая, берёт со стола какую-нибудь вещь и начинает подкидывать её и ловить, как жонглёр.
Вот что я ему написал:
«Уважаемый Иван Иваныч!
Это пишет вам «интересный больной», которого вы когда-то излечили от «слухонемоты», как вы определили. Помните ли вы меня ещё или уже нет? Уезжая на Север, вы просили меня написать, что я делаю и как себя чувствую. И вот теперь, через семь лет, собрался наконец исполнить обещание. Я чувствую себя хорошо. Теперь я учлёт, учусь в лётной школе Осоавиахима и надеюсь когда-нибудь прилететь к вам на самолёте. Пишу вам, между прочим, по делу: когда я был у вас в Москве, вы держали в руках фотокарточку с изображением судовой команды шхуны «Св. Мария» – капитан Татаринов, вышла из Петербурга в мае 1912 года, пропала без вести в Карском море осенью 1913 года. Помните, вы сказали, что это фото вам оставил на память какой-то человек, а кто именно, не сказали. Мне очень важно знать, кто этот человек. Конечно, вы вправе спросить: а почему это тебя интересует? Отвечу кратко: меня интересует всё, что касается капитана Татаринова, потому что я знаком с его семейством и для меня очень важно представить этому семейству правильную картину его жизни и смерти.
Буду очень благодарен, если вы ответите мне. Проспект Рошаля, 12. Аэромузей, Лётная школа Осоавиахима.
С приветом Александр Григорьев».
Мог ли я рассчитывать, что получу ответ? Может быть, доктор уже давно вернулся в Москву? Может быть, переехал ещё дальше на север? Или просто забыл меня и теперь читает письмо и не может понять – какое фото, какой Григорьев?