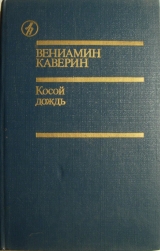
Текст книги "Косой дождь"
Автор книги: Вениамин Каверин
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 6 страниц)
16
Они ночевали в Сорренто после длинного дня, необычайного уже потому, что это был только один день, в течение которого можно, оказывается, увидеть так много! Сева сразу уснул. Токарский вышел на балкон. Внизу под прозрачными квадратами крыши мелькали тени, слышался стук посуды – там была кухня. Приглушенные голоса казались голосами теней.
Он умылся, разделся и лег. Постель была широкая, пустая. Он вспомнил, как Наташа однажды отвернулась от него в такой же широкой постели и долго лежала молча, лицом к стене. Она часто его просила рассказывать о войне, но у них никогда не было времени, потому что они встречались тайно и говорили только о том, как не хочется лгать и как они любят друг друга. Зато потом, когда все устроилось и они уехали в Углич, он рассказал ей все. Нет, почти все, потому что они по-прежнему много говорили о любви и времени по-прежнему не хватало. Она отвернулась, когда он рассказал о попе, хотя ничего особенного не было в этой истории, в общем довольно смешной или казавшейся смешной на войне. Поп выступал по радио очень близко, едва ли не перед нашим боевым охранением. Он читал, пел и снова читал, и действительно можно было сойти с ума, потому что это продолжалось с рассвета до ночи. Разведчики злились, и, может быть, никому не пришло бы в голову охотиться за «благочинным», как они его называли, если бы они не сидели без дела. В конце концов они утащили попа, когда, забывшись, он довольно близко подошел к нашему проволочному заграждению. Он был тяжелый, отбивался отчаянно. Потом он молча сидел, уставившись на свои пьексы. На нем был бархатный плащ и зеленая, вытканная парчой шапочка с какой-то финской эмблемой. На медальоне тоже была эмблема – львица с женской головой, держащая в лапе кольчугу. Его сразу отправили в батальон.
Цикады звенели в саду, и Токарский подумал, что у итальянских цикад, должно быть, свой язык, наши, крымские, не поняли бы, пожалуй, ни слова. Наши, крымские, звенели в Долоссах, где он ждал Наташу. Она приходила после мертвого часа и уходила с закатом – ей нельзя было оставаться на воздухе после заката. Она пела ему, но все тише, потому что ей нельзя было петь. Ничего нельзя было теперь, когда им не нужно было притворяться, проклинать свою несвободу, по очереди выходить из дома, где они тайком встречались, звонить друг другу из автомата. Она пела о знатной леди, которая, услышав цыганку под своим окном, заплакала и ушла из дома. Цикады звенели. Ушла и не вернулась. Ушла, закутав горло шарфом, который Токарский подарил ей зимой и о котором она сказала, что он очень красивый, но вообще-то мужской. Очень красивый, и она непременно будет его носить, но вообще-то мужской.
17
Ткачиха, которая спросила: «А где тут у вас Испания?», проплакала всю ночь. «У меня только пять классов, и мы Испанию не проходили. А может, и проходили. Разве упомнишь? Так нужно было объяснить, а не смеяться. Меня учить надо. Ну и что же, что пятьдесят три? А когда мне было учиться? Будто я не хотела, господи! А потом война, на Урал повезли. Было ли там время учиться? Высадились – ни кола ни двора. Это не интеллигенция, если над человеком смеяться. Легко ли было Ирку вырастить, из такой девки человека сделать! Теперь в ОТК работает – шутка ли? Директор сказал: «Вам, Ольга Петровна, нужно звание героя присвоить за то, что вы из такой – как бы это выразиться – человека вырастили». Когда же мне было учиться? Тут и знаешь что, так забудешь. Испания! Упомнишь тут, как же!»
– Вы что, Ольга Петровна? Не спится?
– Да так что-то, раздумалось. Скоро усну. Я вам мешаю?
18
Валерия Константиновна начала привыкать – можно было, оказывается, жить и без чемодана! Она купила самое необходимое в Сорренто; – даже кофточку вязаную, очень хорошенькую, неопределенно нежного цвета. Это было встречено с торжеством. Ее хвалили; другая, оставшись без чемодана, ныла бы с утра до вечера, а она ничего. Молодец! И она действительно чувствовала себя молодцом. Токарский смеялся и говорил, что ее чемодан прихватил молодой человек, летевший вместе с ними на ТУ-104 в Африку и что теперь ночную рубашку Валерии Константиновны донашивает вождь племени Мяу-Мяу.
Она любила людей, искренне интересовалась ими, и товарищи по группе нравились ей. А ведь могло быть совершенно иначе! Она догадывалась о молчаливой вражде между Аникиным и Токарским, чувствуя, что дело касается не только вопросов искусства, но простой порядочности, которой Аникину, кажется, не хватало.
И отношения между супругами Аникиными постепенно открылись Валерии Константиновне, хотя оба, муж и жена, очень хлопотали, чтобы они не открылись.
Сперва казалось, что в подчинении находится он – по мелким полушутливым стычкам, в которых он немедленно уступал. Но два-три слова, сказанные сквозь зубы, злобный взгляд из-под опущенных век – нет, отношения были страшные, быть может, те самые, от которых Валерия Константиновна сознательно отказалась.
Ей нравился Сева с его вспыльчивостью и прямотой, с необычайно острым интересом к тому, что происходило по правую и по левую сторону автобуса – к сожалению, одновременно.
Ей повезло. Только две первых ночи она делила номер с костлявой, слишком много и складно говорившей соседкой – профессором истории, как это выяснилось вскоре. А потом оказалась с Анечкой – гидом общества «Ромеа» – полурусской-полуитальянкой. Несмотря на усталость, они каждый вечер подолгу разговаривали, лежа в постелях. Анечка была высокая, тонкая, с ненакрашенными губами, скромная, что не мешало ей ходить животом вперед, как живые манекены фирмы Диора. Она легко уставала, бледнела, но то, что считала своей обязанностью, исполняла пунктуально. С туристами она поехала впервые и сперва терялась, что-то путала, просила, чтобы ее поправляли.
Она сказала Валерии Константиновне, что в русских не чувствуется боязни за завтрашний день. Почему? Ей хотелось бы знать. Может быть, потому, что они так долго, четыре десятилетия, обеспечены постоянной работой? И правда ли, что в Советском Союзе разводиться легко, а выходить замуж не страшно?
– А у вас страшно?
– О да!
И Анечка объяснила, что в Италии можно разойтись только с благословения папы.
Словом, все было хорошо еще и потому, что, думая о людях, с которыми ее свела судьба, Валерия Константиновна невольно думала и о своей судьбе, сравнивала, взвешивала, проверяла. Хуже было с Италией, которая проходила мимо нее, как в немом кино – легко и бесшумно. «Записывай, мам». Она еще ничего не записала. С каждым днем она все больше убеждалась, что та воображаемая поездка с Игорем и была ее отдыхом, о котором толковали врачи. Она никуда не уехала из Москвы.
19
Сады были огорожены прохладными соломенными щитами. Апельсины лежали на земле, никто не подбирал их. Валерия Константиновна и Токарский пошли на берег и долго стояли в сумраке, глядя на рыбачью лодку с огоньком, медленно двигавшуюся в мягкой тишине моря.
Пение послышалось вдалеке. Они прислушались: рыбаки, может быть? Потом забыли...
Токарский заговорил о попутчиках, как бы разделившихся на небольшие отдельные группы людей, симпатизирующих друг другу. В стороне были только Аникины. Жена неприятно гордилась мужем и была преувеличенно любезна.
– И это скульптор, человек искусства, – с презрением сказал Токарский. – У нас людей искусства почему-то часто считают незаслуженно богатыми, высокомерными, думающими только о себе. Между тем таких, как Аникин, не так уж и много. Вы заметили, что он первый никому не подает руки?
– От гордости?
– От неуверенности.
– Вот кто мне нравится – Сева.
– И мне.
– Очень смешной. Сердится, когда женщины начинают говорить о кофточках и сумках, и всем рассказывает, что недавно женился. «Я вам говорил, что мою жену зовут Катя?»
Валерия Константиновна засмеялась.
– Да, хороший парень.
«И ты хороший, – подумала Валерия Константиновна, глядя на Токарского, который казался в темноте похожим на Пана, со своим животом, со своей большой, лысеющей со лба головой. – И умный».
Токарский держался ровно со всеми, а с Валерией Константиновной не только ровно, а как-то еще, быть может, потому, что догадывался, что нравится ей. Она не волновалась, но иногда начинала чувствовать себя как в игре, когда нужно найти спрятанную вещицу, и едва приближаешься к ней, все начинают кричать: «Горячо, горячо!»
Они вернулись, когда религиозная процессия поравнялась с отелем. Впереди с открытым лицом шел, высоко подняв крест, молодой монах, за ним – несколько пожилых. Потом шли люди очень маленького роста, может быть, дети, – в белых куклуксклановских капюшонах, оставляющих только круглые, страшные дырки для глаз. Одни несли в руках небольшие кресты, другие – молоток, лесенку, гвозди. Среди них шел юноша монах с грубым бронзовым лицом, горбоносый, державший в руке длинный прут, которым он выравнивал ряды и подгонял отстающих. Они громко пели. Валерия Константиновна поняла, что это и было то пение, которое все время медленно приближалось к ним, пока они стояли над морем.
– Какие страшные! Это иезуиты?
– Не думаю. Спросите Анечку.
Но Анечка тоже не знала, хотя в каждой церкви преклоняла колени и быстренько, мимоходом крестилась.
На маленькой площади у церкви народ ждал процессию, огибавшую Сорренто. Пение приблизилось, не торжественное, как прежде, а напряженное, слишком громкое, как будто теперь пели, настаивая на чем-то требовательно, непреклонно. Дети несли свои кресты и лестницы на плечах, спотыкаясь от усталости, и суровому юноше монаху приходилось то и дело выравнивать их прутом.
– Церковная самодеятельность, – сказал Токарский.
Он заговорил о католицизме. Прошло время, когда гении человечества служили Ватикану, когда католичество было для них поприщем, привычной ареной. Обыкновенность религии, которая всегда была ее силой, теперь становится слабостью – в храмах меньше молящихся, чем туристов. И здесь, в Сорренто, где какой-то орден устроил эту процессию, религия – тоже зрелище, а не подвиг.
Валерия Константиновна слушала с интересом, хотя ничего не понимала в католичестве и неясно представляла себе, чем оно отличается от православия. Ни хотелось только одного: чтобы Токарский долго говорил, а она слушала и кивала.
На другой день с утра поехали на Капри. На носу маленького катера она сидела под солнцем, под ветром, слушая и не слушая плещущий шум, который шел отовсюду. Казалось, что он и был этим ветром и солнцем, этой длинной, полупрозрачной медленной дымкой, протянувшейся вдоль острова, мимо которого они проходили.
Подъехали – и лодочники, смуглые, загорелые, перекликаясь, окружили катер. Все блестело и переливалось вокруг, очерченное резко, отчетливо, смело. Смуглая красавица в соломенной широкополой шляпе с красными лентами стояла в лодке, заваленная разноцветными сумочками, корзинками, держа их в руках, не замечая всего этого смеющегося, блистающего, сливающегося с морем великолепия.
Теперь Капри уже не был, как прежде, голубоватым облачком, опрокинувшимся над горизонтом. Он был, оказывается, большой, с высокими скалами, срывающимися в море. Темная узкая дыра под одной из этих скал была входом в Лазурный грот – чтобы проехать туда, нужно было лечь на дно лодки. Сняв весла и положив их вдоль бортов, лодочник стал быстро перебирать протянутый вдоль стены канат, втягивая лодку в шевелящуюся, темную с проблесками, фантастическую глубину. Там толпились в тесноте другие лодки и были слышны гулкие веселые голоса. Теперь можно было сесть на скамеечку, и Валерия Константиновна ахнула, увидев глубокие ниши грота над тяжелой колеблющейся зеленью воды. Свет проникал через узкое отверстие входа и воздушно рассеивался, соединяя, пронизывая легкие залы. Темно-прозрачные зайчики переливались на стенах, тени таяли в изумрудной воде.
Вернулись, дождавшись очереди и ловко проскользнув в ту единственную секунду, когда расступились другие лодки. Снова все стало ярко, ослепительно, разноцветно – блеск солнца на волнах, качающиеся катера, давешняя красавица над грудой разноцветных корзинок и шляп и сама в кокетливо надетой на затылок шляпе, перекликающиеся лодочники и среди них тот невысокий, крепкий, молодой, который возил их в грот и которому Сева дал не сто лир, как посоветовала Анечка, а, сильно покраснев, двести.
На Капри Валерия Константиновна открыла местечко, о котором давно мечтала, и побежала к женщинам сообщить, что за пятьдесят лир можно не только умыться, но и принять душ. Она не стала заходить в магазины, а пошла по длинной, вдоль моря, улице, где за цветущими изгородями прятались тихие дома и после шума тесной, маленькой площади было удивительно тихо. Потом Токарский жалел, что не пошел с ней.
Всем хотелось посмотреть виллу Горького, но гид повел их в дом шведского писателя – Валерия Константиновна немедленно забыла фамилию. Гид сказал, что ему принадлежит «Жизнь святого Михаила», потому что «это есть книга, которую он создал, то есть написал». В саду на высокой площадке стояла подзорная труба. Валерия Константиновна пожалела двадцать лир, хотя лира – это было очень мало: и без трубы были отлично видны крошечные лодочки на переливающейся равнине моря и крутые, точно срезанные, похожие на Крымский хребет серые скалы.
Катер отходил, пора было возвращаться на пристань.
– До свидания по-русски, до свидания по-русски! – весело кричал на пристани гид. Это значило: «Русские, торопитесь».
Токарский шутил за обедом, уговорил Ларису взять не аранчату, которую подавали в маленьких бутылочках, а вино. Это было кьянти, не кислое, которое привезли ей в прошлом году ее друзья Чупровы, а необычайно вкусное – «круглое», как выразился Токарский. Валерия Константиновна смеялась.
Потом, уже в номере, она с ужасом вспомнила, как в ресторане он с порога искал ее глазами и как ей хотелось, чтобы он сел рядом с ней. И не только сел рядом, но решился бы на большее, о чем она не могла не думать, вытянувшись на чистой постели, перебирая в памяти этот летящий, воздушный, ослепительный день. Боже мой, только этого не хватало! Нет, нет! Нужно держаться в стороне от него. И с разгоревшимися щеками она стала думать о Токарском нарочно холодно, пока не заснула.
20
Войны заняли немалое место в жизни Токарского – не по времени, а по значительности того, что прошло перед его глазами.
После Отечественной войны он остался в армии еще на несколько лет – по инерции, с которой ему не хотелось бороться. Но была и другая, более серьезная причина: ему не повезло с женой, властной, избалованной, отвадившей его друзей и заменившей их людьми тонкими, но скучными, среди которых он казался самому себе слишком большим, неповоротливым, неостроумным. Он уезжал от нее в деревню, если удавалось, – надолго, месяца на три. В годы войны ему казалось, что он убежал от нее на войну.
Друзья жены были музыкантами, она сама в молодости училась в консерватории, но «переиграла руку». Эта «переигранная» рука, эта почти фантастическая слепота по отношению к чужой жизни и глубокое, проникновенное внимание к себе, конечно, давно свели бы Токарского с ума, если бы он не встретил Наташу. Тогда все это стало сводить с ума их обоих.
Долгое время он старался не говорить с ней о своей семейной жизни. Но как молчать о том, что мешало ему жить, верить, наслаждаться, говорить правду? Ему, сорокапятилетнему сильному человеку, любящему жизнь, сохранившему остроту молодых впечатлений? Как молчать, если приходилось встречаться тайно – и хорошо еще, если в комнате на Серпуховке, у старой, все понимающей учительницы рисования, с которой Токарский был знаком много лет. К сожалению, учительница часто болела, и тогда они бродили по переулкам, целовались в подъездах.
Потом все устроилось, он ушел от жены. Все устроилось. Они прожили почти полгода в Угличе, потом расстались – в Долоссах, у ворот туберкулезного санатория, куда его не пустили.
...Он не только постоянно думал о Наташе, но мысленно разговаривал с ней, когда что-либо острое, оригинальное, новое удивляло или восхищало его. Так было после «Сладкой жизни», когда ему смертельно захотелось рассказать ей о своем впечатлении. В Помпее, напоминавшей ему Чуфут-Кале, его поразила вещественность, обыкновенность жизни, оборвавшейся вместе с катастрофой. С горьким чувством он подумал, что об этом не узнает Наташа.
В полусохранившемся доме богатых купцов гид – не та милая Анечка, которая ездила с ними, а другой, помпейский гид, сморщенный, кирпично-красный старик с крючковатым итальянским носом, провел его в комнату, которую показывали только мужчинам: сохранившаяся стенная роспись изображала сцены любви.
– Ничего нового, – выходя, сказал гиду Токарский.
– И не нуждается в объяснениях, – добавил гид на плохом английском языке.
...Об этом он рассказал бы Наташе ночью, когда казалось непостижимым, что между ними снова может произойти это чудо, это счастье, без которого они не могли и не хотели жить. Он рассказал бы, какая свободная, веселая, доверчивая жизнь представилась ему, когда он увидел эти маленькие сады внутри каждого дома, сады, из которых в дом шли воздух и свет. Но ей ничего нельзя рассказать. Он живет, а она умерла. Он смеется и шутит. Поехал в Италию. И знает, что нравится Валерии Константиновне, умной, чем-то озабоченной, с маленькими руками и ногами, не умеющей кокетничать и почему-то переставшей садиться с ним за один стол в ресторанах. «Может быть, я ее обидел? Нет, это что-то другое. Она все время думает о своем и, в сущности, грустна, хотя часто смеется. Она, как девочка, расстроилась, ничего не записав о Помпее, и рассердилась, когда я сказал, что записывают только женщины и главным образом то, что можно найти в любой популярной книге. Завтра я объясню ей, что записывать надо не то, что видишь, а то, что чувствуешь. Я скажу ей, что мне без нее скучно. Ох, как не хочется, чтобы все было так, как тысячу раз уже было».
Этот маленький театр в Помпее под открытым небом! Как весело, как умно он решен! С каким вдохновеньем!
«Есть лица – подобья ликующих песен...» Театр в Помпее был похож на это стихотворение:
Есть лица, подобные пышным порталам,
Где всюду великое чудится в малом.
Он построен, как умное, открытое человеческое лицо. Слово за словом Токарский вспомнил стихи до конца:
Есть лица – подобья ликующих песен.
Из этих, как солнце, сияющих нот
Составлена песня небесных высот.
21
В Неаполе до поезда остался целый час, и туристы пошли куда глаза глядят – сперва поискали и не нашли морскую станцию, потом попали на базар и остановились оглушенные, с разбежавшимися глазами.
В лавочке, которая была еще и кафе и лотерейной кассой, мужчины играли в настольный футбол, с треском ударяя по мячу деревянными раскрашенными человечками. Веселый парень в проломленной шляпе ругал премьер-министра – как с изумлением перевела Лариса, – одновременно приглашая испытать о счастье на рулетке, которую он запускал с ловкостью акробата.
Кричали все, кроме обезьяны, которая сидела, прикорнув в повозке фокусника, прикрывая желтыми веками усталые глаза, широкие, как на рублевских иконах. Ряды лавок были завалены лежащим на земле и висевшим в воздухе товаром. Нарядные куклы с удивленными лицами сидели среди кухонной утвари. Вязаные кофточки, о которых так много говорили женщины, грудами лежали на прилавках – зеленые, сиреневые, бежевые, голубые.
В этой не привычной для северного глаза резкости красок сильнее других был оранжевый цвет – От апельсинов, которые были сложены в горы. Толстые спокойные женщины и черные небритые мужчины с орлиными носами были как бы вписаны в этот оранжевый фон.
Они прошли еще пол-улицы и среди всей этой дьявольщины красок, толкотни, криков, смеха наткнулись на круглый шатер, под которым стоял толстяк с вдохновенным лицом, оравший громче всех на этом шумном базаре.
– Вы на меня сердитесь? – спросил Токарский.
Валерия Константиновна сделала вид, что не слышит.
– Вам не кажется, Алексей Александрович, – спросила она, – что именно так в библейские времена проповедовали пророки?
– Нет, не кажется. Я очень рад.
– Чему?
– Тому, что вы не умеете притворяться.
– Чему же вам-то радоваться? Умею, кстати.
Действительно, что-то пророческое было в неистовых воплях, в этой страсти, с которой толстяк убеждал, умолял, заклинал купить вышедшие из моды штаны. Достаточно было задуматься, и, выхватив из разноцветной груды сорочку, кофточку, пуловер, он ловко сворачивал вещицу и швырял ее растерянному, оглушенному покупателю. И тот платил, смеясь. Что делать?
Сева заговаривал со всеми. Токарский не мог без смеха смотреть на его порозовевшее от возбуждения лицо. Это был краешек той Италии, которую он прежде видел только в кино. Он разговорился с продавцом птиц и отдал ему все свои значки, узнав, что его дочку зовут Катя. Не Катарина, как предположил Сева, а именно Катя.




