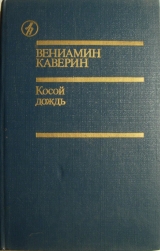
Текст книги "Косой дождь"
Автор книги: Вениамин Каверин
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц)
10
У Игоря было страстное, нетерпеливое воображение, но он любил и умел добиваться ясности, доказывать, сопоставлять. Почему у матери становилось напряженное лицо, когда он начинал говорить об отце? Он помнил, какие странные, неловкие возражения приводила она, когда Игорь убеждал ее, что должен носить фамилию отца: «Дядя обидится», «Листенев – красивая фамилия». Почему она не пыталась найти его? Разве не возвращаются пропавшие без вести?
Что-то неопределенное, недосказанное вставало между ними, когда она нехотя, с принуждением отвечала на его расспросы, и теперь Игорю казалось, что эта осторожность, недосказанность связаны с той порой, когда все, происходившее в стране, объяснялось магической деятельностью лишь одного человека. Ведь, думая таким образом, люди непременно должны были притворяться и лгать. Разве они не притворялись, например, веря тому, что все арестованные виновны? Может быть, отец попал в плен и сперва был в немецком концлагере, а потом, как многие военнопленные, в нашем? Может быть, он пропал без вести не на фронте, а где-нибудь в лагере или в ссылке?
Мать скрывала от него что-то важное, и это началось очень давно. Когда он был еще совсем маленький, она вдруг вскакивала по ночам и в темноте трогала его рукой: «Ты здесь?» Точно он мог исчезнуть, растаять. Это было одно из первых детских воспоминаний. Другое воспоминание сохранилось, потому что в этот день он впервые догадался, что взрослые думают, что он еще ничего не понимает, в то время как он давно все понимал. Он играл на полу, а мама и тетя Ирина разговаривали о человеке, которого мама называла «он». «Он» может найтись, вернуться, приехать, написать.
– Что тогда?
– Ответишь.
– А если приедет?
– Выставишь, – сказала тетя Ирина.
Это было особенно странно, потому что до сих пор мама выставляла на холод, за окно, только мясо и масло.
11
Он понял, что нужно делать, увидев в кино, как сталинградцы, оборванные, измученные, худые, шли домой, толкая перед собой детские колясочки с узлами. Города не было, но они все-таки шли. Потом был показан новый город, и те же люди, улыбающиеся, веселые, сидели за столом в новой квартире.
Игорь знал от матери, что отец до войны жил в Мурманске, на улице Сталина. Немцы сбросили на Мурманск больше бомб, чем на Мальту. Город сгорел, и не было никакой надежды, что сохранился именно тот дом, в котором жил отец. Но, может быть, его родные вернулись в Мурманск? Может быть, на улице, которая называлась теперь улицей Ленина, еще помнят его отца? Были же у него родные, знакомые, товарищи по школе?
Он ничего не скрывал от матери, но о своем плане не сказал ей ни слова. И не только потому, что, когда Игорь начинал говорить об отце, между ними возникало неловкое чувство, но потому, что матери, так же как и любому взрослому, план показался бы бессмысленным и неосуществимым.
Он заключался в том, что Игорь решил опросить всех жителей той улицы, на которой до войны жил отец. Каждую неделю он отправлял в Мурманск открытку, а то и две – это зависела от состояния бюджета. Он начал посылать их, когда ему было тринадцать лет. К марту 1961 года ему удалось выяснить, что в первых пяти домах никто не знает о лейтенанте Свечкине, служившем на одной из батарей Северного морского флота и пропавшем без вести, по-видимому, во время октябрьского наступления 1944 года. Продав свой атлас мира, который был ему, в сущности, не так уж и нужен, Игорь перешел к дому номер шесть. Летом он подработал на пилораме и мог посылать по три, а то и по четыре открытки в неделю. Ответы были сочувственные, но неопределенные. Однако, согласно теории вероятности, позволяющей по вероятностям одних случайных событий находить вероятности других, связанных каким-либо образом с первыми, он должен был найти людей, которые знали или хотя бы слышали об отце.
12
Аникину не очень хотелось ехать, и он бы не поехал, если бы не жена, которая скулила, что ездили и Гудисы и Черенковы. Впрочем, у него была сейчас тихая полоса, когда его временно оттеснили. Ну да ладно, он свое возьмет! А сейчас можно и прокатиться.
Еще в Москве, присматриваясь к группе, он решил, что разрешит приблизиться к себе только старосте – разумеется, на время поездки. И надо, чтобы Варя тоже вела себя сдержаннее, тем более что эти бабы полезут к ней и уже, кажется, лезут. Руководитель, который должен был ждать их в Риме, уехал в Москву, и, когда староста, которому не хотелось заниматься распределением номеров, что-то нерешительно заблеял, Аникин решил позвонить консулу. На самом деле он хотел повидаться с консулом в надежде, что тот устроит ему пресс-конференцию, – это было бы естественно, потому что итальянцы, без сомнения, знают его и встретятся с ним очень охотно.
Консул принял его и согласился, что без руководителя ездить по Италии неудобно. Аникин заговорил о пресс-конференции и встретил вежливое сопротивление. Да, разумеется! Это было бы так естественно! К сожалению, времени мало. Он не был предупрежден, а посол в отъезде. Пришлось уступить, тем более что времени действительно было мало: в Риме они должны были провести только два дня.
Аникин догнал группу, осматривавшую Колизей. С презрением прислушивался он к объяснениям гида, молодой девушки, полурусской-полуитальянки, к восторженным или удивленным возгласам туристов, с живым интересом рассматривавших огромный полуразрушенный амфитеатр.
Он был профессиональным скульптором, но давно уже ничего не делал руками, а только руководил другими, работавшими на него скульпторами и лепщиками. Мастерская была, в сущности, большим предприятием с отделениями во всех городах, где возводились по его проектам скульптурные сооружения. Это была, как он сам говорил, его «епархия», которую он объезжал каждые три-четыре месяца в сопровождении красивого молодого человека, часто менявшего неописуемо голубые и цвёта «кофе-о-ле» костюмы и глядевшего мимо собеседника ничего не выражающими глазами. Молодой человек был директором «епархии», устраивающим и личные дела Аникина, когда это было необходимо.
Здесь была не его «епархия», здесь был Рим. Он сердился на жену, уговорившую его поехать простым туристом наравне с этими людишками, которых он все время путал, с этим неприятным Токарским, который осмеливается едва кивать ему, а сегодня утром, войдя в ресторан, почти демонстративно повернул к другому столу, хотя за столом Аникина было свободное место.
Он прислушался к объяснениям: гладиаторы, императорская ложа, проходы, по которым на арену выходили львы. Стало быть, здесь были главным образом гладиаторские игры. А где же христиан бросали на растерзание львам? Гид – ее звали Анни – ответила: она говорила с еле заметным акцентом, произнося имена по-итальянски. Аникин боялся, что жена сморозит что-нибудь, и, едва она открывала рот, останавливал ее взглядом.
Они отправились дальше в автобусе, который его раздражал, потому что здесь он тоже был наравне со всеми. Ватикан был еще закрыт. Студенты архитектурного института сидели на маленьких трехногих стульях перед собором святого Петра и чертили что-то на сверкавших, приколотых к доскам листах бумаги. Много девочек в нарядных платьях толпилось на ступенях. Анни объяснила: «Француженки, приехавшие к папе». Папская стража в полосатых черно-желтых костюмах стояла слева от собора, под аркой. «Эти ливреи и до сих пор шьются по рисункам Микеланджело».
В соборе вдоль длинного, отделенного перилами пространства стояли женщины в накрахмаленных, торчащих платках и мужчины с красными, терпеливыми, крестьянскими лицами. Анни рассказывала, туристы передавали друг другу: папа новый, недавно избран, итальянец. Он шутит, разговаривает с народом, он демократ. Его зовут Иоанн. Который? Двадцать третий.
Ватикан всегда интересовал Аникина. Государство в один квадратный километр, с населением в тысячу человек, со своим двором, монетой, послами! Государство, огороженное стеной, в центре европейской столицы, карающее, внушающее страх, действующее явно и тайно!
Негр, католический монах, в очках, в круглой твердой шляпе, прошел, озабоченно разговаривая с другим, тоже озабоченным, кругло-розовомордым монахом. Негр! Мы ничего не знаем о Ватикане. Все это надо изучать, и не только изучать, но учиться. Без пушек, без атомного оружия, без армии и флота управлять четырехсотмиллионной армией, разбросанной по всему свету. Это – работа! Сеть интриг, охватывающая полмира. Два слова в одной из тысячи комнат – и где-то во Львове студент молотком убивает знаменитого писателя, как бишь его фамилия? Забыл. А эта свобода, эти монахи, которым разрешается играть в футбол и заниматься боксом. Эта гибкость, современность, эти превосходные церкви модерн, мимо которых они проезжали в квартале Нуова! Черт знает какое великолепие, какая сила!
Вечером в номере он еще думал об этом, перебирая впечатления и прикидывая: что все-таки могло пригодиться для дела? Скульптурные портреты животных в Ватикане – их игры, ласки, охота. Голова верблюда, леопард, омар – и все это движется, живет, играет.
Жена раздевалась; он смотрел и не видел ее. Последнее время это случалось с ним постоянно. Жена была уже как стекло – она существовала и не существовала. Она говорила что-то. Она всегда говорит. Ему часто хотелось убить ее, и сейчас захотелось, но он привычно подавил это чувство. Он что-то ответил. Она говорила о сыне. Сыну было шестнадцать лет, он плохо учился, по общеобразовательным предметам у него были двойки.
– Я лично очень сожалею, что мы отдали его в класс этого Гольдберга.
– Так ты не думаешь, что из Петьки выйдет Святослав Рихтер?
– Ты отшучиваешься, а я говорю серьезно.
– Я тоже серьезно. Мой отец хотел, чтобы я стал юристом.
– Юрист – другое дело. У него плохие товарищи. Этот Игорь.
Он уже не слушал. Слишком много денег – вот что плохо для сына. Отдельная комната с лоджией. Он начинал с деревенской кузницы, в грязи, из которой лепил первые вещи. Кстати, тоже зверей. Так вот почему он не мог заставить себя уйти из этого зала!
13
Как Игорь ни любил мать, все же в первые дни после ее отъезда он наслаждался чувством полной свободы. По утрам он гонял в домовом садике тряпичный мяч самодельной клюшкой. Партнеров не было, одни малыши, но он и с малышами чувствовал себя превосходно. Он объяснил им, чем отличается хоккей с мячом от хоккея с шайбой, и рассказал, что на зимних олимпийских играх в Италии команда СССР завоевала звание чемпиона мира.
– У меня, между прочим, сейчас мать путешествует по Италии, – небрежно сказал он.
Дворничиха не позволяла играть в садике, хотя от выставки цветов, устроенной в этом садике в прошлом году, осталась только надпись «Добро пожаловать». Перед домом она тоже запрещала играть, и, поскандалив с ней, Игорь уводил ребят на пустырь, где зимой продавались елки.
Его маршрут вдоль Яйлы провалился, потому что у ребят не было подходящей обуви. Каждый день он виделся с Петей Аникиным и даже ездил с ним к Витьке Вермонту, который после семилетки пошел на завод и работал теперь в литейном цехе. Витька был маленький, скуластый, с короткой черной гривкой над лбом. Он любил ставить над собой опыты. На этой неделе опыт «относительного голодания» заключался в том, что в понедельник он решил, съесть не более двух булочек, во вторник не больше трех и так далее. Отправляясь к нему, мальчики на всякий случай взяли с собой круг колбасы.
Цех был огромный, разнообразно стучащий, с двигающимися ковшами раскаленного металла, с косыми столбами света, в которых был виден пыльный взвешенный воздух. Витька засмеялся, взял колбасу, а когда Петя пожаловался на шум, возразил, что с логической точки зрения музыка – тоже шум, только организованный.
– Зато менее целесообразный, – прибавил он.
Он был крепкий, с торчащими под расстегнутым воротничком ключицами, в замасленном комбинезоне и держал колбасу в черной от масла руке. Он вкусно кусал ее, а потом пил подсоленную воду. Воду в горячих цехах, оказывается, всегда немного подсаливают.
Когда Игорь вернулся домой, Павла Порфирьевна, у которой он теперь обедал, сказала, что на его имя пришло заказное письмо. Прежде чем разорвать конверт, он прочел обратный адрес: «Мурманск, Ленина, 42, квартира 17. П. Невзглядов».
14
Петя Аникин проснулся от высокого нежного звука, идущего издалека, возникшего где-то в лесу, на светлой поляне с наклонившейся под легким ветром высокой травой. Скрипки были молодыми ветлами с опустившимися до земли косами ветвей – и они немного нервничали, два раза вступили раньше, чем нужно. Дуб-контрабас ждал, подняв смычок, чтобы, вступить свободно и мягко. Березы были виолончелями. Дирижируя, он смотрел на их ослепительные стволы с параллельными черными полосками, смотрел восторженно, с беспокойством, а потом с благодарностью, потому что они сыграли прекрасно.
Это был концерт; он дирижировал рощей. Лежа с закрытыми глазами, он думал о своем сне, в котором все было именно так, как ему хотелось. Еще не проснувшись, он вспомнил то хорошее, что случилось вчера и будет сегодня и завтра, – целых четырнадцать дней: родители уехали в Италию. Он один и свободен.
Он рано понял ничтожность матери, ее суетность, беспомощность, ее невежество, поразительное для человека, окончившего университет, и железную деловитость отца, так странно не сходившуюся в Петином представлении с профессией скульптора, художника, артиста. Сперва инстинктивно, а потом с проницательностью молодого ума он оценил атмосферу их дома – эту мнимую значительность, вечера, на которых бывали известные или по меньшей мере влиятельные люди, деньги, которых было слишком много, равнодушие, а может быть, и ненависть родителей друг к другу.
Трудно и даже противоестественно не любить родителей, и Петя думал, что он все-таки любит их, особенно мать, которая часто и много плакала и заметно постарела за последние годы. Но без них ему было лучше. Это он открыл давно. Не потому, что он собирается делать то, что они ему запрещали, а просто потому, что с ними он всегда чувствовал себя в неприятном напряжении. Запрещали они ему, в сущности, только одно – водиться с дедом. Дед, ушедший в прошлом году на пенсию, поступил безнравственно, женившись в шестьдесят четыре года на молоденькой хорошенькой женщине. Никому, в том числе и этой женщине, чувствующей себя прекрасно, он не причинил никакого вреда. Но его дочь, Аникина, встретила этот поступок с поразившим Петю отвращением. Пете было категорически запрещено видеться с дедом. Отец не вмешивался, но его холодные шутки были глубоко неприятны Пете.
Он все равно виделся с дедом, потому что обожал его. И сегодня, еще не зная, как пройдет этот счастливый день, Петя прежде всего решил прямо из школы отправиться в Апрелевку к деду.
Музыка, приснившаяся ночью, время от времени возвращалась к нему, и он кое-что поправлял в ней – вставил фагот в каденцию, которой кончалось вступление, а потом прислушался к двум нотам, которые просились в фугу, но пока гуляли где-то в стороне, потому что он не пускал их в фугу. Теперь это была уже не роща, а дачный поезд, на котором он ехал к деду, гудение колес, как бы оступавшихся на стрелках, бодрый, несущийся вперед басовый гудок электровоза.
Дед мылся после крепкого сна, когда Петя распахнул калитку. Он был в синих штанах, босой, подпоясанный мохнатым полотенцем и сам мохнатый, с курчавыми седыми волосами на толстой груди, с курносым красным лицом. Он радостно замычал, увидев Петю. Антонина Николаевна, тоненькая, в чесучовом кремоватом платье, вовсе не казавшаяся Пете молодой, а даже довольно старой – ей было тридцать два года, – накрывала к завтраку в самодельной беседке.
– Петечка приехал!
Он сел и сразу стал рассказывать, пока дед, который тоже любил рассказывать, не перебил его. О родителях он ничего не сказал, но было ясно, что их нет в Москве, иначе он не приехал бы в Апрелевку. Он только упомянул, что мать Игоря – «ты его знаешь, дед», – поехала в Италию с той же группой. Пластырь – это было прозвище директора школы – сказал, что на выпускном вечере Петя будет играть свой этюд. Вчера они с Игорем съездили к Витьке Вермонту на завод. Подумать только! Этот идиот решил поставить над собой опыт «относительного голодания»: две булочки в день, три на следующий день и так далее, до конца недели. Они привезли ему круг колбасы, и по дороге в метро Игорь предложил пари: сожрет или нет?
– И что же? – спросил глубоко заинтересованный дед.
– Взял и тут же стал лопать.
Все это было рассказано торопливо и закусывалось свежим хлебом с молоком и тминным творожным сыром, который очень любили дед и Петя. Потом он хохоча рассказал, что одна девчонка прислала ему письмо, и вытащил из кармана измятые голубые листки, по одному виду которых можно было судить о том, что автор едва ли может рассчитывать на удачу.
– Ох, умора, – сказал он, прочитав послание вслух и вдоволь нахохотавшись.
– Постой, почему умора? – спросил дед. – Она же, кажется, в тебя влюбилась?
– Она дура. Дед, куда мы сегодня? – спросил Петя, не сомневаясь ни минуты, что дед бросит все свои дела и отправится с Петей в город.
– М-м... Ты на голландской выставке был?
– Фью! Она черт знает как давно закрылась.
Они отправились в Третьяковку на выставку Сомова, которая, оказывается, тоже закрылась, а потом на футбол, потому что дед встретил знакомого журналиста, любителя футбола, и у того оказалось два свободных билета.
Оба сразу же увлеклись игрой, орали, подбадривали игроков, стыдили динамовский левый край и скандировали: «На мы-ло, на мы-ло», когда судья, который, по мнению деда, подсуживал «Динамо», назначал «Спартаку» одиннадцатиметровый удар.
Теперь приснившаяся Пете музыка была этим шумом стадиона, как будто опрокидывающим огромную водяную стену, и некогда было поправлять эту музыку, этот нарастающий шум, потому что все летело вперед без оглядки, с разбегу – раз, два, три! Игроки подводили мяч к воротам. Удар! И водяная стена опрокидывалась с мягким грохотом, переходившим в шелест.
После футбола они отправились в ресторан «София» и страшно наелись, потому что нельзя было вообразить ничего вкуснее того мяса с подливкой из сладкого перца, которое заказал дед, когда-то проживший в Болгарии два года.
– Между прочим, у меня к тебе важное дело, дед, – сказал Петя, когда они вышли из ресторана. – Мне нужны деньги.
– Сколько?
– Ты знаешь, дед, много. Тридцать рублей.
– Ого! Зачем, если не тайна?
– Я даже решил продать что-нибудь, пока наши еще не вернулись. На буфете стоит, например, китайская чашка, о которой отец говорит, что ей цены нет. Я ее продам, а потом скажу, что разбил. Если ты мне не дашь, дед. Это не для меня, ты веришь? Честное слово.
– А для кого?
Петя вздохнул.
– Для Игоря. Он отдаст. Ты можешь быть совершенно спокоен.
– Ладно. Но почему тридцать?
Петя шел, опустив голову. Он погрустнел.
– Если нельзя, можешь не отвечать, – поспешно добавил дед.
– Нет, почему же, я скажу. Ему нужно съездить в Мурманск, дед, а билет туда и назад – двадцать семь сорок... Больше ты меня не спрашивай, ладно?
Они вернулись в Апрелевку. С минуту дед раздумывал: не посоветоваться ли с Антониной Николаевной? Потом вынес деньги и отдал их повеселевшему Пете.
...Он проснулся в своей комнате с лоджией, которая была сделана, чтобы он спал на свежем воздухе зимой и летом. Он думал об Игоре во сне и теперь, открыв глаза, продолжал думать. Когда Петя пришел, Игорь читал книгу, обедая у Павлы Порфирьевны. Старушка вышла. Петя торжественно вынул деньги, и Игорь небрежно сунул их в карман, перевернув страницу.
– Смотри не потеряй, – сказал, огорчившись, Петя.
– Не беспокойся.
И как ни в чем не бывало он заговорил о книге...
Шел дождь, и Пете представилась битва капель, летящих с неведомой высоты и сталкивающихся в воздухе с тонким, стеклянным звоном. Они не могли остановиться, они разбивались насмерть все до единой. Журчащий поток выбегал из водосточной трубы, и в этом однозвучном журчании Петя ясно услышал те давешние, просившиеся в фугу ноты. Теперь для них нашлось место – он начнет ими третью часть, а потом они будут Повторяться и повторяться.
15
Билет стоил тысячу лир, но они все-таки пошли – Токарский с Валерией Константиновной и Сева. В кино можно было входить когда угодно, хоть в середине сеанса, и смотреть, пока не закроется театр. Они обрадовались, когда к ним подсела Лариса. Она говорила по-итальянски, в группе все начинали кричать: «Лариса, Лариса», когда нужно было что-нибудь узнать, объяснить.
Это была не одна, а четыре, пять, шесть – Токарский считал – семь картин, связанных одной судьбой, одной мыслью. Семь кругов ада. Или рая? С каждым новым крутом «Сладкой жизни» все яснее проступает грозная, диктующая, наступающая пустота.
Молодому журналисту удается проникнуть в высшее общество Рима. Он долго не замечает этой пустоты, ее трудно, почти невозможно заметить. Возникая из богатства, отсутствия труда, жажды наслаждений, она превращается в нечто неуловимое, скользящее, но властное – в чудовище, подсказывающее безумные поступки. Отец убивает своих прелестных детей. Женщина медленно раздевается догола в аристократическом салоне, другая соглашается отдаться полузнакомому, но не у себя, а в нищей каморке проститутки. А для тех, у кого нет этого богатства, этого незнания, чем заполнить бесконечный день и бесконечную ночь, – мнимое явление мадонны, бросившее на окраину Рима тысячи больных, калек, отверженных и оскорбленных.
Они прошлись, прежде чем вернуться в отель. Токарский, и сам еще не совсем разобравшийся в картине, старался объяснить ее Ларисе, которая, несмотря на свой итальянский язык, почти ничего не поняла. Валерия Константиновна слушала, думая о своем. Сева спал на ходу.
Это был спор, начавшийся еще утром в ресторане и потом вспыхивавший в течение всего длинного дня – впрочем, главным образом в автобусе, потому что в соборе святого Петра, в Ватикане туристам было все же не до «Сладкой жизни» – хорош или плох был этот удивительный фильм. Его посмотрели многие, и он, как это всегда бывает с новым и сильным произведением искусства сразу стал психологическим эталоном, мерилом душевной тонкости и понимания жизни. Одним он показался растянутым, скучноватым, другие не заметили, что провели в кино три часа.
Можно ли показать его в Москве? Конечно, нет – так полагал, например, Аникин, который прислушался к спору с презрением. Почему? Потому что нашему зрителю немедленно захочется отведать этой «сладкой жизни» и Феллини не поразит его своей смелостью, тем более что Ватикан, как известно, не пользуется у нас заметным влиянием. Трагедию пустоты никто не заметит, вот посмотреть, как женщина медленно раздевается под упоительный джаз, захочется многим. Главная реакция будет: «Живут же люди! А что они при этом с жиру бесятся... так что ж! Мы бы не бесились». Он согласился, когда кто-то сказал, что покупать картину не стоит, а показать – разумеется, узкому кругу – можно и даже полезно.
– Еще бы, – вполголоса сказал Токарский! – Ему можно и даже полезно. А другим нельзя и даже опасно. А я думаю, – ни к кому не обращаясь, громко сказал он, – что эту картину необходимо купить, сколько бы она ни стоила. И показать всем, а не только узкому кругу. В Италии эта «сладкая жизнь» – высшее совершенство, идеал для миллионов, а Феллини наносит ей опасный удар. По-моему, просто нельзя убедительнее доказать, что эта жизнь ведет к полному опустошению, к нравственной смерти.
Спор оборвался, потом вспыхнул снова. И хотя не было, казалось, ни малейшей связи между этой картиной и той остановившейся жизнью картинных галерей и соборов, о которой рассказывал гид, Токарский чувствовал эту связь и потому думал о ней в течение всех двенадцати дней, проведенных в Италии. Перед ним были три Рима, не один. Внизу, под ногами, – Рим языческий, с которого сняли и продолжали старательно снимать покров двух тысячелетий, поражавший строгостью, сдержанностью, гармонией. Великий город, ставший товаром, который по недорогой, в общем, цене продавался туристам. Над этим Римом был другой – католический, властвующий, папский. Но был еще и третий: Рим сомнений, пустот, неравенства, прошедший перед глазами Тохарского в той болезненно-острой картине.
По дороге в Неаполь он сказал Севе о том, что Ватикан запретил опубликование исповеди Сальери. В предсмертный час Сальери признался, что он отравил Моцарта. Австрийский историк Гвидо Адлер нашел в одном из венских архивов подробную запись исповеди: духовник композитора сообщал епископу, что Сальери не только признался в отравлении Моцарта, но рассказал, где и когда он подносил ему медленно действующий яд.
– Значит, все это правда? – спросил Сева с загоревшимися глазами.
– Да. Наш композитор Асафьев видел копию этой исповеди своими глазами.
– Действительно отравил?
Токарский посмотрел на Севу, который слушал эту историю с таким видом, точно она случилась вчера, и засмеялся. Ему нравился Сева.
У Севы были карты, справочники, он что-то записывал, щелкал аппаратом и ежеминутно прикидывал, что нам может пригодиться, а что, к сожалению, нет. В группе была пожилая женщина, ткачиха – ее звали Ольга Петровна. Он заботился, чтобы она чего-нибудь не упустила, и от души огорчился, когда она спросила у гида: «А где тут у вас Испания?»
Как это бывает с молодыми людьми, он влюбился в Токарского, рассказал ему, что на поездку взял в долг у тестя и теперь боится, что не скоро отдаст. Половину своих лир он истратил еще в Риме, позвонив жене по телефону. В поезде он почти не спал – и по ночам все что-то записывал, думал. В нем чувствовались прямота, деликатность. Токарский догадывался, что были минуты, когда в нем вспыхивало желание немедленно, сию же минуту быть рядом с женой.




