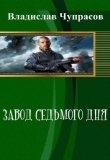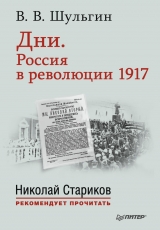
Текст книги "Последний очевидец"
Автор книги: Василий Шульгин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 47 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
ЧАСТЬ I. ВЫБОРЫ
1. Конь
Может ли конь оказывать влияние на политику?
Ставя этот вопрос, я исключаю того коня, на котором скачет Георгий Победоносец. Этот святой был изображен на гербе Москвы. Что его конь сопряжен с историей России, это самоочевидно. Но я ищу связи менее мистической. Полумистической является легенда, рассказанная Пушкиным в знаменитой балладе «Песнь о вещем Олеге». «Полцарства за коня!» – воскликнул один английский король. Менее известен конь Каравулик, который благодаря быстроте своего бега спас беглеца от гнева гнавшегося за ним разъяренного его отца, турецкого султана Баязида I Молниеносного.
Знаменит Буцефал – конь Александра Македонского. И вообще много можно найти коней, вошедших в историю.
Естественно, я хотел бы сделать историческим моего коня Ваську. Я когда-нибудь напишу его правдивое жизнеописание. Но сейчас я спешу и ограничусь заявлением: мой конь Васька несомненно сыграл некоторую роль на выборах во вторую Государственную Думу. Больше ничего не скажу.
Рассказать как было – выйдет длинно, а вкратце – будет неинтересно. А потому надо мне перейти к изложению, более подобающему важности предмета.
2. Гнет
Волынь, почтившая меня в конце концов своим избранием в Государственную Думу, имеет богатое историческое прошлое. А город Острог был некогда духовным центром этого края.
Остатки Острожского замка красноречиво говорят о том, как было раньше. Он принадлежал князьям Рюриковичам, сначала известным под именем князей пинских. По переселении в Острог они стали называться Острожскими. От Владимира Киевского до Константина Острожского они были русские, то есть в течение шестисот лет. Януш, приняв католичество, стал поляком, и на нем род Острожских пресекся по мужской линии. Но осталась княжна Алоиза, тоже католичка. Однако православный собор стоял в стенах ее замка. К нему вел мост. Однажды на Пасхе святили яйца и куличи. Они заняли не только весь двор вокруг храма, но и мост. Алоиза захотела выехать из замка, а другой дороги, как через мост, не было. И четверка помчалась по яйцам и куличам. Народ забросал ее писанками. Одна, особенно круто сваренная, выбила глаз княжне Алоизе.
В наше время глаз уже не выбивали и вообще картина была не та, что красноречиво описана в романе Генрика Сенкевича «Огнем и мечом». Вместо пушечных ядер мы действовали безобидными костяными шариками, которые бросали в избирательные урны. В этом можно усматривать некоторый прогресс.
Были даже попытки в преддумское время сговориться. Для этого в городе Остроге созвали некое собрание. Польские помещики явились породистые, изящно одетые, уверенные в себе. Русские перед ними показались мне каким-то мерюхрюдками. Они робко жались к стенам, жался и я, должно быть.
Председателем избрали Могильницкого. Седой и красивый, он заговорил хорошим русским языком, с легким акцентом, придававшим его речи некоторую вычурность, которая мне, однако, нравилась. Он был одним из умеренных поляков, большой поклонник Императора Николая I, которого он видел в детстве.
И все же он начал свою речь так:
«После сорокалетнего невыносимого гнета…»
Что он говорил дальше, не помню. Помню, однако, что я отжался от стены и заговорил, невольно подражая Могильницкому, примерно нижеследующее:
– Здесь было сказано: «сорокалетний невыносимый гнет». Чей гнет? Русской власти. Кого она угнетает? Польских помещиков. Однако это сорокалетнее угнетение не очень на угнетаемых отражается. Когда проезжаешь мимо красивых и уютных усадьб, получаешь впечатление, что польские помещики живут недурно. Кроме того, слова, здесь сказанные, о невыносимом гнете – это речь свободных людей. А гнет унижает, пригибает. Угнетаемые молчат.
Поэтому если мы желаем до чего-нибудь договориться, то нельзя начинать нашу беседу о невыносимом сорокалетнем гнете. Этот «невыносимый» гнет еще можно как-нибудь снести, принимая во внимание, что на нас сегодня надвигается. Из этой черной тучи скоро грянет гром, и новый гнет раздавит нас новыми методами угнетения, то есть отнимет от нас все наше достояние и развеет пепел сожженных наших жилищ.
Меня выслушали, но выводов не сделали. Классовые интересы нас не соединили. Победила национальная рознь.
3. Варшава и Киев
Я говорил о том, что во время выборов в первую Думу были попытки сблизиться польским и русским помещикам на почве классовых интересов. Эти попытки продолжались и во время недолгого существования первой Думы. Но слабая возможность сближения стала окончательно невозможной после того, как поляки совершили нижеследующее.
Поощренные относительным успехом своим в первой Думе, где польское коло насчитывало около сорока депутатов, польские помещики замыслили провести во вторую Государственную Думу гораздо больше своих представителей. После роспуска первой Государственной Думы в Варшаве собрался съезд. На него явились представители от всех губерний, где имеются поляки, то есть от всей Западной России, Литвы и Царства Польского. На съезде было постановлено: попытаться довести число депутатов поляков во второй Государственной Думе до максимального предела, с таким расчетом чтобы польское коло составило сто человек. Для этой цели везде, где поляки будут выбирать совместно с русскими, последних в Думу не пропускать.
Свое решение, неизвестно для чего, поляки распечатали в газетах. Это было, как говорится, «немножко множко» и вызвало отпор.
Спящие русские помещики проснулись. Инициативу взяли подоляне. Они созвали в Киеве съезд русских землевладельцев Юго-Западного края, то есть губерний: Киевской, Подольской и Волынской. Это было в октябре 1906 года. Приглашались все, но приехало не так много, человек полтораста, если память мне не изменяет. Чтобы дать понятие о продолжающейся спячке, можно сказать следующее.
В Юго-Западном крае примерно сорок уездов. Значит, грубо говоря, три-четыре человека приехали от уезда. А сколько в каждом уезде было помещиков, которые могли явиться?
Не знаю, но много. В нашем Острожском уезде было более пятидесяти человек, которые по спискам имели право участвовать в избирательном собрании уезда. Из них в Киев приехали двое: Сенкевич и я.
Двое! Значит, из пятидесяти проснулось только четыре процента. К этому нелишне прибавить, что с Ефимом Арсеньевичем Сенкевичем я познакомился на этом съезде, хотя от моего имения Курганы до его имения Лисичье всего пятнадцать верст, то есть час езды в хорошую погоду. Остальных помещиков, участников съезда, я тоже не знал никого. Это показывает, в каком разобщении мы жили.
Съезд избрал председателем егермейстера Двора Его Величества, брацлавского уездного предводителя дворянства Петра Николаевича Балашова. Бывший гвардейский гусар, рано вышедший в отставку в чине поручика, он принадлежал к петербургской аристократии и по отцу и по матери. Предок его был сподвижник Петра Великого. Мать, Екатерина Андреевна, – урожденная графиня Шувалова. Ее сестра, статс-дама Елизавета Андреевна, была замужем за наместником Кавказа и главнокомандующим Кавказским военным округом генерал-адъютантом графом Илларионом Ивановичем Воронцовым-Дашковым. Его роскошная резиденция в Тифлисе сохранилась доныне.
Балашовы были очень богаты, имели несколько имений в разных губерниях. Петр Николаевич жил в Подольской губернии, где был влиятелен. Он женился на княжне Марии Григорьевне Кантакузен, в гербе которой были две императорские короны. Кантакузены принадлежали к высокой международной знати. Они вели свой род, с одной стороны, от германского императора Карла Великого, который, как известно из учебников истории, короновался в Ахене в 800 году; а с другой – от Византийского императора Иоанна VI Кантакузена, умершего в 1383 году.
Итак, съезд избрал председателем Балашова. Но избрал и почетного председателя. Кого же? Какого-нибудь великого князя? Нет, сына деревенского мельника, моего отчима, профессора Киевского университета Дмитрия Ивановича Пихно. Почему? Потому, что он был, кроме того, редактором газеты «Киевлянин». Все эти помещики, не знавшие друг друга, хорошо знали «Киевлянина». Эта газета выражала их чувства и формировала сознание. «Киевлянин» был и программа, и утешение в трудные дни 1905 года, только что пережитые.
Съезд постановил:
«Принять вызов поляков и употребить все усилия, чтобы во вторую Государственную думу поляки не явились единственными представителями Юго-Западного края.
Поручить всем явившимся на съезд организовать выборы в своих уездах».
Так как от Острожского уезда явились двое – Сенкевич и я, то нас двоих и уполномочили работать в сем уезде по крайнему своему разумению. Это поручение мы приняли всерьез.
Я не имел никакого влечения к политике, хотя и вырос в политической семье. Меня притягивала история Волыни. Это выразилось в том, что я начал писать исторический роман из жизни XVI века под заглавием «Приключения князя Воронецкого». Я пишу его с 1903 года, то есть свыше шестидесяти лет. Не дописал и уже не допишу, естественно. Да и те тома, что были написаны, и даже два тома, что были напечатаны, находятся «в безвестном отсутствии». Что ж, приключения так приключения!
4. Два генерала
Мы, русские помещики Острожского уезда Волынской губернии, начисто провалились на выборах в первую Государственную Думу по этому уезду. Мы были совершенно не организованы. Поляки же явились все как один, в числе пятидесяти пяти, если не ошибаюсь, и с некоторой торжественностью закидали черными шарами наших кандидатов. Меж тем они не были так плохи. Их называли «два генерала» и про них повторяли песенку, тогда модную:
Мы два генерала,
судьба нас связала,
на остров послала…
Генерал Ивков был настоящей генерал, то есть военный в отставке. Старик тихонько жил в своем имении, где построил обсерваторию. Днем отдыхал, ночью рассматривал звезды в телескоп. Он был один их тех, кто предчувствовал случившееся в наши дни, то есть что человечество, и Россия в частности, предпримут «кампанию» в космос. Земными делами он мало интересовался, передав все управляющему.
Другой генерал имел высокие чины, но носил узкие погоны.
Его звали Георгий Ермолаевич Рейн. Все думали, что он из немцев. На самом деле он был чистокровный русак. Его настоящая фамилия была не Рейн, а Реин. И внешность этому соответствовала. Доктор медицины, он с 1874 года как профессор-акушер, читал лекции в Петербургской военно-медицинской академии В течение двадцати лет, с 1880 по 1900 год, занимал кафедру Киевского университета по гинекологии и акушерству, а затем снова перешел в Петербург, где был близок к высшим сферам. Как известный хирург, он оперировал сестру Императрицы Александры Федоровны, Великую княгиню Елизавету Федоровну. Человек большой энергии и работоспособности, он построил в Петербурге образцовую клинику. Целью его жизни было создать в России министерство народного здравия, которого не было. Это ему удалось. 1 сентября 1916 года он был назначен главноуправляющим государственным здравоохранением, но не пробыл на этом посту и полугода. За несколько дней до падения империи, 22 февраля 1917 года, Главное управление народного здравия по причине чрезвычайных обстоятельств военного времени и наступившей разрухи было аннулировано.
Конечно, такого кандидата, как генерал Рейн, поляки не имели. Тем не менее его провалили. Два генерала знали, что их провалят. Но они исполняли свой гражданский долг и провал не считали унижением.
Так было в Острожском уезде в 1906 году.
5. План кампании
Возвращаясь из Киева на Волынь, еще в поезде, мы с Сенкевичем определили, что, начиная план кампании, прежде всего необходимо иметь карту. Карта у меня была, и очень подробная. Масштаб три версты в дюйме. Карта эта занимала стену в моем кабинете в Курганах. Еще важнее были «списки избирателей». Они были напечатаны, мы их достали, равно как текст закона. Когда мы изучили эти материалы, план кампании стал нам ясен.
Выборы в Государственную Думу не были по «четыреххвостке», как этого требовали кадеты и партии их левее. Из четырех хвостов («всеобщая, тайная, равная, прямая подача голосов») сохранился один – «тайная». Выборы не были всеобщие. Кроме умалишенных и преступников лишены были избирательного права женщины. Впрочем, женщины могли передоверять свой голос мужьям и ближайшим родственникам. Не участвовали в выборах лица, находящиеся на действительной военной службе.
Выборы в Государственную Дума были не равными, а цензовыми. Избиратели должны были иметь имущество. И в зависимости от величины ценза были их избирательные права.
Не были эти выборы и прямыми, потому что они были многостепенными, что тоже будет рассказано на примере Острожского уезда.
* * *
Членов Государственной Думы выбирали выборщики, присланные в губернское собрание из уездных собраний. Таких собраний в каждом уезде было два. Одно состояло из выборных от «волостей».
Русская деревня с незапамятных времен имела свое самоуправление, называвшееся волостным. Волостной сход составляли все хозяева данной волости. Хозяином почитался каждый, кто владел наделом, то есть участком земли, полученным в 1861 году при освобождении крестьян. Надел переходил по наследству. Волость как старинная форма самоуправления, хорошо знакомая крестьянам, и была положена в основу крестьянских выборов в Государственную Думу. Волостные сходы выбирали делегатов в уездное избирательное собрание. Это последнее выбирало делегатов в губернское, в данном случае в Житомир, где уже выбирались члены Государственной Думы от губернии.
Второе уездное собрание составляли землевладельцы, чьи выборные права основывались на личной собственности. Всякий, кто имел хоть какой-нибудь клочок личной земли, мог участвовать в этом уездном избирательном собрании, но далеко не на одинаковых правах. Закон различал полноцензовиков от более мелких собственников. В законе слова «помещик» не было. Но обычно, житейски, в то время помещиками называли лиц, имевших полный ценз. Величина ценза определялась законом для каждого уезда. В Острожском уезде ценз был определен в двести десятин. Так как у меня по купчей считалось триста десятин, то я был полноцензовик и имел те же права, как и помещик Герман, самый крупный в нашем уезде. У него было около десяти тысяч десятин. Те же лица, которые не имели полного ценза, то есть двухсот десятин, не имели и голоса в собрании цензовиков. Но они могли «складывать» свою землю. Эта сложенная земля давала неполноцензовикам столько голосов, сколько выходило, если общее число десятин сложенной земли разделить на двести. Так было в Острожском уезде.
Все это показалось нам поначалу чрезвычайно сложным. Но, изучив списки избирателей, мы поняли, что победа над польскими помещиками таится именно в этой сложности.
Делегаты от сложенной земли назывались «уполномоченными» от землевладельцев, не имевших ценза. Сколько же их явилось в Острожское избирательное собрание на выборах в первую Думу? Всего семь уполномоченных. А сколько их могло явиться, если бы они полностью использовали свои возможности?
В списках избирателей сказывалось, сколько каждый имеет земли. Проделав утомительную арифметику по сложению этих клочков, мы узнали, что у всех «мелких» (для простоты так их называли) в совокупности имеется свыше шестнадцати тысяч десятин. Разделив сию цифру на двести, мы сделали потрясающее открытие: если мелкие используют всю свою землю, то их уполномоченные явятся в Острожское губернское избирательное собрание в числе восьмидесяти человек. Восемьдесят! Это обозначало, что в этом случае не цензовики будут хозяевами выборов, а уполномоченные.
Действительно, если бы даже все цензовики действовали сообща, русские и поляки, то, по нашим расчетам, у них восьмидесяти голосов все же не было бы. Но так как часть русских помещиков будет с нами, то нам не надобно восьмидесяти уполномоченных (цифра эта теоретическая), а достаточно и меньшего числа, чтобы забаллотировать поляков. На выборах в первую Думу их было пятьдесят пять человек, и это их максимальная возможность.
* * *
Но как из семи перводумских уполномоченных сделать, скажем, сорок втородумских? Сорок с нас было бы «довольно, достаточно», как сказал Богдан Хмельницкий однажды.
«Сделаю я то, что и не думал. Выбью из-под ляшской неволи весь русский народ! Довольно с нас будет, достаточно!»
Но как это сделать, чтобы выбить из-под «ляшской неволи» Острожский уезд?
Мы стали еще внимательнее изучать избирательные списки. Мелкие оказались очень пестрыми по размеру своих владений. Два-три полупомещика, около ста десятин каждый. Много средних и туча мелких. Как подойти к этим людям?
При дальнейшем разглядывании выделились три группы. Во-первых, деревенские священники. Исторически в нашем крае каждая церковь была наделяема землей. Это началось с давних времен. Русские, а иногда и польские паны наделяли церкви, построенные в их владениях, участками земли, с которых батюшки и жили. Закон о выборах в Государственную Думу определил, что церковные земли дают право духовенству быть избирателями в уездном собрании наравне с личными собственниками. В Острожском уезде было свыше ста приходов. Размер земельного обеспечения церквей был разный, но в среднем можно считать сорок десятин на приход. Итого, если бы батюшки использовали полностью свои права, они могли бы прислать двадцать уполномоченных.
Вторая группа мелких были чехи. Императрица Екатерина II в предположении, что живой пример положительно подействует на русских крестьян, пригласила крестьян, немцев и чехов, которым было тесно у себя, переселяться в Россию. Эта царица думала, что русские крестьяне начнут подражать колонистам, убедившись, что культурное земледелие дает больше, чем первобытное. Колонисты наделялись мелкими участками, близкими к крестьянским.
Мысль Екатерины II была плодотворной. К началу ХХ века у нас на Волыни оказалось достаточно колонистов – немцев и чехов. Они благоденствовали. Считалось, что колонист, имеющий шесть десятин, живет как маленький помещик. Но часть этих колонистов, начав с малого, становилась богатыми помещиками, покупая землю.
Самым ярким примером этому был Фальцфейн в Херсонской губернии. Он был очень богат и основал в херсонских степях колоссальный заповедник, где жили самые разнообразные звери и птицы, в том числе страусы.
На Волыни тоже бывали разбогатевшие колонисты. Я знал милейшего Арндта. Его дед был рядовой колонист, но Иван Юлианович имел уже тысячу десятин… Он жил богато, но деловито, без ненужной роскоши и тунеядства. Его роскошью были дочери, здоровые на загляденье барышни, получавшие образование, но не отрывавшиеся для наук от деревни и домашнего хозяйства, как наши русские барышни. Последних воспитывали, очевидно, в предположении, что они всегда будут иметь горничных и кухарок, что не оправдалось.
В Острожском уезде возобладали не немцы, а чехи. Из них только один разбогател настолько, что перешел в цензовики. Остальные были в разряде мелких, то есть могли попасть в уездное избирательное собрание через уполномоченных.
Третью группу составляли крестьяне, владевшие личной, то есть купленной, землей помимо наделов. Эти имели двойные выборные права: в волостных собраниях по наделам и как личные землевладельцы. Состав их был чрезвычайно пестрый. Я знал одного, едва грамотного старика. Он нажил шестьсот десятин хорошей земли и четырем своим сыновым дал университетское образование. Этот, разумеется, был цензовик.
Были и другие цензовики из крестьян. Но сейчас я говорю о крестьянах – личных собственниках, но мелких. Среди них преобладали мелкие собственники, начиная с одной десятины. Но по количеству земли сообща они составляли группу весьма значительную.
Но как до них добраться?
6. Батюшки
Обмозговав положение, мы поняли, что создавать какой-то собственный агитационный аппарат немыслимо. У нас нет ни людей, ни денег, ни времени. В этом отношении я имел уже некоторый опыт. Конь Васька потому явился одним из участников в выборах во вторую Думу. Что я на нем летом 1906 года поездил немало по Острожскому уезду. Я, как Чичиков, гонялся за мертвыми душами, которых надо было воскресить или пробудить для общественной жизни. Мой опыт показал: душа – это минимум день. Этих душ несколько сот. До выборов осталось четыре месяца. И каких месяцев! Грязных и снежных. Дождь и вьюга. Ясно, что тут чичиковские методы неприложимы.
Печать? Но эти люди газет не читают. Печатные прокламации? И не прочтут и не поймут. Что же остается?
Остаются батюшки! Их не меньше ста лиц в нашем уезде. Они есть в каждом селе, и все в совокупности они знают чуть ли не поименно всю толщу народа. Кроме того, они сами по закону являются участниками в выборах. Батюшки – это ключ к положению.
Наш батюшка, то есть священник прихода, к которому мы относились, был отец Петр. Человек весьма достойный. Однажды он сказал мне, что духовенство местное очень хорошо ко мне относится, но есть нечто, что батюшек смущает.
– Что именно?
– Зачем вы ездите польской четверкой?
– А если я вам скажу, что я езжу не польской четверкой, а архиерейской?..
– Как это?
– Разве вы не знаете, что митрополит Киевский и Галицкий спокон веков ездил и ездит именно такой четверкой?
Тут ничего нельзя было возразить, потому что это было правдой. Но дело не в этом, а в том, что если достойный человек и иерей отец Петр выказал себя не только русским националистом, но и шовинистом, то, значит, батюшки поддержат всякую акцию против польских помещиков.
Так оно и оказалось. Мы создали некий предвыборный комитет, в который вошел и острожский протоиерей Ястржемский. Надо сказать, что духовенство было самым дисциплинированным сословием в России. Мнение протоиерея, высшего священника в уезде, было если не все, то очень много. Можно было надеяться, что батюшки исполнят то, о чем комитет их попросит. А что комитет хотел просить у священников? Ничего противного их сану. Никакой агитации. Главный противник наш обозначился на выборах в первую Думу. Это был абсентеизм избирателей. И вот здесь могли помочь батюшки.
Я написал и послал свыше ста открыток одинакового содержания:
«В Вашем приходе, уважаемый отец такой-то, проживают такие-то лица. Им надлежит прибыть на выборы в Государственную Думу туда-то тогда-то. Предвыборный комитет просит Вас напомнить им об этом их долге в ближайший к выборам праздничный день, после службы».
Эти невинные открытки и решили дело по существу. Но, кроме того, мы предприняли еще кое-какие меры, чтобы облегчить избирателям явку. Не всем было с руки ехать в Острог, да еще в январе месяце. Острожский уезд сравнительно небольшой, но все же туда и обратно многим пришлось бы проехать на лошадях десятки и десятки верст.
Мы разбили уезд на три части, с тем чтобы выборы уполномоченных совершились в трех местечках… Этого комитет добился у властей предержащих. Кроме того, я лично совершил поход на чехов. Были округа, где чехи, так сказать, сгустились. Туда я отправился на своей «польской» четверке. Мороз был двадцать градусов по Реомюру, то есть двадцать пять градусов по Цельсию. С ветром. Передние кони порой отворачивали голову от острой струи. Впрочем, вьюги не было. Все мы, кони и люди, согрелись у местного батюшки, жившего среди чехов. Я не знал его раньше, но он принял меня чрезвычайно сердечно. Я изложил ему цель:
– Мне надо бы поговорить с чехами, то есть с руководителями. Есть же у них руководители?
– Есть. И мы вам это устроим. Но пройдет некоторое время. Отдохните пока.
Часа через три в школе собрались человек пятнадцать, о которых батюшка сказал, что это руководители чехов в Острожском уезде и за пределами его, вообще на Волыни. Я сказал им:
– Будут выборы в Государственную Думу. Вышло так, что мы, русские, не могли поладить с поляками. Будет на выборах между нами борьба. Я приехал спросить вас открыто, с кем пойдут чехи: с поляками или с нами?
Они попросили дать им время поговорить между собой. После перерыва собрание возобновилось, и один из них сказал:
– Чехи пойдут с русскими. Россия нас приютила по-братски. Дала нам хлеб и достаток. Мы благодарны русскому народу и на выборах пойдем с вами.
В этот день у меня было еще два собрания в других местах. Моя «польская» четверка поработала, но все же я ее не загнал. Кучера тоже не заморозил. У меня же были хорошая шуба, енотовая, и с таким воротником, что если его поднять, то человека вовсе и не видно, едет в санях башенка какая-то. А секрет сбережения лошадей таков. Как бы ни гнать, а подъезжая к остановке – версту шагом. Разгоряченные кони остынут на ходу, а это очень важно для их конского здоровья. А зимою – возить с собой попоны. Мой кучер Андрей был золотой, потому что любил лошадей и знал, как за ними ухаживать.
* * *
Перехожу к выборам.
Не успели оглянуться, как настал решающий день: выборы уполномоченных от мелких землевладельцев. Как сказано выше, они происходили в трех местах. В одно из них я просил поехать Сенкевича, чтобы помочь людям, ничего во всех этих выборах не понимающим. В два других места вызвались ехать братья Лашинские. Они были наши дальние родственники. Один служил в имении сестры управляющим, другой перешел от нас на такое же место к астроному, генералу Ивкову. Этот сидел себе в своей лаборатории, не принимая никакого участия в наших трудах. Про него можно было сказать словами Лермонтова:
Он занят небом, не землей.
Такую же позицию, кто астрономическую, кто ироническую, как, например, главный остряк уезда барон Меллер-Закомельский, кто просто: «Моя хата с краю, ничего не знаю», заняли и некоторые другие полноцензовики. На них нельзя было рассчитывать. Все дело было в уполномоченных. Что даст наша тактика и стратегия?
Когда утром этого решительного дня я посмотрел на градусник, то подумал: «Чего можно ожидать, если мороз тридцать градусов? Кто поедет? Мороз в тридцать градусов по Реомюру, по Цельсию около сорока, для Волыни вещь исключительная».
Но вечером приехали Сенкевич и Лашинские и привезли радостные вести.
Мороз не испугал. Явились! Приехали тучами. Но выборы едва не сорвались на том, что трудно было предвидеть.
Во всех трех избирательных пунктах уезда было одно и то же. Огромное численное превосходство наиболее мелких избирателей, назовем их для простоты однодесятинниками. Они быстро сообразили, что в их руках сила, и решили выбирать уполномоченных только из своей среды, то есть от бедноты. Тогда более зажиточные сказали:
– Если так, то чего же нам ждать, мерзнуть тут? Едем домой. Они и без нас сами себя выберут.
И вот тут и спасли положение наши агитаторы. Они пошли к однодесятинникам и сказали им:
– Вас-то много, да земли у вас мало.
– Ну так что?
– А то, что перед самыми выборами будут считать землю. Сколько у вас ее есть всего. Будут считать только землю тех, кто вот тут в собрании присутствует. А землю тех, что вот уже коней закладывает, чтобы домой уехать, тех землю считать не будут. Они уедут и землю свою увезут с собой. Посчитают только вашу землю бедняцкую. И вы выберете уполномоченных, кого хотите, но сколько? Мало, потому что вас много, а земли у вас мало. И эти наши уполномоченные в Остроге, на уездном собрании, не смогут осилить панов, и никто из вас не пройдет в Думу.
Однодесятинники поняли. И послали сказать зажиточным:
– Не уезжайте, не увозите землю. Как-нибудь сговоримся.
* * *
– И сговорились?
– Сговорились.
– И что же?
– А то, что не поверите! Избрано в трех пунктах шестьдесят уполномоченных! Шестьдесят!!! А в первую Думу было семь. Кто мог думать?
* * *
Действительно, это была победа, в которую и верить было трудно. Если бы приехали все, кто в списках, до последнего, то уполномоченных было бы восемьдесят человек. Шестьдесят – это семьдесят восемь процентов от высшей теоретической возможности.
Сейчас, когда в выборах участвует до девяносто девяти и девяти десятых процента, этим никого не удивишь. Но тогда было иначе. Незадолго перед этим на городских выборах в Брюсселе, столице Бельгии, число явившихся к урнам достигало семидесяти пяти процентов возможного. Этот результат был отмечен повсеместно как результат высокой гражданственности.
Но то Брюссель, а то Волынь. Совершенно неподготовленное население. Мороз в тридцать градусов, и притом ни денег, ни людей для агитации.
* * *
– Это дело батюшек, – сказал я.
– Это ваши открытки! – ответили мне.
– Батюшек и ваше! Вы блестяще помирили бедных и богатых. Слава миротворцам!
Так мы хвалили друг друга на радостях. Затем я сказал:
– Будем торжествовать, но не слишком. У нас шестьдесят уполномоченных. У нас, кроме того, двадцать цензовиков русских, что вероятно, пойдут за нами. У поляков предельное число пятьдесят пять голосов. Восемьдесят бьют пятьдесят пять наголову, если…
– Если не поссорятся!..