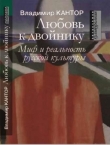Текст книги "Русские мыслители и Европа"
Автор книги: Василий Зеньковский
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 14 страниц)
'Любопытно отметить, что Д. Веневитинов в статье «Несколько мыслей в план журнала»* писал, что «надлежало бы некоторым образом устранить Россию от нынешнего движения других народов, закрыть от взоров ее все маловажные происшествия в литературном мире, бесполезно развлекающие ее внимание». Эта реакционная мера тоже имела в виду дать простор творческим силам России.
81
Евразийство впервые заявило о себе в 1921 году изданием сборника «Исход к Востоку. Утверждения евразийцев». Но этому сборнику предшествовал выход в свет небольшой книжки русского лингвиста кн. Н. С. Трубецкого «Европа и человечество» – в этой книге были даны руководящие идеи евразийства. После появления первого сборника вышел второй под названием «На путях», затем сборник «Россия и латинство», наконец, «Евразийский временник» (№ 3 и 4). Самый термин «Евразия» означает, что Россия принадлежит одновременно двум мирам – Европе и Азии; двуликость России и в то же время органическое единство в ней различных начал и хочет выразить термин «Евразия».
В евразийстве прежде всего оживают и развиваются леонтьевские построения об особом пути России – не Данилевский с его верностью «племенному» (славянскому) типу, а именно Леонтьев с его скептическим отношением к славянству ближе всего к евразийству. Но если и у Леонтьева славянство было все же неизбежным «политическим злом», то в евразийстве проблемы славянства выпадают уже совершенно. «Перед судом действительности, – читаем в предисловии к первому сборнику, – понятие «славянства» не оправдало тех надежд, которые возлагало на него славянофильство. И свой национализм мы обращаем, как к субъекту, не только к славянам, но и к целому кругу народов «евразийского» мира, между которыми народ российский занимает срединное положение». У некоторых представителей разбираемого течения любовное внимание направляется именно на Восток (в этом смысле знаменательно и самое заглавие сборника «Исход к Востоку»). Г. Савицкий пишет: «Россия есть не только народ, могущий приобщиться или разобщиться с Европой, но представительница и носительница духа некоего мира, более широкого, чем она сама. Ведь приобщение России, – приобщение буквально – физическое к лесному и степному внеевропейскому миру дало русскому народу качество быть не только и даже не столько европейским, сколько азиатским народом». Вот еще любопытные строки из статьи того же автора: «Перед лицом Европы Россия несет существо не только славянской природы; в ней поднимается к новому историческому бытию забытая, казалось, стихия степная, та самая, что в былые времена создавала неслыханные по размаху паназийские державы монголов». В соответствии с этим одна из статей сборника носит характерное заглавие: «Поворот к Востоку»; в одной из позднейших статей кн. Н. С. Трубецкой пишет о «туранском элементе в русской культуре» – наконец, отметим и анонимную брошюру, вышедшую из евразийских кругов и посвященную восхвалению Чингис–хана. При всех преувеличениях и увлечениях евразийцев в этом отношении должно признать их заслугу в том, что они выдвигают «восточные мотивы», действительно чрезвычайно важные в путях России. Мы связаны крепкой и неразрывной связью с Западом, но такой же связью связаны мы и с Востоком.
Мы найдем аналогичный призыв обратиться к восточным народам и у Леонтьева, но у евразийцев этот поворот к Востоку сблизил их неожиданно с той позицией, которую заняла Советская Россия в отноше
82нии к Востоку. Один автор, говоря, что Россия может стать фактором возрождения Ближнего и Среднего Востока, видит в нынешней азиатской политике Советской власти «историческую правду, которая переживет большевиков». Этот полюс евразийства силен своей определенностью и напряженностью, – в нем, может быть, действительно «клокочет и горит действенная, творческая сила», употребляя выражение одного из евразийских писателей. Впрочем, когда мы читаем такие строки: «евразийство призывает все народы мира освободиться от влияния романо–германской культуры» («Евр. вр.», IV, 79), то эта скользкая фраза, обращенная ко «всем народам мира» и особенно призывающая «колониальные» народы освободиться от европейской власти, недалеко ушла от какого–нибудь советского «манифеста».
Обращение к Востоку вытекает из того, что евразийство рвет все связи с Западом (который оно упорно отождествляет с романо–германской культурой, забывая об англосаксонской). По собственному признанию евразийцев, статьи их сложились в атмосфере «катастрофического мироощущения»; они часто и много говорят о трагической концепции мира, устами одного из авторов определяют свою идеологическую позицию как принципиально–трагическую.
Надо отметить у евразийцев также стремление к созданию «православной культуры». Должно, однако, сознаться, что эта идея, столь дорогая и близкая многим из наших мыслителей, понимается евразийцами крайне узко и бедно, – они часто не доходят до понимания всего смысла этой великой идеи, для них она связана больше всего с воссозданием «православного быта». Один из авторов видит «реальное задание» в том, чтобы «с помощью возбужденного (!) религиозного умозрения и воображения – воссоздать померкшее конкретно–народное исповедничество, искать… путей для претворения ожившей веры и религиозного сознания в глубины народного быта». Как одна из слагаемых в путях «православной культуры», существует и эта задача, но она прежде всего вторична и касается лишь исторической периферии, а главное, она совершенно не затрагивает всей исторической проблематики православной культуры. Здесь отчасти лежит ключ к пониманию того, что в евразийстве совершенно отсутствует внимание к опыту западного христианства, уже стремившегося однажды к церковной культуре. Евразийцы стоят как бы в исторической пустыне…
При всей искренности и даже горячности в защите идеи православной культуры евразийство вовсе не живет этой идеей, – его пафос лежит в борьбе с Западом. Ввиду сосредоточенности нашей именно на этой теме мы и обратимся к этой стороне евразийства, впервые с полной определенностью выраженной в книге кн. Н. С. Трубецкого, а затем разнообразно развитой в евразийских изданиях.
В предисловии к своей книге Трубецкой пишет, что мысли, высказанные в ней, сложились у него более 10 лет тому назад. К сожалению, он не упоминает о том, под каким идейным влиянием сложилась его умственная жизнь, но и без этого мы можем сказать, что Трубецкой лишь отчасти примыкает к той идейной борьбе с Западом, с различными этапами которой мы имели до сих пор дело. Духовно он наиболее близок к Данилевскому и Леонтьеву, мотивы которых воскресли в его
83
книге с новой силой. Главная задача Трубецкого в его книге состоит в том, чтобы показать, что европейская культура вовсе не есть общечеловеческая, что она имеет не абсолютное, а лишь относительное значение. Как видим, в этом своем центральном положении Трубецкой воспроизводит мысль Данилевского, – но у Трубецкого она выражена острее и выводы из нее имеют более общий характер.
«Европейская культура, – пишет Трубецкой, – есть продукт истории определенной этнической группы, которой без всяких основании придают вид общечеловеческой». «Интеллигенция европеизированных народов, – читаем в другом месте, – должна сорвать с своих глаз повязку, освободиться от наваждения романо–германской идеологии. Она должна понять вполне ясно, твердо и бесповоротно, что ее до сих пор обманывали, что европейская культура не есть нечто абсолютное, не есть культура всего человечества, а лишь создание определенной и ограниченной этнической группы народов, имевших общую историю».
Как видим, для Трубецкого претензии европейской культуры на универсальное значение не имеют никакой силы уже по одному тому, что европейская культура есть создание небольшой части человечества. Нельзя не признать такой аргумент слабым уже потому, что европейская культура никогда и не выдавала себя за создание всего человечества – это было бы просто смешно. Поэтому когда Трубецкой приходит к выводу, что так называемый космополитизм, во имя которого Европа распространяет всюду свою культуру, есть в сущности тот же шовинизм (с той лишь разницей, что обычный шовинизм превозносит один народ, а европейский космополитизм превозносит всю Европу), то это было бы верно лишь в том случае, если бы Европа выдавала свою культуру за культуру всего человечества. Космополитические претензии европейской культуры могут быть ложны, но в них все же неправильно видеть расширенный шовинизм, – ибо корень этих претензий заключается, как нам уже приходилось говорить при анализе учения Данилевского, в универсализме христианского идеала. Пусть не права Европа в том, что она считает свою культуру пригодной для всего мира, – но все же в ее претензиях нет шовинизма, ибо не потому Европа превозносит свою культуру, что она есть ее создание (выдаваемое ею будто бы за создание всего человечества), а потому, что идеалы, которые одушевляли и одушевляют европейскую историю, имеют не местный, а универсальный характер.
Трубецкой совершенно не замечает этого, и эта основная ошибка его, естественно, искажает всю перспективу дальнейшего его исследования. Не различая между христианскими идеалами европейской культуры и ее исторической действительностью, Трубецкой переносит всю тяжесть исследования на конкретные формы европейской культуры, забывая, что общечеловеческие задачи последней не только не вытекают из фактической истории Европы, но что они в сознании самой Европы противостоят этой истории, как идеальная цель. Не учитывая этого, Трубецкой должен обратиться к понятию гипноза, чтобы объяснить тот странный факт, что неевропейские народы увлекаются европейской цивилизацией порой даже сильнее, чем сами европейцы. Между тем покоряющая сила европейской культуры определяется именно ее универсализмом, ее христианс
84кими замыслами и упованиями, а вовсе не ее фактическим состоянием. Неужели же можно сводить чарующую силу христианских идеалов к гипнозу? Конечно, этого не думает Трубецкой; он говорит о гипнозе только потому, что влияние европейской культуры он объясняет ее наличным составом, а не ее идеалами.
Не проводя различия между идеалами европейской культуры и ее современной действительностью, Трубецкой без особого труда убеждает затем читателя, что объективно невозможно доказать, что культура современных романо–германцев совершеннее всех прочих культур. Превосходно, но разве это хоть на одну долю может ослабить те универсальные задачи европейской культуры, которые определяются ее христианскими идеалами? Конечно нет. Пусть нет никаких объективных критериев высоты европейской культуры, но для творческого напряжения, для культуртрегерского мессианства Европы это и не нужно, ибо пафос этого мессианства питается идеалами, а не фактическим состоянием культуры.
Но последуем дальше за Трубецким. Он доказывает дальше очень решительно, что приобщение к европейской культуре для неевропейских народов является не благом, а злом, а потому надо решительно и упорно бороться со всякой европеизацией. Доказательство этого ответственного тезиса ведется очень уверенно, но все оно покоится на двусмысленности, которую нетрудно вскрыть. Рисуя процесс европеизации, Трубецкой указывает на то, что параллельно с этим процессом народ будто бы отходит от своего самобытного, национального, научается презирать его, теряет патриотизм. В защиту этого тезиса действительно можно привести как будто много фактов, но вот как раз история русской интеллигенции лучше всего показывает, насколько двусмысленно'такое доказательство. Кто сможет упрекнуть таких русских западников, как Белинский, Герцен, Тургенев, в отходе от национальных задач России, в презрении к России, в отсутствии патриотизма? Да, были и у нас «русские мальчики», как говорит Достоевский*, которые действительно презирали Россию, отрекались от нее, было и у нас космополитическое поветрие, но все это уже прошло, надо думать, навсегда. Но именно в наши дни острого и глубокого переживания связи с родиной нельзя забыть и слова Достоевского, называвшего Европу «второй родиной», или слова Хомякова, в которых он, поэтически приветствуя Европу, назвал ее «страной чудес». Любовь к европейской цивилизации в русской душе – это одно из самых лучших и глубоких движений в ней. Когда Иван Карамазов говорит свои знаменитые слова о Западе как о «дорогом кладбище», то в его словах столько любви в самом признании мертвенности Запада. Но мы горячо и решительно присоединяемся к Трубецкому, когда он говорит о «грехах» Европы. В одной из более поздних своих статей он видит «главный и основной грех» Европы в том, что она «стремится во всем мире нивелировать и упразднить все индивидуальные национальные различия». В этих словах есть преувеличение, но есть и много правды. Нельзя отрицать, как указывает дальше тот же автор, что «европейская цивилизация производит небывалое опустошение в душах европеизированных народов; в то же время непомерное пробуждение жадности к земным благам и греховной гордыни являются верными спутниками этой цивилизации».
85
Эти грехи Европы отравляют, как верно указывает тот же автор, даже чисто религиозную, миссионерскую работу Европы среди внеевропейских народов, – кто станет это отрицать? Совершенно, однако, ясно, что всем этим нисколько не опорочивается универсализм христианской культуры, который вовсе не связан по существу с культурным однообразием и не отрицает национальных культур. В самой Европе есть много стойких и убежденных защитников охраны и поддержки национальных культур. В одном месте своей книги Трубецкой пишет: «Европейцы, встречаясь с неромано–германским народом, подвозят к нему свои товары и пушки, завоевывают его и насильственно его европеизируют». Согласимся, что здесь отмечена действительно недостойная и отвратительная сторона европейской жизни; история колониальной политики буквально всех европейских народов несмываемым пятном ложится на них. Но признаем же и то, что это не образует «сущности» европейской культуры.
В евразийстве враждебное отношение к Европе глубже его идей – и тем оно исторически знаменательнее. Но одной враждой и ненавистью жив не будешь. Обращение к идее православной культуры как будто образует (вместе с «восточными» симпатиями) положительное содержание евразийства, но оно так и осталось бедным и неразвитым. В частности, о Православии евразийцы нередко говорят так, что видно, как поверхностно и случайно пока оно входит в их идеологию. Это сказывается с особенной силой в суждениях о недавнем прошлом, где евразийский взор ничего не видит, кроме плена Европе. Когда мы читаем, например, такие строки: «Евразийство не может мириться с превращением Православия в простой аксессуар самодержавия и с обращением народности в казенную декламацию», то за этими грубыми и несправедливыми строками ощущаешь и отсутствие религиозной вдумчивости, и дурной задор…
Глава VII. Н.Н. СТРАХОВ. Л.Н. ТОЛСТОЙ. Н.К. МИХАЙЛОВСКИЙ
Шестидесятые годы в истории русской культуры знаменуют достижение высокой зрелости в разных направлениях. Если и раньше русская мысль, еще глубоко связанная с различными течениями европейской мысли, давала ряд оригинальных и ярких созданий, то теперь она достигает чрезвычайной высоты, выходит за пределы национальной культуры и становится постепенно фактором мирового значения. Конечно, зависимость наша от Запада сохраняется в это время, но все смелее развертываются синтетические устремления русского духа, все сильнее проявляется направленность к мировой экспансии. Толстой и Достоевский идут впереди других и силой своего гения прокладывают всюду пути для своеобразного русского универсализма. Мы так отчетливо видим
86
это ныне во всем мире, но не забудем, что уже в 60–е годы звучало многое из того, что только ныне (и то не вполне) прокладывает себе в мире дорогу.
Хотя дифференциация в русской духовной жизни идет в 60—70–е годы с чрезвычайной силой, но очень существенно то, что здесь уже «сняты» противоположности предыдущей эпохи. Своеобразный синтез славянофильства и западничества сочетается с различными новыми построениями, хотя самая проблема отношения России к Западу не исчезает, а принимает лишь иной характер.
Среди этих различных течений мы должны выделить как одно из важнейших так называемое «народничество». Его общей чертой является стремление сблизиться с народом, иногда даже слиться с ним, стремление войти в его мир и его интересы. Отвлеченный культ «народности», игравший такую громадную роль до Крымской войны, уже и тогда направлял сознание к живой народной душе (вспомним собирание, например, песен, проявлений вообще народного творчества), а ныне он переходит в тяготение к конкретной народной жизни. После падения крепостного права говорят уже не о «народности», а о «народе». Появляется тип «кающегося дворянина» – но и вне этой сферы крепнет и творчески действует стремление стать ближе к народу. Эта страница русской жизни и до сих пор еще не изжита – в этом легко убедиться при более внимательном изучении ее; необходимо только брать народничество во всей его фактической широте.
Мы остановимся на трех его формах. Прежде всего скажем несколько слов о так называемых «почвенниках», – и так как о крупнейшем их представителе, ?. ?. Достоевском, нам придется, по указанным раньше причинам, говорить в конце, то здесь мы остановимся лишь на Н. Н. Страхове – хотя и второстепенном мыслителе, но остро чувствовавшем как раз проблему отношения России к Западу. Второе течение мы проследим на Л. Н. Толстом, для которого погружение в народ было источником его нового мировоззрения; оживление руссоизма сочеталось в Толстом с ярким религиозно–анархическим отношением к современности. Наконец, в Н. К. Михайловским, столь связанном с социалистическим народничеством, перед нами пройдет иная стихия русской жизни – тоже одним концом своим обращенная к критике современной цивилизации.
* *
Николай Николаевич Страхов был человеком разносторонних знаний и философской складки ума, но жизнь его сложилась неблагоприятно для раскрытия его таланта, – он остался второстепенной фигурой в истории русской мысли, хотя и был тесно связан с величайшими людьми его времени – Ф. М. Достоевским и Л. Н. Толстым. Принадлежа по своим взглядам к славянофильским течениям. Страхов ближе всех примкнул к Н. Я. Данилевскому, но в начале 60–х годов он вошел в состав группы, состоявшей из двух Достоевских (Ф. М. и его брата М. М.) и высокоодаренного литературного критика Аполлона Григорьева. Эта группа стремилась к синтезу славянофильства и западничества,
87
исходя из веры в историческую ценность и общечеловеческую миссию русской «народности». Понятие народности бралось здесь уже конкретнее, чем это было в предыдущую эпоху; идея «органического» – исторически обоснованного и потому творческого движения освобождала от сентиментальной идеализации прошлого и давала простор для разумного и здорового общения с другими народами, отрицая лишь всякую антиисторичность, всякое «неорганическое» перенесение чужого в свое. Народ в его историческом развитии и современном состоянии, в полноте его реальных сил и духовных запросов есть «почва», вне которой немыслимо продуктивное творчество. Сюда же привходила идея всечеловеческого синтеза как задача, стоящая перед Россией. Приведем характерные строки из объявления о выходе в свет органа «почвенников» – «Времени» (строки эти написаны ?. ?. Достоевским): «Мы знаем теперь, что не можем быть европейцами… мы убедились, наконец, что мы тоже отдельная национальность в высшей степени самобытная и что наша задача
– создать себе новую форму – нашу собственную, родную, из почвы нашей взятую; мы знаем, что не оградимся уже теперь китайскими стенами от человечества. Мы предугадываем, что характер нашей деятельности должен быть в высшей степени общечеловеческий, что русская идея может быть синтезом всех тех идей, которые с таким мужеством развивает Европа… что все существенное в этих идеях найдет свое примирение и дальнейшее развитие в русской народности». В первом номере «Времени» говорилось о западниках и славянофилах как изжитых движениях: «они потеряли чутье русского духа». «Русская земля, – писал в одном из номеров «Времени» Достоевский, – скажет свое новое слово, и это новое слово, быть может, будет новым словом общечеловеческой цивилизации и выразит собой цивилизацию всего славянского мира».
Почвенники боролись с оторванностью от почвы, звали вернуться к ней. Мы увидим еще эти мотивы у Достоевского, что же касается Страхова, то в его довольно бедном наследии наиболее интересное, что он оставил, – это три книги, состоящие из ряда очерков под общим названием «Борьба с Западом в нашей литературе». В сущности книги эти посвящены больше самокритике Европы (в частности, у Ренана), но если извлечь оттуда собственные мысли Страхова, то они рисуют довольно определенно точку зрения его на Европу.
В предисловии к первому выпуску своей книги Страхов пишет: «Влияние Европы постоянно отрывает нас от нашей почвы, поэтому все наше историческое движение получило какой–то фантастический вид». Развитие мечтательности, отрыв от прошлого, отречение от своей почвы, нигилизм, наконец, – все это неизбежные последствия глубокой духовной болезни нашей, для исцеления от которой необходимо «совершить критику начал, господствующих в европейской жизни, и привести к созн'анию другие, лучшие начала». Если мы не возьмемся сами за эту задачу, пишет Страхов, то «по всей вероятности, сами неумолимые события вынудят нас взяться за нее. Может быть, нам суждено представить свету яркие примеры безумия, до которого способен, доводить людей дух нынешнего просвещения, – но мы же должны обнаружить и самую сильную реакцию этому духу».
88
Страхов готов простить все наше «рабство перед Западом», если «этой ценой мы достигнем, наконец, сознательной самобытности». «Мы должны уважать Запад, – продолжает Страхов, – и даже благоговеть перед величием его духовных подвигов… но при этом необходима умственная борьба с Западом».
Уже в Герцене, которого излагает Страхов очень подробно и с любовью, он видит выражение нигилизма, усматривая в его духовном пути две фазы нигилизма: «сперва отречение от своего, а потом и от чужого: это и есть настоящий нигилизм»; нигилизм Герцена резко отличен от «ходячего» – в нем мы имеем высшую и благороднейшую форму его. «То самое, – замечает Страхов, – что отрывает от нашего быта, от нашей веры и нравов, должно помешать стать нам европейцами»; поэтому он видит в нигилизме «последовательное развитие западничества», приходящего в итоге к самоотрицанию. «Нигилизм Герцена, – заканчивает Страхов его характеристику, – есть одно из проявлений напряженной идеальности русского ума и сердца». Эти строки делают честь прозорливости Страхова, – он чувствовал, что в русском нигилизме болезненно и истерически прорывались не только буйные и злые, но и благие силы русской души, не нашедшие для себя здорового и творческого выхода. «Самым правильным из действий нигилизма, – замечает Страхов, – нужно считать скептический взгляд на Европу, разрушение обаятельного авторитета Европы».
Спокойное отношение к русскому нигилизму определялось у Страхова глубокой верой в русский народ и его духовное здоровье, но когда его взор переносится на Запад, оценка нигилизма у него меняется: здесь нигилизм является, по Страхову, симптомом глубочайшего разложения, охватывающего все сильнее Европу, – а именно той логической анархии, которая царит на Западе. «Наше время, – пишет в одной статье Страхов, – поражает… оскудением идеала… уже почти полвека в умственной жизни Запада явственно обнаружилось и все более обнаруживается отсутствие руководительных начал… Определенного идеала развития, твердого сознания целей нет в Европе, и она мечется… она приходит к сознанию, что вовсе потеряла свою дорогу». И дальше: «Блистательные формы западной жизни, все без исключения, таят в себе зародыш гибели, все горят разрушением… нет таких начал, которые можно было бы считать незыблемыми'. Европа потеряла руководящую нить своего прогресса, некогда обещавшего ей бесконечное развитие, поприще беспредельное». «Всякий, кто искренно и серьезно обращался или обращается к Европе за нравственным руководством, – читаем в другом месте, – знает, что Запад тяжко болен, что он… потрясен внутренним страхом, ищет и не находит выхода из противоречий, зародившихся в его жизни. Трудно высказать всю меру того внутреннего противоречия, той вопиющей душевной путаницы, в которой живет современный человек». Вот еще на ту же тему: «Безнадежная, пессимистическая самокритика разъ
' Любопытно связать с этими строками замечательную элегию Тургенева «Довольно», проникнутую глубокой меланхолией («все потускнело вокруг… самая суть жизни мелка, неинтересна… народность, право, свобода, человечество, искусство суть лишь слова… все бренно»); разочарование Тургенева было обращено именно к самым «началам».
89едает в настоящее время духовный строй Европы. Западных людей ныне теснит их цивилизация, теснит все, что они у себя имеют».
Страхов видит в нигилизме «неизбежное последствие европейского просвещения»: «нигилизм есть крайнее, самое последовательное выражение современной европейской образованности, а эта образованность поражена внутренним противоречием, вносящим ложь во все ее явления. Противоречие состоит в том, что все протестуют против современного строя общества, но сами нисколько не думают отказываться от тех дурных начал, против которых протестуют». В большой своей статье о Ренане, которого Страхов называет «чем–то вроде французского славянофила», он говорит: «Ренан отвергает только революцию, но революция есть лишь одно из проявлений общего разложения, уже поразившего самый корень европейской цивилизации».
Сравнительно добродушное отношение к русскому нигилизму – мы говорили уже, что это было связано у Страхова с глубокой верой в духовное здоровье России, – и страстное обличение лжи европейского нигилизма характерны для Страхова. Он боролся с «верой в Европу», чтобы вернуть русское сознание к родной почве, к русскому народу. По выражению О. Миллера', русское общество, «крестившееся в западную цивилизацию», «беззаветно веровало в Западную Европу и смотрело на ее вековую цивилизацию как на какое–то универсальное средство от всего». Разрушение этой веры в Европу и возвращает нас к себе на родину. «Нам не нужно искать каких–нибудь новых еще небывалых на свете начал, – писал Страхов в предисловии к «Борьбе с Западом», – нам следует только проникнуться тем духом, который искони живет в нашем народе и содержит в себе всю тайну роста, силы и развития нашей земли». Это устремление к «народной правде» очень ярко и выразительно осуществил в себе Л. Н. Толстой.
* *
Л. Н. Толстой подходит к проблемам культуры совершенно не так, как другие наши мыслители. Он никогда не находился под очарованием Запада, хотя впоследствии и разыскивал в себе остатки веры в прогресс. Очень рано – без сомнения, не без влияния Руссо2 – Толстой ощущает в современной цивилизации нечто искусственное, условное и фальшивое. В ранней повести «Казаки» он замечает о своем герое: «Чем меньше было признаков цивилизации в народе, тем свободнее чувствовал он себя». Это противопоставление жизни естественной и свободной всему тому искусственному, стеснительному и фальшивому укладу, какой несет с собой цивилизация, – очень глубоко у Толстого и с известными модификациями длилось у него до конца. Но, конечно (как сам он говорит об этом в «Исповеди»), проблемы и идеалы цивилизации не
' Орест Миллер. Славянство и Европа. Стр. 248, 247*. Для нашей темы книга эта малоценна.
2 По сообщению одного французского автора (говорившего лично с Л. Толстым на эту тему). Толстой прочитал всего Руссо: «Я более чем восхищался Руссо, – признавался Толстой, – я боготворил его. В 15 лет я носил на шее медальон с его портретом вместо нательного креста».
90
были ему совершенно чужды; с известным правом можно было бы охарактеризовать историю духовного развития Толстого как борьбу с теми началами европейской цивилизации, которые жили в нем самом. Труднее всего дался ему первый серьезный шаг – именно борьба с верой в прогресс, борьба с той безрелигиозной культурой, которая породила эту веру в прогресс. Дальнейшие этапы борьбы – борьба с социальной, политической, педагогической и религиозной неправдой современной жизни – дались Толстому гораздо легче. Объектом критики Толстого все время была современная цивилизация, из круга которой почти никогда он не выделяет и Россию, но мы найдем и у Толстого черты, сближающие его с славянофилами в их вере в особые пути России и славянства.
Первым ярким и страстным протестом против цивилизации Запада, против ее бездушия и фальши, является небольшой рассказ «Люцерн», относящийся к 1857 году, т. е. к первому путешествию Толстого за границу (ему тогда было 29 лет). Уже Париж оставил у Толстого очень тяжелое чувство – он присутствовал там при совершении смертной казни. «Я понял тогда, – пишет он в «Исповеди», – что никакие теории разумности существующего прогресса не могут оправдать этого поступка». Но внутренняя борьба, начало которой относится, как мы говорили, еще к юности Толстого, этим лишь усиливалась, а не устранялась; отталкивание от «цивилизации», от Запада, как родины этой цивилизации, усиливалось – но не менее сильна была еще и внутренняя связь с цивилизацией. Парижские впечатления были лишь одним из тех «шоков», которые заостряли и форсировали эту борьбу и вели ее к развязке…
Таким же шоком был и тот случай, о котором с таким неподражаемым искусством рассказал Толстой в «Люцерне», – Толстому пришлось жить в отеле с многочисленными туристами–англичанами, и уже здесь у него стало накопляться «чувство подавленности» от всех тех условностей и строгих приличий, которые заставляют каждого уйти в себя, «лишают людей одного из лучших удовольствий жизни – наслаждения человеком». Случай привел Толстого к площади, где пел песни один странствующий тиролец; эти песни были так хороши, так трогали душу, что покоряли даже бесчувственных людей, словно пробуждали в них заглохшую, но вечную потребность поэзии. Толпа наслаждалась пением, но когда певец кончил и стал обходить толпу, то все отвернулись и стали смеяться… Это глубоко взволновало и потрясло Толстого: «Мне сделалось больно, горько, а главное, стыдно за маленького человека, за толпу, за себя, как будто я просил денег, мне ничего не дали и надо мною смеялись». «Как вы, – страстно обращается в этом рассказе Толстой к толпе, а через нее ко всему цивилизованному миру, – как вы, дети свободного, человечного народа, вы, христиане, просто люди – на чистое наслаждение, которое вам доставил несчастный, просящий человек, ответили холодностью и насмешкой?» «Отчего этот факт, – спрашивает далее Толстой, – невозможный ни в какой деревне (очевидно, русской! – В. 3.), возможен здесь, где цивилизация, свобода и равенство доведены до высшей степени? Неужели распространение разумной, себялюбивой ассоциации, которую называют цивилизацией, уничтожает и противоречит потребности инстинктивной и любовной