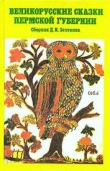Текст книги "Страшные сказки"
Автор книги: Василий Тихов
Жанры:
Ужасы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 7 страниц)

О том, как клады на людей выходят и что из этого получается
Ты ведь, поди, и сам не знаешь, откуда есть пошел человек на нашей земле. Может, и правда, по божественному промыслу. В человеке всего помаленьку намешано, только у одних божественного много, а другие с дьяволом в союз вступили. Вот Гришу взять – ему многое известно было, а это ведь не только от Бога. Однако ж любили его у нас. Зла Гриша никому не делал? Тоже не так. От Гриши колдунам много плохого было, а колдун-то хоть и созлый, Господь его на земле допускает. Я так думаю: это чтобы человеку нелегко жить было, чтобы грех свой первородный искупал род человеческий. Замыслено, значит, так было. И у зверья, и у птиц там разных – у них тоже своя божественная история имеется.
Вот откуль, спросишь, в лесах наших кукушка, воробей и голубь взялись? Раньше-то без них тоже не обходилось, только они малехо другие были. Кукушка гнездо вила, птенчиков выпаривала сама, уж не подкидывала другим птицам. И у воробья справный дом имелся – не летал он по всему белу свету без кола и без двора. А голубь, вишь, замухрышка был, совсем непутящая птичка, и святости в нем никакой не было, перебивался по крошечкам – где зернышко стащит, где соломинку.
Слыхал, наверное, как Иисусу в жизни своей натерпеться пришлось. Хотел его нечестивый царь Ирод извести, воинов по всему белу свету разослал, чтобы отыскали, доставили пред очи его черные. А Иисус об этом осведомлен был, вот и прятался, и до того его довели, что укрылся где-то в наших лесах, в траве высокой – тоже ведь умирать неохота. А воины Иродовы лес окружили, стали вопрошать, куда беглец делся. Кукушка с ветки им и отвечает: «Тут – тут, тут – тут, тут – тут». Ииеус-то хотел укрыться, а она его выдала. Вот и проклял Иисус кукушку: «Чтоб тебе гнезда своего не вить никогда! Пусть твоих детишек другие птицы выпаривают и воспитывают!» Так и повелось с той поры. А это ведь нехорошо для матери – детей своих подкидывать, – на старости стакан воды подать будет некому.
Решил тогда Иисус мертвым прикинуться, замер где-то в тростнике. Снова воины Иродовы вопрошают, куда Иисус подевался, жив ли он. А воробышек сидит на веточке и чирикает: «Жив-жив, жив-жив, жив-жив!» Может, и не со зла, но тоже нехорошо получилось. И его проклял Иисус, наказал за предательство: «Чтоб у тебя гнезда своего не было! Чтоб летал ты по свету, а сесть тебе нигде не давали!» Вот и стал воробей воришкой, вот и гонят его люди отовсюду, на землю близ жилья человеческого сесть не дают. Один голубь Иисусу помог, не стал предавать. Сидит и воркует: «Ум-мер Иисус, ум-мер!» За то награда ему была обещана. Теперь голубям все позволено – человек их с тока права гнать не имеет. Вот они хлебом и кормятся. А что до убытку – дак хлебороб голубю его долю обязан отдавать без принуждения, иначе плохо будет – на ту же долю урожай меньше соберет.
Это все, вишь, лесные птицы. А домашних опять же взять. Им святые угодники покровительство оказывают, чтобы не забижал человек, чтобы кормил да ухаживал. Так они вместе и живут, хотя и гибнут от человека, в котел его отправляются. Но так уж устроено испокон веку, что они главное пропитание дают. А дьявол и до домашней птицы, и до скотины добирается. Поэтому с ним и чудеса разные бывают.
Я вон, когда молодой был, – у нас такое приключилось! Молодежь тогда по вечеркам хаживала, в гармонию играли – клубов-то никаких не было, вот и собирались по избам да по баням. Идем мы одинов по улице. Сапоги на парнях со скрипом, как тогда в моде было, я только в бахилах. В бахилах, вишь, удобнее, их на ноге почти и не чуешь, но мне ж обидно было, что деньжат недостаток – сапоги не укупишь. Но крепился, виду не давал. Идем мы так, сам черт нам не брат, гармония опять же играет. А гармония баская – с малиновым перезвоном, позвонки там на нее навешаны разные. И вдруг видим: под ногами курочка вьется. Да странная курочка: шея долгая, голая, крылышками бьет – того и гляди взлетит. А перышки у ей такие белые да чистые, что глазам больно смотреть. Шуранули ее чем-то, а она не отстает. Тогда только пропала, как избу заброшенную прошли. Назавтра тоже курочка в том же месте показалась, а за ней теленочек красный трусит, хвостом вертит. И тут отогнали. Вроде уж и забыли о курочке с теленочком, а мне любопытно стало: чьи же они такие, откуль взялись? Спросил у матушки. А она и говорит:
– Не иначе, клады на вас выходят. Курочка беленькая – это серебро складено, а теленочек красный – золотой клад. Их обчурать надо – наотмашь чокнуть и сказать: «Чур, моё!» Только тогда монетами рассыплются.
Матушке моей это все известно было. Она когда малая была, у них в деревне баба одна вдовая жила. Изба ей от мужниных родителей перешла. И вот в одно прекрасное время стало их с дочкой из дому выживать. А это уж страшное дело. Как ночь – шебуршит кто-то в голбце, плахи в полу подымает, а с потолка голос: «Паду да убьюсь! Паду да убьюсь!» Чего она только не делала – и святила избу, и маком обсыпала все. Домовому, опять же, подношение делать положено – пирог рыбный да стакан водки. Но как ни старалась – ничего не помогает, вовсе уж собрались с избы съезжать. А тут к ней на постой нищий попросился на одну ночь. Пришел, под окном встал, посохом своим странственным стучит: «Пусти, хозяюшка, ночь переночевать!» – «Да тебе у нас не глянеться. Иди уж в другое место». – «А что такое?» – «Страшно у нас, выживает. Плахи в полу кто-то подымает, голос с потолка говорит». – «Экое диво! То плахи рассохлись – скрипят и пучатся. А голос – дак то ветер в трубе завывает, вот тебе и блазнит». – «Да нет, странник. Голос тот отчетливо так выговаривает: „Паду да убьюсь! Паду да убьюсь!“» – «Верно ли, хозяюшка?» – «Да как не верно-то? Каждый вечер страх на нас наводит». – «Знаю я, как горю вашему помочь. То клад на вас выходит. Его время пришло, чтобы человеку показаться, а вы не понимаете. Ты бы меня пустила, я уж помогу тебе. Мне многое не надо». Приютила его вдова. А как ночь опустилась, снова с потолка у самой печки: «Паду да убьюсь! Паду да убьюсь!» – выговаривает. Взял тогда нищий посох свой странственный, кругом по избе прошелся так, что мебель чуть не посшибал. А потом встал у печки, посохом по потолочине постукал и говорит: «Пади да убейся! Время пришло!» Тут же прямо под ноги ему золотые монеты посыпались. У бабы глаза разгорелись – никогда такого богатства не видела. Стала она золото в подол сгребать, а тут соседка заходит: «Не дашь ли, Анна, щепоть соли взаймы, а то похлебку варить не с чем». – «Уйди, ради Христа! Позжее заходи: видишь ведь, занятая я, недосуг». А соседка-то золото увидала, разохалась вся: «Ой, какие у тебя, Анна, монетки! Да сколько много-то! Не отсыпала бы нам по бедности нашей и нищете?» Хозяйка-то озлилась – жадность в ей заиграла. А это, не иначе, бес ее подталкивал, каверзу строил. «Где ж ты, глупая, золото увидала? Это не золото вовсе – угольки из печи рассыпались. Странник вон неладно их на загнетке загребал. А ты уж иди, иди, недосуг мне с тобой лясы точить!» Разобиделась соседка, ушла. А вдова с нищим сгребли все золото в корчагу, делить стали. Да жадность-то их и сгубила. Рассорились они, кому сколько золота положено взять. Нищий за посох схватился. Анна за кочергу.

Стали пластаться, да так, что хозяйка в угол улетела. А нищий быстрей-быстрей запустил руку в корчагу и взвыл дурным голосом! Трясет рукой, дует на нее, потом в кадку с водой засунул. Заглянула баба в корчагу, а там вместо золота – угли горячие. Так вот они через свою жадность богатства лишились. Клад-то, он только на хорошего человека выходит, а плохому и в жисть не достанется. Скупость-то, вишь, до добра не доводит.
Вот тоже случай был. Богородица по земле ходила – высматривала, как человек живет, за которого сын ее настрадался в жизни изрядно. Правильно ли живет, не во грехе ли? Прикинулась она нищей старухой, чтобы не опознали, милостинку под окнами просила, на паперти опять же. Ей знать надо, милосерден ли человек на земле грешной живет. Постучалась она тут под окошком одним, а в избе только сыночек с матерью были. Они, вишь, вечеровали, столовничали, и шти у них мясные были, и мясо в тарелку накладено, и хлебушек из крупчатки. Нищенка и говорит: «Подали бы мне, Христа ради, на пропитание хоть хлеба корочку». А баба взбеленилась: «Нет для тебя, старуха, ни кусочка! Уйди, а то хуже будет! Шляются тут по дворам, а потом неладно в доме». Сыночек-то углан еще, помягчее мамаши, не тронула сердце его скупость. Вот он и говорит: «Может, маменька, подать ей чего? Вон у нас добра сколько!» Тут и баба маленько подобрела: «Да уж ладно. Держи вот репку, какая ни есть. А боле для тебя ничего не имеется». Швырнула она Богородице репку, а та вся в земле была, немытая. Богородица ее под окном прямо и сжевала, земли не счищая. А напоследок сказала: «И на том спасибо, добрая женщина. Уж так ты меня, голубушка, уважила! Не знаю, как и благодарить тебя». – «Ладно, ладно, иди, куда шла!» – «Благодарная я тебе, женщина. Замолвлю уж за тебя словечко». Сказала так и пропала, как и не было ее вовсе. И трех дней не прошло, прибрал бабу жадную Господь. Схоронили ее, на могилке поплакали. И снится сыночку сон. Идет он каким-то полем с буераками, темно кругом, небо тучами надежно закрыто. Входит в пещеру глубокую, дальше путь свой коридорами извилистыми держит, В одной пещере грешников на медленном огне жарят, в другой – ребра им выламывают, и чем дальше, тем страшнее делается. А в самом дальнем углу кипит котел смоляной, а в котле том матушка его варится – стонет, плачет. Мальчонка тоже заплакал: «Как, матушка, помочь тебе?» – «Ой, миленький мой, и не знаю. Сходи к набольшему, попроси за меня. Может, он муку изменит мне, послушается. Ты же у меня безгрешный». Пошел мальчонка к набольшему, стал за матушку просить. А тот нахмурился: «Грешница большая твоя матушка. Нельзя ее прощать», – «Будь милостив, дяденька! Помоги уж, я тебе за то все, что хочешь сделаю». – «Мне, мальчик, нельзя котел пустым держать. Если б ты замену нашел какую, тогда бы сговорились». – «Ой, дяденька, давай я заместо матушки в котел сяду. Жалко мне ее, сил нет смотреть, как мучается». Задумался набольший. Брови опять-таки нахмурил: «Не положено так-то. Где ж это видано, чтобы дитя безвинное за родителей муку принимало. Не ходи туда, мальчик. Другой способ есть. Возьми репу грязную, самую грязную, какую в бурте найдешь. Матушке своей в котел зелень опусти, если вытянешь ее на зубах, обратно на землю отправитесь. А нет – дак уж не обессудь: оба-двое мучиться будете». Схватил углан репу, самую грязную выбрал, и к матушке побежал. Она еще пуще расплакалась, но, однако, за репу-то зубами уцепилась.

Вот они и тянут – каждый в свою сторону. Силенок у мальчонки мало, да и матушка его баба дородная – вот-вот в котел утащит паренька. Испугалась баба за сыночка – отпустила репу-то. Разом в глазах у него помутнело. Очнулся на пене в родительской избе. Дух хлебный до него доносится. Матушка на лопате из печи хлеба вынимает, к церкве собирается – нищих кормить. Так по-прежнему жизнь у них и пошла. Только богатства былого уже не стало.
Так-то вот оно и бывает с жадными да скупыми. Но меня, вишь, это минуло. Клады-то я думал не для богатства вынуть – уж больно сапоги со скрипом хотелось иметь. И так меня эта думка замучила, что сон пропал. Сомкну веки, а у самого одно на уме: как клады укараулить. Я их по-честному разделить хотел, чтоб никому не обидно было. А тут мне на ухо кто-то нашептывает и нашептывает: «Не трогай наши клады, Егорушко. Не трогай. У тебя тогда все будет, если не затронешь». Открою глаза – нет никого, только огонечек синенький в углу горит. Снова веки сомкну – опять наваждение: голос слыхать, а кто шепчет – непонятно. «Ежли не затронешь теленочка с курочкой, ежели сделаешь, как велим, все клады тогда тебе открыты будут – любой вынимай. Согласный – дак приходи к нам на поляночку, мы уж тебя научим». Опять глаза открыл. Огонечек не пропадает, горит себе тихохонько. Только то странно, будто и не от свечки, не от керосинки – ровный совсем и сголуба как бы. И слышу я: веретешко по полу жургает: «Жар-р, жар-р, жар-р». Кто ж это ночью прясть может? Поглядел в уголок, тут у меня сердце чуть из горла и не выскочило. Сидит у пряслицы старушка маленькая. В платочке, сарафане, как бабка моя еще нашивала. Сидит и прядет, а на прялку пряжа светленькая привязана – большущий такой комок. Гляжу я и понять не могу, из чего пряжа выделана – не видал такой никогда.
Тут-то страшно мне стало. Как обожгло водой студеной – это ж суседиха из голбца выбралась. Самое ее время. Нас, вишь, суседихой сызмальства пугали, чтобы без дела в голбец не лазили. А тут вот она, сидит, прядет. Ее к доброму не видают, только к худому. Тут бы мне и призадуматься, о чем знак был, а сапоги, вишь, весь белый свет застили – так покрасоваться перед девками охота было. Вот я и смекаю про себя, что голоса не иначе как про папоротников цвет говорили. Есть такой цветочек, в ночь на Ивана цветет. И вот, кто счастливый, тому достается этот цветочек. И все клады в земле бывают открыты. А голоса шепчут: «Правильно, Егорушко! Правильно смекаешь. Приходи к нам на поляночку в эту ночь, все как есть тебе про цвет папора скажем. Приходи-и, приходи-и, а про клады эти забудь. Наши они». Тут я и решился. Не иначе, и меня заморока взяла. Знал ведь, что бесовское это дело, а бабушкины золотые слова запамятовал.
Ввечеру парни опять на гулянку собираются. Оно, вишь, после Пасхи как раз было, за зиму-то насиделись по избам да по баням, на воле погулять охота стала. Грех, конечно, в пост гулянки устраивать, но ведь противу натуры не попрешь. Молодость, она и на то молодость, чтобы работать справно и веселиться справно. А я хворым сказался – мне ж в Кривой лог идти надо, все про цвет папора узнать. Слыхал и рассказы такие, но, говорят, не было еще человека, который бы им до конца завладел. Всё нечистый дух его выманивает. А тут, я смекаю, они и предложили. Вот и отправился.
Иду я дорогой, спешить, вроде, незачем. И опять меня любопытство разобрало. На краю, вишь, кузня стояла. Трофимка там робил. Перед летом-то работы много, но тут что-то совсем завечеровал мужик. А на кузнеца многое тоже наговаривают. Он, вишь, с огнем и с железом робит, дак черти, говорят, ему и помогают. Решил я крадом подглядеть, чем он таким в самое страшное время занимается. Подкрался к кузне, а заглянуть не с руки. Вот и залез на крышу, стал в щели заглядывать. Трофимка молоточком по наковальне постукивает, жар там у него пышет. Пригляделся: а он гвозди кует – для общества старается. Хотел я уже слазить с крыши, да тут на дороге тройка показалась незнакомая. Правит ею мужик ладный, а кони на отличку ото всех. Груди широкие, бабки, как точеные, – хорошо тянуть должны. Тройка, вишь, у кузни остановилась, Трофимка услыхал:
– Кого черти принесли в такую темень?!
А мужик слез у кузни, весь в кожу затянутый, вот она у его и поскрипывает, как сапоги.
– Ты, что ль, кузнец будешь?
– Ну, я. А ты что ж в такое время коней маешь?
– Не твоя это забота, Трофимка.
– Ишь ты какой выискался! Я тебя и не видывал, а ты «Трофимка». Мне все уважение оказывают, по отчеству величают, а ты выискался тут. Тьфу, пропасть!
– Ладно, хорош лаяться. Не собаки, чай. Возьмешься для меня работу сделать?
– Недосуг мне. Другой работы навалом. Тебе, знать, ковать надобно коней-то. А у меня и без тебя голова болит, как бы со всем ко времени управиться.
– Да я тебе богато заплачу.
– На что мне твои деньги? Подавился бы ты ими.
– Не лайся, Трофимка. А то хуже будет, ежели просьбу мою не исполнишь.
– Ой, ой, напугал как! Самого соплёй перебить можно, а туда же – пугает. Ну что ты со мной сделаешь?!
– А вот гляди!
Тут возница прямо на глазах расти начал – уж выше крыши вытянулся. Взял он елочку за маковку, дернул легонько и так ее зашвырнул, что и не видать было, куда упала. Трофимка со страху закрестился – понял, кто к нему в заказчики пожаловал.
– Ну, будешь ли ковать?
– Да куда от тебя, окаянный, денешься. Буду.
Мужик сразу простого росту стал. Наладился Трофимка с молоточком, гвоздями, подковки достал. У коренника ногу заднюю загинает да как заорет вдруг!
– Не буду ковать, хоть режь меня! Там же нога человечья!
– Не твоя заботушка! Куй, тебе говорят! А не станешь – дак гляди, самого тебя, как елку, закину!
– Ладно, твоя взяла.
– Куй, куй, я уж и кошель приготовил.

Стучит Трофимка молоточком, а у самого из глаз аж слезы катятся. Виданное ли дело – в человечью ногу гвозди вбивать! И коренник стоит, дергает его во все стороны, плачет горючими слезами – они у него аж с горошину сыплются.
Взялся кузнец за передние ноги. Еще пуще зарыдал.
– Как же мне в руку-то человечью гвозди вгонять? За что ж мне такая мука?!
– Куй, куй давай! Твое дело робить, а не глядеть, что под гвоздем.
Присмотрелся я получше, в молодости-то глаз зоркий был. Господи, ужас какой! Рука-то крестьянская, узловатая, ладонь широкая. Это ж мука какая! Господь через то же прошел. И ступни, и ладони ему гвоздями на кресте дырявили, а он терпел.
Закончил Трофимка работу. Возница в повозку взлетел, гикнул, свистнул, тройку без жалости нахлестывает – вот кони и полетели, как проклятые. Вмиг не стало видать, только дорога загудела по-страшному, А Трофимка глянул – у ног его кошель тяжелый лежит. Поднял он его, сказал только: «Господи, прости!» – взвыл дурным голосом и в канаву кошель забросил. А в канаве пыхнуло огнем. Чертовы-то деньги, видать, не простые оказались.
Потом уж мне Гриша разъяснил, что там такое случилось. Возница, понятно, сатана и был. Он ведь на Пасху обязательно человека в петлю должен подтолкнуть – иначе ему нельзя. Вот он и присматривает, выискивает где у кого слабинка есть. А тут семейство целое попалось. Они, вишь, небогато жили, а еще год неурожайный. Вот, как совсем невмочь стало, окаянный им нашептывал. Хозяин-то печь рано закрыл – они всем семейством и угорели. А сатане этого и надо – души грешные улавливать. Он их в коней оборотил и катался, пока луна стояла.
Тогда-то я не понял, что это такое случилось, потом уж только. А ведь знак это мне был, чтобы не ходил в Кривой лог, чтобы не думал про цвет папора. А мне уж больно хотелось сапоги заиметь, вот дальше и пошел. Дошел до места, на пеньке пристроился. Сижу, жду, что дальше будет. А из лесу выходит мужик здоровущий. Как он появился, деревья сразу к земле запинаться стали.
У меня аж мороз по коже пошел, как в бане, когда с улицы в жар попадешь. На мужика и глянуть боюсь.
– Зачем пожаловал, парень?
– Да не знаю, дяденька. Велено было явиться. Разговор, видать, какой-то до меня есть.
– А кто велел-то?
– Да голос был мне, видение. Старуха маленькая в сарафане да в платочке блазнила.
– Это уж сестренка наша. Голос-то про клады спрашивал?
– Про клады, про клады, дяденька. Я уж думал курочку с теленком монетами рассыпать, а голос отговаривал:
– Что ж ты такой-сякой на чужой каравай рот разеваешь?! Ты эти клады зарывал? Ты заклятие на них дожил?
– Да где мне, у нас деньжищ таких никогда и не бывало.
– А что ж тогда покушаешься?
– Сапоги охота завести, чтоб со скрипом были, а денег недостаток.
– Будут тебе сапоги. Приходи на эту поляну в ночь на Ивана. Мы тебе тогда и цветочек укажем. Твое дело сорвать и до дому унести. Понял ли?
– Да понял, понял, как не понять!
Сказал так, а мужика уже и нет нигде. До дому я бегом бежал, на крыльцо влетел так, что сбрякали ступеньки. Матушка поворчала малость, что топочу, как жеребец нехолощеный. А у меня на душе и радостно, и муторно – все разом. Боюсь, как дальше все сложится, и радуюсь, что деньжата на сапоги заведутся. Тут же меня и другие мысли одолели. Сижу, думаю, что бы еще с цветом папора получить. Сапог-то одних мало показалось.
Это бес к такому и подталкивал, управлял желаниями. Ну, думаю, заведу себе гармонь – гармонистам всегда завидовал. Еще вина накуплю, чтобы угощать честной народ – меня тогда уважать все будут. И мельницу перекуплю, чтобы деньги никогда не переводились. Много я тогда напридумывал – самому сейчас удивительно, как такое в башку залетело.
А время-то к Иванову дню идет. Стал я тут задумываться, как от нечистого духа оборониться. Я слыхал, что Евангелие читать надо, зачерчиваться. А когда сорвешь цветок, ни с кем не заговаривать, не смеяться. Это, думаю, по силам окажется. А тут с матушкой беда приключилась. Она, вишь, заметила, что суседко, домовой по-вашему, косу ей плести зачал по ночам. Матушка у меня хозяйка была знатная – и стряпка, и скотница, – коровы у ей всегда обихожены были, в избе чисто. И суседко ей помогал по хозяйству робить. Мы как с работы вертаемся – в дому все ладно, аккуратно. Удивлялись: кто ж это так старается? А ночами суседко матушку только теплыми пальцами трогал, не давил ее, как бывает. Это уж первейший признак, что доброе предрекает. Раз еще косу заплел. У нас так считается, что трогать ее нельзя, иначе худо будет. Матушка и не трогала до поры. А тут корову новую во двор завели, я уж тебе сказывал, как это было.
На первое утро матушка во двор зашла, а корова вся в пенс, мокрехонькая, а к корму и не притрагивалась. Подивилась матушка, но значения не придала. Чем дальше, тем больше. Корова день ото дня худеет и худеет. Тут только смекнули, что суседко ее незалюбил, а матушке-то корова по нраву пришлась. Вот она меня и упросила, чтобы покараулил ночью, что ж там с ней такое делается.
Сошел я на двор, за яслями притаился. Сижу, глаза таращу, чтобы не уснуть. А после полночи старичонка махонький на дворе появился. Расхаживает по-хозяйски так, в красном колпачке, в косоворотке холщовой, ноги в лапоточки обуты. Похаживает он по двору, коров по бокам поглаживает, мерину нашему гребешком гриву расчесывает. Потом наладился ему косички мелкие плести. А к Пеструхе и не подходит, она от него бочком отодвигается, глаз косит. Закончил всех обихаживать – Пеструхи черед пришел. Старичок оземь ударился, лаской оборотился. Ласка Пеструхе меж рогов вскочила и гонять по двору начала. И щиплет ее, и треплет. Та уж вот-вот упадет – она ж слабенькая с голодухи. Тут я не сдюжил, выскочил из-за яслей да как заору:
– Вот кто нам скотину мает! Вот кто Пеструхе жрать не дает! А ну, брысь отсюда! – И ожег ласку хворостиной. Юркнула куда-то ласка, не стало ее, как и не было вовсе. Я Пеструху успокоил, погладил, приласкал, корму ей подсыпал. А потом ночевать ушел.
Утром матушка прибегает.
– Вставай, Егорушко! Ой, беда у нас. Ты ночью на дворе караулил?
– Караулил, матушка. Тама старичок такой был в красном колпаке. Он всю скотину, кроме Пеструхи, обихаживал, а ее, бедную, гонял. Вот я и ожег его хворостиной.
– Ох, что ж он, окаянный, наделал! Все ведь разгромил, порушил! Иди посмотри, там как Мамай прошел.
Выскочил я в одном исподнем на двор, а там и вправду все порушено. Ясли перевернуты, солома раскидана повсюду. Скотина в кучу сбилась, едва живая стоит. Тут я и подумал, что, может, зря старичка обидел. Вон он какой злой оказался. Теперь и другую скотину изведет. Матушке сказал, а она пуще того осерчала.
– Я этому ироду спуску не дам! Сама скотину караулить буду, чтобы не трогал. А то, ишь какой выискался – каверзы строить!
– Успокойся, матушка, как бы беде не быть. Суседко-то ублажать надо, сама же мне об этом сказывала.
– А я другого себе найду. Помоложе и получше. Этот уж надоел. Никакого проку от него нету!
И в сердцах косу-то, которую ей суседко плел, ножницами отхватила. Вот ночью и началось. Она, говорит, не вздохнуть, не охнуть не может, как подкатило ей что-то под горло. Одно только и смогла промолвить:
– К худу, к добру ли давишь?
Он ее пальцами ледяными стиснул и выдавил:
– К ху-уду!
И все. Не стало нам покою с той поры. Скотине худо – не ухаживает суседко за ней, мает только. В дому, как придем, вся мебель переставлена, мусор кругом. А у матушки голова болеть стала так, что моченьки терпеть нету никакой. Одинов я к дому раньше подошел, высмотреть решил, что ж там без хозяев делается. Подкрался под окошко, слушаю. А там разговор.
– Что ж, братья, делать будем? Как нам человека еще извести можно? Все уж перепробовали – и войны, и болезни насылали – живет, проклятый.
– Да просто все, так мне сдается. Не надо трогать, пусть люди сами собой изводятся. Тут только подтолкнуть требуется.
– Как подтолкнешь-то? Непростое это дело.
– Чего уж проще. Надобно не болезни и войны насылать, а вино зеленое. Будет вино, и нам хорошо будет. Человек, когда хмельной, так к нам и просится. Ну, быть ли по сему?
– Согласные. А что с хозяевами этими делать? Простить, может?
– Хозяйку-то можно, ежели подношение догадается сделать. Уж больно мне не по нутру маять ее. Это вам, варнакам, одно удовольствие человеку каверзы строить, а мне и помочь охота, ежели справный хозяин. А с парнем вам решать.
– Придет к нам в Кривой лог, цвет папора отдаст по доброй воле, там мы его и задавим. Уж больно он любопытен да с Гришей стакнулся. Ежели обманом выманим – пущай живет.
– Ну, на том и порешим. Ежели сам на поляне не убережется, спасать его и не будем.
На том разговор и закончился. Я – как закаменел, стою, слова не могу вымолвить. Видел только, как из трубы искры огненные посыпались. Тут и родители подошли. Я решил все-то им не сказывать, что слыхал. Только про подношение суседке и рассказал. Матушка обрадовалась, что наладить все можно. Пирог испекла – рыбник, стакашек водки налила. Поставила на ночь все это у голбичной двери, а ее приоткрыла. Утром ничего на месте не нашла. С той поры по хозяйству опять все ладно пошло. А меня разговор тот мает. Пошел к Грише, чтобы совет спросить. Выслушал он меня внимательно.
– Не ладно это, Егорушко. Приблазнило тебе или так все было, не скажу. Одно только твердо знаю: в ночь на Ивана придется тебе в Кривой лог идти. Место мне знакомое, совет дам. Только обещайся все исполнить, как скажу. Про Евангелие и про то, что зачерчиваться надо, слыхал уже, это хорошо. Но и другие способы есть, чтобы дьяволу не поддаться.
– Какие же, дядя Гриша?
– Как зачертишься, по сторонам не гляди, кто бы тебя ни звал. Искушать будут, не поддавайся. Знаешь, поди, как искушают. Грех, он верткий, не заметишь, как подкараулит. А чтобы случаем в ухо не залетело, их воском залепить придется. Только с той свечи, какую на венчании жгли. Тогда, может, и пронесет.
– Может, дядя Гриша, не ходить мне?
– Нельзя, Егорушко. Коли попался, идти надо. Иначе они тебя в другом месте укараулят, где и не ждешь. Лучше уж разом отвязаться. Понял ли меня?
– Да понял, дядя Гриша, понял.
– Ну, так отправляйся. И не боись. Ничего не случится, ежели все, как велел, сделаешь.
К ночи на Ивана я загодя подготовился. И воску со свечки венчальной намял, и Евангелием запасся. А чтобы зачерчиваться, для верности ожег банный взял. Со всем этим хозяйством и отправился. Мимо кузни, как мышка, проскочил – боязно было, про тройку вспомнил. И мимо осины тоже, что на росстани стоит, нехорошее ведь это место. Иду дальше и невесело становится. Зачем заветы нарушаю, зачем с чертями судьбу свою связываю? Уж совсем решился было обратно повернуть, но чую: как подталкивает меня кто-то. Иду бесшумно, в лапти обулся, чтобы удобнее было, только трава шуршит да из Кривого лога посвистывает кто-то. Сесть хочу, дух перевести – ноги не сгибаются, сами собой вышагивают. А меня уж и на полянку вывело. Стоит в середке пенек трухлявый, а кругом пусто, только папоротник-трава растет. Всю жизнь мне любопытно было, каков же из себя цвет его. Тут уж недолго осталось, чтобы узнать, а что-то пакостно на сердце, кровью его заливает. Сел я на пенек, зачертился по-быстрому банным ожегом. Евангелие на коленях разложил и читать зачал.
Тихо в лесу, ни былиночка не ворохнется. Я уж и носом поклевывать стал, совсем как тогда на печи, когда деда Коляна хороняли. Но травинку припас, чтобы в носу щекотать от сна. И чую, что не один я на полянке, тесно вроде стало, хотя за круг никто и не переходит. И любопытство меня разбирает: вот бы хоть одним глазком посмотреть, что ж такое на полянке делается. А тут в ухо мне нашептывает на разные голоса. И слышу, матушка жалобно так застонала: «Егорушко, спаси меня, мучает меня неведомая сила. Спаси, Егорушко». Сердце у меня зашлось, совсем было на подмогу кинулся, да про воск вспомнил. Гриша-то мне наказывал, а я запамятовал. Схватился за вощинку, пока пальцами ее разминал, читать бросил. Тут же со всех сторон ко мне хари потянулись жуткие, какие и во сне не увидишь.

Но успел уши заткнуть, и зачастил, что никакой и дьячок не угонится. Сразу пропало все. И хари, и лапы когтистые.
Отлегло от сердца. Но дальше непонятно: как же я цвет папора узрею, коли по сторонам глядеть нельзя? Только подумал так, пенек подо мной подпрыгивать начал. Знак, думаю, и есть.
Поднял тогда глаза, а кругом огонечки горят. И баские такие, что не налюбуешься. Сижу я, жду, когда цвет папора появится. Мне ведь он думался красоты неописуемой – листочки всех цветов и светится ярче солнышка красного. Но как ни глядел – не увидел такого. Один огонечек только и подрагивает, мигает как бы, остальные ровный свет дают. Вспомнил я тут, что и на цветок знак будет, понял, что самый неяркий он и есть. Всегда так и случается. Ждешь настоящее, да кажется оно навроде жар-птицы сказочной. Погонишься за ней, а там пусто. Настоящее на деле самым невзрачным да худым оказаться поначалу может.
Вот было у нас. У дядьки моего сын приемный был, Семен. Баскущий, ядреный, и в работе не отставал. Всем задался парень, и девки на него заглядывались, но уж больно разборчив оказался. Погодки его семьями обзавелись, ребятишками, а он все не решался. У одной нос в конопушках, у другой рот велик, третья всем хороша – и станом крепка, и плечами кругла, и другими женскими прелестями богата, ан и у нее изъян – разговорчива без меры.
Так и докопался – не осталось в округе ему ровнюшки. Одна только девка – кособоконькая да полоротенькая. Он на нее даже и не глядел. А ведь время пришло гнездо вить, не в бобылях же сидеть! Тут он и затосковал. Во сне раз такая девка привиделась, что глаз невозможно отвесть. Стала она его по ночам потаенным поманивать, бабьим. Семен совсем извелся – вилы в руках удержать не может. А девка, слышь, чуть не во плоти ему являться стала. Ушел он тогда на вышку ночевать, выжидать ее. Девка-то является, во всей красе ему показывается, он уже и жар от нее чует, а руки протянет – она как сквозь землю проваливается. Проснется Семен – в руке у него угол сенника зажат. Утром раз не сдюжил, вышел на крыльцо да гаркнул во все горло: «Хоть бы сатана за меня пошла!» И тут же колокольца забренели, покатился по улице свадебный поезд богатый. За невестой на телегах приданое везут в сундуках распахнутых. Гривы лошадиные шелковыми лентами изукрашены, музыканты в повозках сидят. Одни волынки тискают, другие в дудки дудят, кто-то в бубен наяривает, кто-то на гусельцах набрякивает. А невеста та самая и есть, что по ночам являлась. Взошел Семен к ней, к бедру крутому прижался, слова нежные в ухо шепчет. Сам и не помнит, как в церкве подъехали. Встали пред налоем, на Семена уж и венец опускают, тут он возьми да перекрестись! Оглянулся кругом – батюшки! – музыканты-то окаянные. На бубны у них кожа человечья натянута, дуют в косточки ребячьи, заместо волынки пузырь рыбий, а на гусельцы жилы бабьи натянуты. А невеста хвостатая да рогатая, задом крутит, хвостом метет, пасть уж расщеперила, чтобы сожрать. Зачитал Семен молитву – с жизнью прощаться, – тут все и пропало, как и не было вовсе. Очнулся Семен в сарае каком-то кособоком. Стоит на чурке, а с потолочины на него петля пеньковая опускается, в руке косточка куриная заместо свечи зажата.