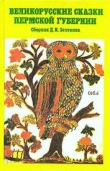Текст книги "Страшные сказки"
Автор книги: Василий Тихов
Жанры:
Ужасы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 7 страниц)
Видит Яков: худо дело. И молитва, и крест не помогают. Лешачиха уже и дров наломала, костер сложила. Пыхнул он так, что дым к звездам понесся. А тут пожарка недалече у нас есть. И тогда она стояла. Нарядчики, вишь, увидали дым-то, вот и вдарили в колокола. Лешачиха, как услыхала звон колокольный, зашипела змеей, сругалась по-матерному и пропала. А Яков обратно в село ушел, к братану сразу подался. Карпа его выслушал, задумался.
– Крепко она тебя окрутила. Так просто и не избавишься. Но ты, Яков, не печалься. Сделай так. Из крестика нательного пулю отлей, возьми ружье, которое с дула заряжают, а как снова встретишь лешачиху, стрели ей прямо в грудь противу сердца. Только помни, что сердце у нее не слева, а справа бьется. Ежели точнехонько попадешь, она отвяжется.
Так Яков и поступил. Зарядил ружье, приготовился и опять в Кривой лог отправился. Только до овражины дошел, лешачиха тут его и поджидает.
– Попался ты мне теперь. Не уйдешь, проклятый. Щас я тебя давить буду.

И снова, слышь, костер готовит. Тогда туман в овражине скопился, с пожарки дыма-то и не увидали б. А так, кроме колокольного звону, ничего не боится сатана. Яков ружье на руке прикинул да и стрелил прямо в грудь лешачихе. Взвыла она дурным голосом, так что Якова чуть не вывернуло, грудь у нее разлетелась на мелкие клочки. Посмотрела спокойно так на Якова и говорит:
– Догадался ведь, сучье отродье, научили. Так бы я тебя съела за то, что дарами нашими побрезговал. Но, гляди, не тебе, дак семье твоей еще и не то будет!
Сказала так и пропала, будто и не было ее.
С той минуты совсем не стало спокою Якову. И без того хлопот полон рот. Как дурной совсем стал – сидит у окошка, как минутка выпадет, так думает, что бы такое сделать, чтобы целым остаться. А тут углан вьется и вьется вокруг.
– Батя, сделай мне вертушку, чтоб крутилась. Бать, ну сделай! Вона, у Миньки есть, у Ваньши тоже отец наладил. Да такие баскущие.
Злость на Якова как волной нахлынула.
– Пошел ты к лешему, Сенька! И без тебя тошнехонько.
Сказал и дальше задумался. А ближе к ночи хватились – нет Сеньки нигде. Стали спрашивать у угланов. Они говорят: мол, Сенька к лесу пошел, но без лукошка, без силков. И все, говорят, молчком да молчком. Они уж его окликали, а Сенька не отзывался. Тут Якова как громом поразило – сам же парня к лешему отправил.
– Моя вина в этом. Сам же родное дитя со злости и отдал! Как же жить мне теперь на белом свете, как людям в глаза смотреть?
А Карпа его утешает. Есть, вишь, время такое в сутках, когда дитя свое можно лешему неосторожным словом отдать. Вот в такое время, видать, Яков и обмолвился. А леший тут как тут – он под окошком укарауливал, Якова за язык тянул. Так и увел углана.
Карпа велел Якову подношение собрать лешему и отнести на пенек на той самой поляне, где он его верхом на корове встретил. Взял Яков четверть вина, осьмушку табака, краюху хлеба, в тряпицу красную атласную завернул и отправился. Пока шел, все передумал – сердце изнылось по сыну да по Наталье, от нее к тому времени уж давно вестей не было. Оставил подношение на пеньке – тряпицу расстелил и разложил все на ней, как Карпа учил. И стало ему любопытно, что дальше будет, вот и спрятался в кустах. Ровно в полночь пришел давешний мужичок в армяке и шапчонке, обнюхал все, обследовал да угощенье на траву и вывалил. Потом на пенек уселся, достал сучок изогнутый из кисету – вроде как трубка, мохом сухим ее набил – сидит курит. А сам глазом на четверть все косит да косит – уж больно охота. Но только прикоснулся, приходит средний брательник, за шиворот хватает и в чащу утягивает. Понял Яков, что угощение у него не берут, не хотят парня возвращать. Вернулся вновь к Карпе.
– Не приняли они подношения, Карпуша. Что же дале делать мне? Есть надежда, нет ли?
– Надеждой живи, Яков, она да терпение все в жизни человека перемелют, перетрут. Сам леший теперь тебе знак должен подать, что с парнем будет.
Так оно и случилось. И дня не прошло, бегут с реки бабы, которые белье мыли.
– Яков, Яков, бежи шибче на речку! Там Сенька твой в колодине приплыл с верхов!
– Да живой ли он, бабы?
– Ой, Яшенька, страшную весть тебе принесли. Не дышит, не шевелится парень.
Кинулся Яков на берег. И верно – из реки гробик вынесен, вода с боков еще не скатилась. А в колодине Сенька вытянулся, задеревенел он весь уже. Только подумал так Яков, внутри у него голос Наташин шепнул:
– А он и есть деревянный. Тебе его леший назло подбросил, а живого прячет у себя в зимовье.
Схватил Яков топор – в щепки куклу изрубил. А тут и Карпа на берег приходит.
– Правильно, – говорит, – Яшенька, делаешь! Не давай лешему себя за нос водить. Упорный будешь – Сеньку живого домой вернешь!
Старухи уж Сеньку в трубу печную гаркали, тряпочки красные по всему лесу развесили для лешего. Он, слышь, любит красное-то. Потому так и подносили. А Яков в церкву собрался, молебен заказал по сыну, но не по мертвому, а по живому. Это он правильно поступил, а то разное случается. Вон, года два назад у нас было. Тоже мать девку свою обругала: «Унеси тебя лешак!» Дак леший и увел, и никаких ведь следов найти не могли, снегу навалило столь, что двери каждое, почитай, утро отгребать приходилось. Всё тогда родители перепробовали – и подношения делали, и в трубу гаркали и Богу молились. А потом мать поехала в район, церква-то там у нас. Стала молить, чтобы хоть косточки девкины вернул дядька лесной. Так и получилось. Снова как пошли искать, у фермы нашли. Только она уж замерзла, неживая была. Ее козырьком снежным у самой стены завалило, вот и задохлась. А ведь как просили, так и получилось. Выкинул им леший косточки, хотя и живую мог вернуть. Тоже с соображением делать надобно.
А по Сеньке молебен тогда по живому служить стали, И в тот же день его за околицей увидали: ходит вкруг деревни, а войти не может. Дед Карпа совет дал на кресте его привести, на гайтане от крестика нательного. Это тоже хороший способ. Как-то раз у нас два мужика с покосу возвращались, видят: у Кривого логу баба в красном сарафане с цветами черными сидит на пеньке и воет. Решили они проверить: человек или чертовка. Ладятся на нее крестик накинуть, а она все пятится. Знать, что лешачиха была. Леший ее прибил за повинность какую, вот она и выла.
На Сеньку тоже крест накинули, еле в избу затянули, он все порывался деру дать. А как опамятовался, рассказывать начал:
– Я с дедушкой всю неделю ходил, с тем, который летошним годом помер. Он ничего, ласковый. Мы с ним ходили по деревням по пирушкам. Мужики как напьются, мы все хорошее из тарелок съедим, а они-то нас не видят. Наплюем в тарелки-то, вот они нашу плевотину и едят и нахваливают. Еще дедушка заставлял меня в лесу коров доить. Привяжет ее лычком к дереву, а я за сиськи дергаю. Вот молоко пили. Потом говорит: «Тебя уж в трубу гаркают, тряпочки вон развесили по лесу. Не пойдем в деревни больше». А в лесу-то голодно. Стал я у него поесть просить. Он мне лепешку дал. «На, внучек, поешь». Я лепешку-то разломил, а там говно коровье. Орехи дает грызть – дак они козьи горошки, не будешь же такое исть! Если б не ягоды, совсем бы с голоду околел. А потом привел меня в поле, под зад коленком поддал и пропал, будто и не было его вовсе. «По тебе, – говорит, – уже и молебен отслужили. Догадались ведь, гады! Отзынь от меня! Пшел!» Вот так я к деревне и вышел.
Через какое-то время Наталья вернулась с богомолья. Послушала, что без нее дома делалось, закручинилась.
– Это, – говорит, – мне наказание. Не любят они там людей просто так отпускать. И через твою, Яков, встречу с лешим тоже досталось горя. Ну да ладно, живы будем – проживем.
Оно и верно – ребятишек вон подымать надо. Наладилось как-то у них все, отвязался от Натальи нечистый дух. Но недолго так-то прожили. Яков много старше был, вот и не дал Бог подольше вместе потешиться. Как Наталья овдовела, ей, почитай, неполных тридцать годков исполнилось. Баба она видная была, сватались к ней не один да и не двое. Всем отказала, одна дядьев моих и теток подымала. Да и то смех: младшенький-то дядька, почитай, еще в штаны пысался, когда я робить за взрослого начал. Вот и любила Наталья меня как старшенького сынка.
А я тогда на лесоповале робил, и вот занемог, грыжа, говорят, образовалась, хоть сам ее режь, проклятущую. Фершал и так покрутил, и сяк.
– Медицине, – говорит, – ваша болесть неподвластна. Вам в городе жить с такими организмами надо, чтобы не надрываться. Ничем не могу помочь и поспешествовать.
Такой важный фершал, усатый. Плюнул я и пошел по старушкам. Они меня и в бане правили, и на воду наговаривали, пичкали невесть чем – и хоть бы малехо поправили, еще тяжельше делается. Совсем занемог тогда. А Григорий в ту пору еще жив был. Он меня к Наталье и направил.
– Сходи, – говорит, – может, и подмогнет. Так-то она не пользует, нет ей на то разрешения, а по-родственному, глядишь, и согласится. Только ты ей скажи, чтобы меня позвала. Без меня-то она навряд управится.
Так и случилось. Пришел я к Наталье. Так мне у них в избе понравилось. Полы до белого выскоблены, половички тканые, на стенах картины – тетка их сама вышивала. Чистенько все, опрятно, так, почитай, и в городе не всегда бывает. А на голбичной двери лев нарисован. Он, правда, на собаку больше смахивает, но видать, что лев с гривой – Яков покойный его еще выводил. Тетка Наташа меня за стол усадила, попотчевала чем Бог послал. А меня крутит так, что не усидишь.
– Что с тобой, Егорушко? Чем мает тебя?
– Ой, тетушка, худо мне. Так прихватило, что и не утерпишь. Фершал лечить не берется, бабушки не понимают. Грыжа, говорят, только вот я сомневаюсь.
– Не грыжа это, Егорушко. Другое, пострашнее всех болезней медицинских. Дай-ка посмотрю тебя хорошенько.
Посмотрела она мне в глаза внимательным образом, а они у нее ласковые, как у Богородицы пишут. Посмотрела, головой покачала.
– К земле ты, Егорушко, приговоренный. Жизни на самом донышке осталось. Спасать тебя надобно.
– Кто же возьмется, тетка Наталья? Все ведь уже перепробовали. Может, ты попробуешь?
– Помогла бы я тебе, Егорушко. Только зарок я дала страшный, что ни сном, ни духом, ни единому человечку. Как бы мне самой в землю не уйти. На кого детишек оставлю?
– А мне Гриша велел сказать, чтобы одна, без него, и не бралась.
– Ну, коли так, веди ко мне Гришу, а я пока подготовлюсь. Мне же, Егорушко, многое известно. Я ж у банника такое познала, что простому человеку и выговаривать даже страшно.
Привел я Гришу, а у Натальи все уже налажено. Свечечка с божницы, блюдце с водой. Ждет только, что старик скажет.
– Ты, Наталья, не боись, правь племянника, а я уж за тебя постою, чтоб ничего худого не случилось.
Уложила тетка меня на пороге, блюдечко на грудь поставила, воды в него налила и наговаривает. Вот сколь лет прошло, а я все до словечка запомнил.
Стану я утром рано,
Благословлюсь я, перекрестясь,
Умоюсь я ключевой водою,
У труся я белым полотном.
Выйду я из дверей в двери,
Из ворот в ворота.
Выйду я на окиян-море.
На окиян-море стоит светлица,
В этой светлице сидят три девицы.
Оне шьют шелковую ризу
Шелковой ниткой, булатовой иголкой.
Этой ризой закрывать раба Божьего Егора.
Не урочься, не прикорься
Ни от черных, ни от черёмных.
Ни от девок-простоволосок, ни от бабок-шлюкок.
Девкам-простоволоскам – камень в зубы,
А бабкам-шлюкам – соль в глаза!
Запрестань же, Господи, за раба Божьего Егора!
Закаменей его болячка крепче камня,
Крепче стали, крепче кости.
Аминь, аминь, аминь, аминь!
Тут тетка Наталья по-мелкому так закрестилась, на водицу дунула, будто пенку сдула, и дальше зачастила:
Будьте мои слова не лепки, а крепки.
Будьте мои слова крепче булатного камня.
Закрываю я эти слова
На тридцать три замка золотых,
На тридцать три ключа золотых.
Бросаю я эти ключи в окиян-море!
Наверх не всплывайте, песком засыпайте!
Аминь, аминь, аминь, аминь!
У меня уж в глазах помутнело, язык отнялся, только тепло по всему телу пошло. А Наталья свечку топит и воск в воду льет. Льет и приговаривает, только вот не упомню, что. Вылила воску изрядно, так, что пластиночка образовалась, достает и мне показывает.
– Чего, Егорушко, видишь?
А пластиночка, как нонче телевизор, – оживает в ней что-то. Издаля надвигается страшный чей-то облик, все яснее и яснее делается. Сидит за столом мужик, репу сочняет. Присмотрелся: рубаха расшитая с костяными пуговицами, стол скатеркой накрыт, на ей зеркальце расположено. А в зеркальце-то – мать частная! – Николай Венедиктович. Не сдюжил я и заорал:
– Ты ж помер уже, окаянный! За мной с того света пришел?
А тетка пластиночку перевернула быстренько.
– Сидит в тебе порча, еще Николаем Венедиктовичем запущенная. Он хоть и помер, а порча его осталась. Зри дальше.
Стала она пластиночку перетапливать, другую вылила, а в ней тетка Шура сидит. Платочком по-кержацки повязана – так только она в нашей родне нашивала. Запон на ней рабочий, а что делает, не углядишь.
– Тетку Шуру вижу, сидит себе, занимается чем-то.
– Вот и еще порча в тебе, Егорушко, нашлась.
Ты к тетке прошлым летом ездил, вот она и посадила.
– Дак что ж они, подлые, тетя Наташа, своих-то портят?
– Так им на роду написано. Ежели добрые с человеком отношения, они тут и испортят. А ругайся с колдуном-портуном, дак тебя и в жисть не изведет, сколь не тужься. Давай, Егорушко, дальше глядеть. Зри глубже.

Снова вылила пластиночку, показывает. А в ней все требушинка да требушинка. Видал, поди, как поросят по осени режут, дак на снег требушинку вываливают, чтобы перебрать. Вот так похоже и получается. Сказал я это Наташе.
– Все, Егорушко, нет в тебе больше порчи другой. Это и слава Богу. С двумя-то я быстренько управлюсь. Баньку сейчас протоплю и ласково, потихоньку выведу твои болячки.
До бани-то, не помню, как доковылял, – совсем скрутило. А Наташа мять меня не стала. Водицей теплой окатила, веником потерла, тут мне полегчало. А Гриша встал у каменки, чело иконой закрыл. Ох, не дай Бог, узнал бы кто об этаком, несдобровать тогда Грише! А икона у каменки вдруг зашевелилась, заходила. И чудится мне, как архангелы огненными мечами с кем-то рубятся. А потом вдруг – всё! Встала икона, и меня сразу отпустило. И легкость во всех членах появилась – какой хошь камень с дороги сверну. Тут Наталья говорит:
– Запомнил ли, Егорушко, слова, которые я выговаривала?
– Все, тетя Наташа, из слова в слово. Кажется, ночью подними – до словечка упомню, не собьюсь.
– Не дело это, Егорушке. Забудь их поскорее. А коли не забудешь, скажешь кому ненароком, мне за то наказание будет страшное. Самая беда придет, и тебя не помилует. Ты уж, будь ласков, до смерти моей не поминай их. Потом – можешь.
– Спасибо тебе, тетка Наталья! Просьбу твою тверже камня, тверже железа запомню.
Тетку-то уж схоронили, сейчас все рассказывать можно. Вот ушел человек, а память о нем осталась. И не думаешь вроде о нем, а нет-нет да и вспомнишь. По Якову вон какая поминка – дома, которые он ставил, по сей день стоят, даже не покосились. А в избах заборки да двери голбичные. Такие карнизы и наличники ажурные только он и умел выделывать – их от нас в музей увезли. Вот так, молодой человек.

О том, как Якуня коров пас, а Гриша через то чуть колдуном не заделался
Раньше мы жили не так, как теперя. Раньше у каждого на дворе скотина водилась. Это только уж у самого непутящего заботушки не было. Вот стадо большущее и собирали. Ну, коли стадо большое, – дак пастуха нанимали, такой обычай водился. Это только у верховских коров одних отправляли. Я вон, когда жил там, помню: хозяйка поутру коровушку выганивает и приговаривает: «Иди с Богом, кормилица». Так с Богом и паслись. Там уж такой говорок пошел, что коров, мол, Никола-угодник пасет, оберегает их от зверя лютого.
А тут такой случай приключился. У мужика одного медведь корову задрал – требушинку выпустил, бок объел, а остальное сушняком завалил. Насилу мужик нашел ее, заваленную. Нашел да осерчал сильно: «Плохо, – говорит, – Никола-угодник пасет. Для человеческой паствы из него пастух хороший, а для скотины – никудышный. Наказать надо святого угодника!» И ведь наказал. Икону с божницы снял, в телегу на дворе поставил да и отходил вожжами.

Ох, визгу было! Баба ему в волосья вцепилась, блажит на всю деревню, а мужику, что с гуся вода, – все нипочем. Грех, конечно. Но не наказал его Господь, под свою защиту взял – может, и верно Никола-угодник провинился. Ведь за святотатство да богохульство наказание быстро приходит.
Гриша, опять же, сказывал. Он по святым местам много ходил, всякое повидать пришлось. Было, говорит, раз в монастыре, то ли у нас, то ли на югах где-то, на Дону, – уж и не упомню. Раньше, вишь, монахи не только по кельям жили за монастырскими стенами, но и странники встречались. Нищие. Ежели нишей братии подашь, то один грех тебе на том свете простится. Странника считалось грех обойти, не покормить, приюту не дать. А тут такое дело. Пришел одинов странствующий монах в монастырь, он за веру свою пострадал, вот и пошел по земле. У ворот постучался, поклоны земные отвесил, все, как и заведено. Пустили его братья за порог, а там пожадничали – ног не обмыли, в трапезную не провели, где-то по-за дверями оставили. Странник разобиделся – тоже с устатку кушать охота. А со злости да обиды выколол шильцем глаза у Богородицы с иконы. Тут же гром разразился, помутнело за окном. Прибегают братья к нему, а монах застыл – как закаменел. Стоит – и ни с места, язык навовсе отнялся. Глянули монахи – Господи, Господи! – глазницы у Богородицы пустые, а по щекам слеза кровавая стекает. Пали они на колени, молиться стали, свой и чужой грех замаливать. Господь, он милостив, прощает. А тут прощения не дал. У самого монастыря погода не на шутку разыгралась, а за оградкой вёдро, солнышко светит, как очертил кто-то постройку.
Настоятель-то тогда в отлучке был, вот монахи и растерялись. Неделю молились, поклоны били – все прощения вымаливали. А странник – как стоял, так и стоит. Решились тогда его из пола вырубить. Принесли топор, стали доски тесать. А из-под топора-то кровь брызнула! С ней сила из монаха стала по капельке выходить. Поостереглись тогда. Тут и настоятель вернулся. Выслушал их, на странника посмотрел и распорядился, чтобы монахи по всем святым местам разошлись – грех замаливать. И на Афонскую гору поднимались, и еще где-то были – запамятовал я. Как месяц минул, отпустило странника. Уложили его на постели белые, руки на груди сложили – сам он и пошевельнуться не мог. А перед тем, как дух испустить, заговорил: «Жить надобно в мире и согласии с самим собой – так мне там повелели. Только тот познает рай небесный на земле, кто не гневаясь проживет. Гневливые да богохульные, они самые грешники и есть». Сказал так и помер. Его в оградке монастырской схоронили, каменный крест тяжелый поставили. Народ по праздникам на могилке собирался, так и непонятно было, не то святой, не то грешный. Сейчас-то уж никто и не упомнит, а молва о нем все еще идет.
Так что мужика верховского, видать, простили, хотя и грех на нем тяжкий был. А обычай страннику уважение оказывать у нас и до сего дня в силе остался. Только разные людишки пользуются этим. У нас ведь и кержаки есть, те, которые другой веры придерживаются, челдоны, по-нашему. А тут девки-студентки к ним приходят. «Ой, да какие у вас иконки хорошие, да книжечки старинные. Не дали бы нам? Мы, – говорят, – для науки, чтобы не пропало». А старикам-то ведь неведомо, какая такая наука книжками да иконками занимается. Отказали они, больше и на порог пускать не стали. А на следующий день старица с посохом в ворота стучит. Сама в рубище, волос, как крыло вороное, только седина серебрится. Приняли ее старики, уважение, почет оказали. Бабка ее в баньку повела с дороги. Та, слышь, в предбаннике крест медный сняла с шеи, напросилась, как и положено. А после бани: «Я, – говорит, – по деревням хожу, людей в истинную веру обращаю. Уж многих обратила. Одно плохо – старая-то вера, она все по книжкам писана, а книжек недостаток. Вы уж, коли есть, не поделитесь ли для святого дела?» Ну, старики рады стараться – выложили все добро на стол. А странница книжки полистала, три штучки отобрала. «Эти, – говорит, – сгодятся. Мне-то самой уж не унесть, вы девкам завтра отдайте. Я девок завтра за книжками пришлю». Сказала – и за порог. А наутро давешние девки и пришли. Старики им все и отдали.
Вот как так? Зачем такой обычай? Был бы Гриша сейчас живой, отругал бы он стариков. Он, вишь, у нас как святой почитался – с каждой болячкой, с каждой бедой к нему шли. А ведь многое он в жизни своей повидал, с разных сторон ее пощупал, многое ему открыто было, что нам и не снилось. Помнишь, поди, я тебе сказывал, как он на колдуна хотел выучиться, как распятие святое его от этого дела отвернуло. У этого его хотения тоже своя история есть. Он ведь не из богатеньких, жизнь свою в людях начинал – по найму робил, а сызмальства в подпасках у Якуни. Тогда-то его и зацепило.
Якуня, говорит, психоватый был – волосья сивые из-под шапки лохмами во все стороны лезли, а как заговорит – будто кто его за язык потягивал. Он у нас и жил, в нашем конце. Избу-то уж не рубил – пришлый был человек. В бросовом сарае устроился, откупил его у хозяев за три рубля. А как совсем студено станет, наряжался обутки шить. Пока семью обшивает, так и живет в избе на всем готовеньком. Ввечеру соберет вокруг себя угланов и давай складно так сказывать про Илью Муромца, Егора Святибора – богатырей наших русских, как Егор крышкой гробовой накрылся да там и дух испустил. Сказывал, как Илья-крестьянский сын ворогов на Руси святой крушил. Интересно было, заслушаешься. Вот Гриша по малолетству и терся возле Якуни. Тут-то Якуня и заприметил углана. Сходил, родителям поклонился, чтобы в обучение отдали пастушескому ремеслу. Те уж не супротивничали – семья большая, семеро по лавкам, а кормиться не шибко хорошо приходилось, коровенка-то одна, трудно без подмоги. Так и повелось: куда Якуня, туда и Гриша. Неразлучные были друзья, хотя и не все секреты сразу пастух своему помощнику открывал.
У Якуни, вишь, дудка такая была, он ее трубой ерихонской, как подопьет, называл и завсегда, когда гулял, по-матерному молился и в трубу дудел. Делал он ее тайно, на всю жизнь, запасной-то уж не было. Сказывали, что к лесному хозяину на поклон ходил, чтобы первейшую осину во всем лесу отобрал. Трубу-то из бесовского этого дерева делать положено, чтобы две вершинки у него были да одна молнией расщепленная. Тогда, слышь, сатана в нее вселяется. Но пастух сам трубы опасался, вот берестой и обматывал. Видал ведь: у нас корчаги полосками обвиты. Это не только для прочности, но и для сохранения от нечистого духа: только молитвой и крестом посуду обережешь.
Вон у меня было. Сергунькины, Коляновского внучка, на дальние покосы отправились, а его у нас оставили – углан еще был, с собой брать невозможно. Вот мы и остались с ним вдвоем домовничать: со скотиной управляться, по хозяйству там делать, что надобно. Матушка мне наказала с вечера муки для квашонки насеять да растворить на утро, чтобы хлебушек пекчи. Я, как велено, все исполнил, и со скотиной быстро управились. Ночевать-то еще неохота, вот я и вздумал сдуру подшутить над Сергунькой, он чуть помладше был. Спустил с вышки к самому окошку нитку и биток к ней привязал. Это мы в бабки играли, у меня биток знатный был – я его свинцом от дроби залил. Привязал так для ветра – он дунет, нитка раскачивается, вот биток и стучит, и трется, и колотит в окно. А ближе к вечеру я Сергуньку рядом посадил и зачал страсти разные рассказывать. Ох, я и постарался. И про лесного хозяина, и про русалку, которая парней в воду затаскивает, и про банников, как они кожу с человека сдирают. А еще сказывал, как лешачиха ближе к ночи к избам приходит – в окна, двери стучит, беду накликает. Сама, говорил, она голая, черная, титьки аж до пояса болтаются, а в хайле огонь горит. Ежели к ней человек на крылечко выйдет, она его поцелует, а потом удавит волосьями своими долгими до смерти. И не нашлось еще смельчака, который бы сладил с лешачихой добром.

Сергунька со страху трясется.
– Неужто и крест ее не берет и молитва?
– Не, – отвечаю, – она от креста и молитвы заговоренная.
А тут как раз ветер и дунул. Биток у меня как заколотит в окно! Скребет и колотит, скребет и колотит! Сергунька под стол полез.
– С нами крестная сила! – кричит. – Спаси, Господи!
А я еще пуще страху подпускаю:
– Лешачиха! В хайле огонь, в руках кочерга! Спасайся, кто может!
Мне-то смешно, а Сергуньке не до смеху. Сам, как плат, стал, уж и креста толком на себя наложить не может. Тут я смекнул, что вовсе так парень от ума отстанет.
– Хватит, – говорю, – вылезай, Сергунька. Ушла лешачиха, никого уж за окном нет.
А стукоток-то продолжается.
– Кто ж тогда стучится? – спрашивает Сергунька.
– Да это я биток на нитку привязал.
Ох, как он осерчал! Пожитки собрал, в свою избу лыжи навострил. Еле удержал его. Да и то, если б про лешачиху не вспомнил, утек бы от меня.
Так, считай, до ночи дружба у нас и расстроилась. Ночевать-то на полатях порешили. Только я перед сном заставил Сергуньку в голбец слазить, квашонку вынести, чтобы дошла к утру. Он побурчал, да ослушаться не посмел – признал-таки за старшего. Вот улеглись мы с ним, в избе уж темно стало – ветер непогодь натянул. Стал я Сергуньке сказки рассказывать, да опять на леших-то и свернул. Сергунька не верит теперь:
– Выдумываешь все. Вон как про лешачиху набрехал – до сих пор поджилки дрожат.
– Да вот те крест, Сергунька, ни словечка не соврал. Все как есть рассказал. У многих уж такое бывало. Вон, у Пантелея баба. Он в солдаты ушел – дак на второй год, считай, лешачиха навыла. Пришла под окна и выла до утра. Дак через месяц известие получила Пантелеиха, что мужика ее на манервах жизни лишили.
– Не боюсь я твоей лешачихи. Не возьмет она меня на пече, сам знаешь. Только в избе покажется, я на печку и прыгну.
– Лешачиха-то одна беда. Да человеку дьявол вона сколь напастей да ловушек в жизни строит! В голбец спустишься – дак и там нечисто. Слыхал ведь про суседко-то.
– Сдыхал. Но суседко, он ласковый, он человека зря обижать не будет. Разве только не по нему что сделаешь.
Только так сказал, застучало что-то, зашебуршало.
– Чуешь ли, Сергунька, шебуршит кто-то в голбце?
– Чую, Егорушко. Дак это твой биток, видать, за окном колотится. Ты ж его не отвязал.
– Да вот он, Сергунька, у меня. Ты пока под столом сопли распускал, я сбегал да отвязал.
– Опять ведь шуткуешь, Егорушко. Нет у меня веры тебе ни на копеечку-медяшку. Сам в голбец спущусь доглядеть, что за каверзу ты опять подстроил.
– Ой, не ходи, Сергунька. Чую я, неладно там. Я ж муку не перекрестя оставил.
– Дак она, поди, в корчаге с берестой. Не должны ее трогать.
Сказал так да с полатей кувырком слетел. Я уж за ним не увязался – страшно было. А Сергунька дверь голбичную нараспашку – и вниз. Скатился и заорал, как режут его. Поросята так по осени визжат, когда их под нож ведут. Соколом на полати взлетел, как на крыльях. Вцепился в меня, дрожит весь:
– Ой, Егорушко, что ж мне там такое приблазнило! Ужас ведь кромешный! Спущаюсь, а тама сито само собой ходит, будто его кто трясет. А мука-то пригоршнями сама в сито залетает. Вот и сеет так, вот и сеет.
– Ага, не поверил, что неладно в голбце! Вот я муку не перекрестил, суседко и сеет ее. Ниче, не боись, до нас-то он не доберется. А муку мы утром соберем, матушка и не заметит.
– Страшно, Егорушко, в голбец опять спутаться.
– А мы со свечечкой. И иконку с божницы возьмем. Никакая сатана тогда нам не страшна.
Всю ночь Сергунька на полатях мозолился. Да и мне не до сна было. А поутру спустились в голбец со свечечкой. Глянули: мука-то закаменела вся. Ее, вишь, как суседко-то просеял, она каменной и сделалась. От матушки нам тогда здорово досталось, зато на всю жизнь наука. И то польза.
Так что и в оплетенную посуду сатана заглядывает. И Якуне березка могла не помочь. Но трубой своей он лешего призывал. Голос у трубы звонкий – ее за одну версту слыхать. Коровы-то ее издали чуют, вот и бегут, как пастух струбит. Через то разные каверзы случаются. В соседней деревне, сказывают, еще был пастух. Она-то через речку от нас, вот Якуня с тем пастухом соперничал – кто больше знает. Однажды так сговорились: кто кого перетрубит. Коров как на выгон погнали поутру, пастухи встали по разные берега и трубили по очереди. Первый струбил – оба стада к нему кинулись. Якуня струбил – они через речку полезли.

Так и трубили, скотину маяли до полудня, пока оба стада из воды уж и выбраться не смогли. Мужики долгонько коров из воды выводили. И ничего не сделали с пастухами тогда – нельзя их, пока выпас, трогать. Зато потом отходили так, что те едва очухались.
Это все не по книжкам узнано, а так, жизненные факты. Гриша многое тогда с пастухом пережил. Оттого тоска его и взяла, захотелось поболе того, что человеку Господь отпустил, испытать. Раз у них с Якуней такая вышла история. На самый Егорьев день, когда скотину выгонять пора, расхворался пастух. Но ведь как заведено: какой хворый ни есть – работа прежде всего, больничных-то раньше не было. Вот Якуня и притащился к Грише на дом. Керкает, в груди что-то клекочет.
– Иди ты, Гриша, заместо меня в лес. Мне-то уж не уговориться на сей раз.
– А зачем, дяденька Якуня, в лес-то? Чего я там забыл?
– Ты, паря, не перечь. Коли хочешь, чтобы отпасли ладно, сам на договор отправляйся.
– Да с кем договор-то, дяденька?
– Это уж не твоя забота, не след тебе его имя называть. Главно, чтобы договорился, чья очередь это лето пасти. Ежели не забоишься идти, побожись, что никому сказывать не будешь о хозяине. Ни единой христианской душе!
– Знаешь ведь, дяденька Якуня, что деваться некуда. Пойду и сказывать никому не буду.
– Ну, тогда слушай в оба уха и запоминай. Завтра в полночь пойдешь к Кривому логу, там полянка есть. В середке полянки пенек стоит. Садись на него и жди, когда из лесу мужик выйдет. Только с первым, гляди, не разговаривай. И не смейся, а то быть беде. Потом выйдет повыше мужчина. С ним тоже в разговоры не вступай. А вот третий будет, высоченный, с ним и разговаривай. Он тебя спросит: принес, мол, яичко? Ты отвечай, что да.
– Где ж я его возьму, дяденька Якуня? Из курятника?
– Яичко надо в церкве своровать, другое здесь не подойдет. И тоже в полночь брать надо. Не забоишься, Гриша?
– Забоюсь. Как же в церкве-то воровать? Грех ведь!
– Грех этот я на себя возьму. Мне уж разницы нет – одним больше, одним меньше. Потом он тебе скажет, как яичко делить будете. Здесь уговор такой: кому достанется, тот и пасет. Попросит он тебя лесину завалить. Ежели елка будет, ссекай ее комлем на полдень. Ежели осина – вершинкой на полдень. Яичко на середку ложить надо, а чтобы оно хозяину досталось, садись всегда с полуденной стороны, чтобы ветки тебе мешали по лесине идти. Как он яичко заберет, по рукам ударите. Но смотри, дале договаривайся не боле, чем на одну корову, а то нам с тобой несдобровать. Ну, понял ли?