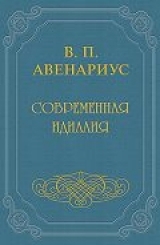
Текст книги "Бродящие силы. Часть I. Современная идиллия"
Автор книги: Василий Авенариус
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 11 страниц)
Змеин не мог скрыть некоторого изумления.
– Логика у вас действительно не женская!
– Что ж, угадала? Фохта?
– Фохта.
– Покажите.
Змеин подал ей книгу.
– "Bilder aus dem Thierleben [Картинки из жизни животных (нем.)]", – прочла она. – Как кончите, так одолжите мне. Я давно желала прочесть это сочинение, да неоткуда было взять. В библиотеках не дают: запрещено, дескать. Студенты же знакомые хоть и обещались достать, да по обыкновению забывали вечно.
– Можете взять хоть сейчас.
– Благодарю вас.
Перелистывая книгу, Лиза остановилась на одной странице и прочла вслух:
– "Das Werden der Oraganismen hat fur mich stets einen weit grosseren Reiz gehabt, als das Bestehen derselben und der Prozess der Selbsterhaltung. Es liegt etwas stabil-Langweiliges in der Erhaltung des thierischen Organismus – in dieser doppelten Buchfuhrung, die iiber Einnahme von Nahrungsstoffen und Ausgabe verbrauchten Materiales von dem Organismus mit ermudender Gleichformigkeit gefuhrt wird, und wo sich das Haben als Fett ansetzt, wahrend das Soil sich durch Abmagerung kundgibt, und endlich ein Bankerott oder der zunehmende Wucherzins, welchen der Organismus zahlen muss, das ganze Geschaf tendigt und die Firma zu deu Todten wirft" [Эволюция организмов для меня было всегда гораздо привлекательнее, чем их существование и процесс самосохранения. Существует нечто стабильно скучное в сохранении животного организма – в этой двойной бухгалтерский учет, о поступление питательных веществ и выход потребляемых материалов из организма с утомительным единообразием, где кредит остается в виде жира, в то время как дебет проявляется истощением, пока, наконец, банкротство или усиленное ростовщичество, не остановят и не закроют компанию (нем.)].
– Остроумен, как всегда, – сказала Лиза по прочтении отрывка. – Но я не вполне разделяю вкус Фохта. Его томит монотонное прозябание земных тварей. Меня тоже. Но есть случай, где такое прозябание делается в высшей степени интересным: это если акклиматизировывать какую-нибудь животную или растительную породу. Существо экзотическое, выросшее под знойным небом юга, вы перевоспитываете для своей холодной родины, холите его, защищаете от резких влияний климата, и вот – старания ваши увенчиваются успехом: ваш приемыш перерождается на ваших глазах, и вы дарите отечеству новую породу! Жаль, что у нас в России эта статья обращает на себя еще так мало внимания. Главная трудность заключается, конечно, в натурализации животных: растение, акклиматизируясь, в то же время и натурализуется; животное же, перенесенное в другой градус широты, хотя и существует вначале с грехом пополам, как степной помещик, приехавший в столицу пожуировать жизнью, – однако это не более, как прозябание, существование болезненное, от которого еще далеко до полной натурализации. Что ж вы молчите, Александр Александрович? Неужели вы не интересуетесь этим вопросом?
На Змеина красноречивый монолог экс-студентки не произвел почему-то того благоприятного впечатления, которого она обещала себе от него. Нахмурившись и надув губы, натуралист отвечал резко:
– Нет!
– Что нет?
– Нет, то есть я не согласен с вами.
– Насчет чего?
– Гм... Да хоть насчет того, что может найтись разумный человек, который возьмется акклиматизировать иноземщину ради одного плезира, без всякого вознаграждения.
– Отчего же, Александр Александрович? Настолько же всякий бескорыстен в деле общего блага.
– Общего блага? Что такое общее благо? Всякий человек печется только о себе – вот вам и общее благо. Да что ж? Пусть каждый печется только хорошенько о себе – и все будут счастливы. А как кулачное право – основной закон природы и жизни, то кто сильнее, тот и счастливее.
– Зарапортовались! – перебила Лиза. – Скажите на милость, что так встревожило вашу желчь?
– Да разве не правду я говорю? Эгоизм – этот рычаг, которым Архимед хотел поворотить землю, составляет основу всякого существа, потому что если мы сами не станем печься о себе, так кто же возьмет на себя эту заботу? А следовательно, повсеместно и кулачное право. Котлету, приготовленную из филе невинно заколотого быка, я съедаю с тем же зверским хладнокровием, с каким волк уплетает ягненка, и ни его, ни меня нельзя обвинять за нашу кровожадность. Логика голода – неотразимая логика. Умники-баснописцы, правда, советуют волкам довольствоваться травою; но если бы такого барина оборотить в волка – посмотрел бы я, как бы он плотоядными зубами, плотоядным желудком пережевывал, переваривал растительную пищу! Издох бы, неразумный, с голоду, а все по незнанию анатомии. Весь кодекс нашей гуманности сводится к правилу: "Не тронь меня – и я тебя не трону". Кто дошел до понимания этого правила, тот считается человеком просвещенным: уважает, мол, личность. Если же мы помогаем кому в беде, то из чистого эгоизма, в надеже поживиться когда-нибудь от него; или, по крайней мере, из эгоистического побуждения: устранить от себя неприятное ощущение при виде несчастного.
– То есть из прикладного эгоизма? – сострила Лиза. – Вы чем-то раздражены, Александр Александрович, и судите голословно. Подумайте хорошенько: не делали ли вы сами когда-нибудь в жизни добра?
– Как не делать – если понимать под добром оказывание помощи, – но все из прикладного эгоизма. Я приготовлял, например, бедных молодых людей безвозмездно в университет. Но что побуждало меня к тому? Мое человеческое достоинство было оскорблено видом людей, одаренных от природы одними со мной мозговыми орудиями и не имеющих случая развиться. Чтобы избавиться от этого тягостного чувства, я брался учить бедняков.
– Так это очень похвальный эгоизм; дай Бог, чтобы все эгоистические побуждения на свете были так же бескорыстны.
– Да, я согласен, что подобный эгоизм невреден; но он все-таки эгоизм, то есть чувство, заставляющее нас делать добро другим – только для удовлетворения самих себя. Все на свете делается вследствие эгоизма; но эгоизм бывает трех сортов: вредный, безразличный и полезный.
– Так и я, значит, действовала под влиянием эгоизма, когда обучала в воскресных школах?
– А то как же?
– Как вы унижаете меня в моих собственных глазах! Бывало, как окончишь урок, всегда так довольна собой: "Вишь, говоришь себе, какая ты хорошая!"
– И вы имели полное право говорить себе это. Своим "добрым делом" вы действительно возвышались над уровнем толпы, но опять-таки вы не можете вменять себе это в достоинство. Разве вы сами сделали себя такой, как вы есть? Обстоятельства сложили ваш характер: вы воспитывались, развивались в такой среде, где было понято, что помогать ближнему выгоднее, чем оставаться к нему безразличным – уже из видов спокойствия совести.
– Ваши софизмы довольно убедительны, – согласилась экс-студентка. – Грустно, в самом деле, подумать, как поддаешься иногда силе обстоятельств, как теряешь иногда всякую силу воли. Помнится, в Петербурге... идешь в воскресную школу; зима, мороз; спешишь по набережной Фонтанки и кутаешься в салоп, в муфту. Стоит на дороге, прислонившись к фонарю, оборванный пролетарий, дрожит, бедняжка, посинел от холода, простирает к тебе руку с жалобным воплем: "Жена, дети... помогите!" Взглянешь ты на него, завернешься теплее и поспешишь мимо, успокаивая себя, мелочным доводом: остановись, так опоздала бы на урок.
– А между тем поступок ваш был совершенно естествен, и вы напрасно раскаиваетесь в нем: вы не могли поступить иначе, обстоятельства принудили вас поступить так, а не иначе.
– Полноте! Сколько же тут требовалось воли? Если б я и опоздала минутою на урок – что ж за беда! А один или даже несколько из моих ближних были бы спасены от мучений голода. Стоил только остановиться.
– Вы говорите: только; но это только и есть, быть может, та лишняя гирька на весах вашего сострадания, которая перетянула на сторону "неподания помощи". Помочь велит вам чувство униженного человеческого достоинства, вопиющее вместе с несчастным: "Жена, дети... помогите!" В пользу же неоказания помощи говорит несравненно большее число данных, хотя и не столь полновесных: предчувствие, что если вы вынете руку из муфты, то не отогреете ее скоро – раз; предположение, что нищий, нос которого и без того превратился от неумеренных возлияний Бахусу в некоторого рода сливу, пропьет ваши деньги в первой распивочной – два; мысль, что проходящие почтут ваш поступок фарисейским – три. И вот, приближаясь к нищему, вы колеблетесь: помочь или не помочь? Но тут является внезапно новое данное в пользу неоказания помощи: вы вспоминаете, что поздно, что, пожалуй, опоздаете в школу – и гордо проходите мимо. Будь климат в Петербурге умереннее – одним неблагоприятным данным было бы менее, и вы, вероятно, помогли бы бедняку; но в суровой климатической обстановке и сердце человека черствеет: жители юга всегда общительнее, добродушнее нашего брата, северянина.
– Всякую волю в человеке, однако, нельзя отрицать, – возразила Лиза. – Если я пересиливаю себя, если во мне происходит борьба, то тут-то и проявляется сила воли. Возьмем тот же пример с нищим. Положим, я отошла от него на несколько шагов. Вдруг мне делается его жаль; я начинаю колебаться, оборачиваюсь и возвращаюсь к несчастному наделить его милостыней. Чем же я заставила себя преодолеть свою неохоту вернуться, как не силою воли?
– И тут никакой воли не было. Что вы колебались, что вам пришлось, как вы выражаетесь, пересилить себя – то это явление самое обыкновенное, наблюдаемое во всех случаях, где происходит борьба, вследствие большей или меньшей равности борющихся сил. На весах вашего человеческого достоинства чаши нагружены в рассматриваемый момент почти одинаково и колеблются по тому самому – то в одну, то в другую сторону, оставляя вас в неизвестности, которая перетянет. Ваше положение здесь совершенно страдательное, и вы вовсе непричастны тому своей волей, если наконец одна из чаш перетянет. Всякая воля – химера.
– Вы убедили и победили меня, господин философ; а между тем... – Лиза лукаво засмеялась. – Между тем и я выхожу победительницей!
– Как так?
– Да так. Помните, в начале прогулки вы объявили, что скучаете во всяком женском обществе; теперь вы с жаром спорите с женщиной, стало быть, находите интерес в беседе с ней.
– Гм... да.
– Ваше желчное настроение, кажется, прошло; скажите теперь по совести: чему вы так рассердились, когда я говорила про акклиматизацию?
– Нет, зачем...
– Ну, однако? Не на меня ли изволили гневаться?
– А если б?
– А! Это интересно. Но за что? Говорите: за что?
– Сами напрашиваетесь на откровенность. Видите: в начале нашего знакомства вы произвели на меня довольно приятное впечатление как умная, рассудительная девушка. Легкая взбалмошность так обыкновенна в ваши лета, что я не придал ей значения в вас. Когда же вы заговорили об акклиматизации, я стал убеждаться, что имею дело с синим чулком...
– И я горжусь этим названием! Пожалуйста, не изменяйте своего мнения; я хочу быть синим чулком...
Змеин с сожалением пожал плечами:
– Вольному воля.
XI
ГРОЗА. О ФРАНЦУЗСКИХ РОМАНАХ И ПАТРИОТИЗМЕ. SCHLOSS UNSPUNNEN
Прогулка в летний полдень имеет свои приятности; но все они взвешиваются одною неприятностью – зноем. Солнце, стоящее в зените, жжет изо всех сил, словно за то невесть какое жалованье получает, так что и дух у вас спирает, и в глазах рябит. Задыхаясь и обтираясь платками, общество наше едва обогнуло Руген, как набежала тучка и раздался первый, внушительный рокот грома. Все засуетилось. Вдруг – ах, а! Золотая, с голубоватым сиянием, электрическая змейка, дивно-ловко извиваясь, низринулась с неистовством в средину общества; лица как мел побелели – нельзя было сказать: от отблеска молнии или от испуга. В следующий же миг грянула небесная артиллерия, и мелким ружейным огнем задребезжало в соседних горах в ответ переливчатое эхо. Трава, деревья, платья дам – все зашелестело под крупными каплями грозового дождя.
– Sauve-qui-peut [Спасайся, кто может! (фр.)]!
Дамы в своих воздушных одеяниях, с крохотными зонтиками, не дающими ни малейшей защиты от капитального ливня, мужчины в одних сюртуках – все бежало спасаться. "Юнгфрауенблик!" – был общий лозунг: из-за ближних дерев манила крыша этого отеля.
– М-r Куницын! – крикнула Моничка в след правоведу, искавшему, подобно другим, спасения в поспешном бегстве. – Soyez si aimable, pretez moi votre chapeau et votre surtout [Будьте добры, одолжите мне вашу шляпу и сюртук (фр.)].
Молодой человек остановился и снял с себя то и другое.
– Voila, mademoiselle?
– Grand merci [Большое спасибо (фр.)].
Она торопливо накрылась соломенной шляпой правоведа и пиджак его надела внакидку.
– Prenez, defendez vous par ceci, comme vous pouvez [Возьмите, защищайтесь этим, как вы можете (фр.)].
Оставив в руках его свой маленький зонтик, она уже мчалась к спасительной кровле. Распустив над собою зонтик, правовед поскакал вслед за нею.
Ластов, так неожиданно покинутый своей собеседницей, отыскивал глазами место, где бы укрыться, когда завидел в нескольких шагах, под густолиственным орешником, Наденьку. Понятно, что в мгновение ока он был у ней. Гимназистка встретила его с приветливой, детской улыбкой и указала ему около себя, под деревом, сухое место.
– Как славно, Лев Ильич, не правда ли? Чувствуешь, что живешь! Помните, у Майкова...
– Помню, оно так и начинается:
Помнишь – мы не ждали ни дождя, ни грома.
Вдруг застал нас ливень далеко от дома...
– Нет, я думала про другое. Но и это, кажется, премиленькое. Дальше, кажется:
Мы спешили скрыться под мохнатой елью?
– Не было конца тут страху и веселью, -
подхватил Ластов.
– Дождик лил сквозь солнце, и под елью мшистой
Мы стояли точно в клетке золотистой...
– Ах! – вскрикнула тут Наденька, хватаясь бессознательно за руку молодого человека: вся окрестность вспыхнула мгновенно ослепительным огнем, сопровождаемым гульливыми раскатами.
– Вдруг над нами прямо гром перекатился, -
продолжал цитировать поэт:
– Ты ко мне прижалась, в страхе очи жмуря...
Благодатный дождик! Золотая буря!
– Как я испугалась! – вздохнула из глубины души гимназистка, отодвигаясь от соседа. – А я, кажется, не трусиха... Я, знаете, еще ребенком смерть как любила грозу; меня так и называли: маленькой колдуньей. Чуть блеснет первая молния, брызнет дождик, я – в сад, и стою там с непокрытой головою. Дождь заливает меня, гроза шумит, а я стою, как очарованная. Явлюсь домой – маменька и гувернантка только ахнут: волоса-то всклокочены, платье как губка: "Наденька, Наденька, что с тобой?" А я тряхну головой да бегом опять под дождь. Теперь я начинаю понимать, что меня всегда так привлекало к грозе.
– Что?
– Лучше всего разъяснит вам это майковское стихотворение, о котором я вам говорила:
Жизнь без тревог – прекрасный, светлый день,
Тревожная – весны младые грозы.
Там – солнца луч и в зной оливы сень,
А здесь – и гром, и молния, и слезы...
О, дайте мне весь блеск весенних гроз,
И горечь слез, и сладость слез!
– И вы, Надежда Николаевна, сочувствуете этому? – спросил тихим голосом поэт. – Вы понимаете горечь и сладость слез?
– М-да... – Наденька замялась. – Ах, да вот и наши философы! – подхватила она с живостью, увидев приближающихся Змеина и Лизу. – Перемокли как, батюшки! Где это вы пропадали?
– Как видишь, под дождем, – отвечала, отряхиваясь, экс-студентка. – Отстали немножко. Что ж, теперь можно и далее, дождя нет.
Гроза действительно унялась. Там и сям по освеженной синеве бродили еще легкие облачка, но под жгучими лучами полуденного солнца высыхали уже и дорожки, и зелень.
Молодежь собралась опять в путь к первоначальной цели прогулки.
– Да! – вспомнил Ластов. – Правда ли, Лизавета Николаевна, что вы сестрице своей даете читать французских романистов?
– А что же?
– Да ведь увлекательные переливания Дюма, Сю, Феваля не имеют ничего общего с нагою действительностью?
– Не имеют.
– Так как же давать их в руки невзрослой девочке, фантазия которой и без того чересчур прытка, а при помощи этих небылиц может разыграться до безобразия?
– Невзрослой! – обиделась Наденька. – Мне шестнадцать.
– Зачем прибавлять, милая? – заметила Лиза. – Тебе всего в мае минуло пятнадцать.
Наденька покраснела.
– Ну да, минуло, значит уже нет.
– Положим, успокойся. Вы, Лев Ильич, удивляетесь, что я не воспрещаю ей читать французских романов? Но для полного образования всякому человеку надо ознакомиться и с нелепицами мира сего.
– С детства-то? Для детей это положительно яд. Я очень хорошо помню, как будучи гимназистом второго-третьего класса, брал с собой в классы "Монте-Кристо" или тому подобную небывальщину, чтобы читать во время уроков, под скамьей. Зато как вызовут к доске – идешь, шатаясь, словно пьяный, станешь у доски и не только не знаешь, что отвечать, – не понимаешь даже заданного тебе вопроса. А как вредно действуют романы на расположение духа, на характер ребенка! Ходишь всегда в каком-то чаду, делаешься сварливым, всем недовольным: "Что я за несчастный! – повторяешь себе. – Отчего со мною не бывает никаких приключений? Миновало золотое время..." И начинаешь хандрить, делаешься безучастным ко всему окружающему, бросаешь заниматься: "Что пользы? Ведь все равно ни к чему не послужит..." Является даже мысль о самоубийстве...
– Ну, вы слишком поэтизируете, господин поэт, – перебила экс-студентка. – До какого возраста, скажите, упивались вы романами?
– До четырнадцати, может быть и до пятнадцати лет.
– И вы недовольны, что так рано отделались от пагубной страсти к этому сладкому яду? А я скажу вам, почему он вам так скоро опротивел: вы допились до омерзения. Чем скорее дойти до этой стадии, тем лучше. После периода романов настает период отечественных журналов. С какою гордостью, бывало, возвращалась я из конторы редакции "Современника" или "Русского слова" с новым номером журнала под мышкой! Нарочно повернешь его еще заглавным листом наружу, чтобы все проходящие видели, что вот ты, мол, какая – прогрессистка! Для Наденьки, видите ли, кончается и этот период. Она в журналах читает уже ученые отделы, и вскоре, подобно мне, заинтересуется, вероятно, самыми науками, так что бросит и журналы.
– Напрасно. Журналы всегда полезны, хотя уже тем, что знакомят нас с современными интересами. Что же до французских романов, то я должен вам еще вот что заметить. Вы смотрите на них, как на неизбежное зло, с которым чем скорее познакомиться, тем лучше, чтобы получить скорее отвращение к нему?
– Ну да.
– Я же вижу в них зло, которого можно избегнуть, если вовремя изощрить вкус более удобоваримыми вещами. Человек, испивший раз хорошего рейнвейну, не пристрастится уже к шампанскому. Давайте молодежи Диккенса, Гейне, Тургенева, Белинского – и французская шипучка не прельстит их.
– Так, двенадцати-, тринадцатилетним ребятишкам и давать Гейне, Белинского? Да они половины не поймут.
– Нет, в эти лета вообще не годится читать что либо беллетристическое. До шестнадцатилетнего возраста человек достаточно занят собиранием элементарных, научных сведений, и только с этого времени, когда понятия у него приведены в некоторого рода систему, он может без большого для себя вреда оглядеться и в мире литературы. Мне живо вспоминается Einwohner-Madchenschule [Женская школа (нем.)] С Фрёлиха в Берне, которую мы с Змеиным посетили проездом. Главные старания Фрёлиха обращены на развитие в ученицах эстетического чувства. Для этого он уже сызмала учит их музыке, устраивает прогулки по романтическим окрестностям Берна, а в высших классах знакомит и с литературой. При этом он заставляет и самих учениц сочинять стихи.
– Как это, должно быть, весело! – не могла удержаться от восклицания Наденька.
– Мне удалось присутствовать на таком уроке. Одна из учениц, семнадцатилетняя красивая девушка, прочитывала элегию своего сочинения.
– И каким размером была написана эта элегия? – перебила опять гимназистка.
– Гекзаметрами; ведь это самый легкий размер: в семнадцать слогов и без рифм. Содержанием стихотворения была любовь к родине. Живописную природу Швейцарии, поэтические легенды, где высказалась швейцарская доблесть, надежду на будущее благосостояние отечества, твердую уверенность, что народ ее сам собою правящий и никому не отдающий отчета в своих действиях, никогда не запятнает своей чести – все это соединила она в звучное попурри, от которого растрогались и она, и ее товарки. Сам Фрёлих прослезился и наградил поэтессу поцелуем в лоб. Сцена была поистине умилительная, так что подействовала раздражительно даже на слезные железки северного скифа, присутствовавшего тут посторонним зрителем. Невольно вспомнились ему родные рассадники женской премудрости, откуда, вместо живых цветов, душистых, свежих, выпускается в свет коллекция цветов красивых, но бумажных, на проволоке...
– Грустно, в самом деле, положение наших институток, – заметил Змеин. – Они скажут вам, пожалуй, когда и зачем почесал себе за ухом Александр Македонский, или как извлечь квадратный корень из... кубической селитры; а между тем в состоянии при виде пожатой жнивы всплеснуть радостно руками: "Ах, теперь я знаю, как растут спички!" Самое же горькое то, что имея о России такие же смутные понятия, как о Сандвичевых островах, они делаются совершенно равнодушными к благу своей родины, делаются космополитками, в самом жалком значении слова.
– А вы, Александр Александрович, разве не космополит? – спросила Лиза. – Вы, кажется, такой холодный, что не можете быть патриотом, привязаться к чему-нибудь серьезно.
– О, космополитизм – заманчивая вещь, – согласился Змеин. – "Отказаться от всяких личных симпатий, жить не для отдельного народа, а для целого человечества!" Как громкие фразы! Люди, сшитые на живую нитку, как Куницын, недаром прельщаются ими. Но наш брат – глубокая, тяжелая на подъем натура, сросшийся со своим отечеством всеми фибрами своего существа, не может оторваться от того, что составляет его жизнь, его плоть и кровь. Если человек родился в России, воспитывался в русских заведениях, между русскими, вскормлен русским хлебом, русскими понятиями – как ему не любить России? Любовь к родине совершенно так же естественна, как любовь к родителям, к братьям и сестрам.
В таких разговорах путники наши вышли в светлую, прелестную долину. Справа и слева воздымались утесистые громады, впереди искрились снежные хребты Юнгфрау и Мёнха. Поблизости, из-за купы густого орешника, глядела зубчатая стена развалины.
– Вот никак и Уншпуннен, – заметил один из молодых людей.
Около развалины, между дерев, мелькнули фигуры мальчика и нескольких коз.
– Сейчас узнаем, – сказала Наденька и подбежала к пастушку. – Послушайте, какая это руина?
Мальчуган с любопытством разглядывал хорошенькую барышню, так неожиданно выросшую перед ним из земли. Она должна была повторить вопрос.
– Разумется, Уншпуннен, – удивленный ее неведением, отвечал мальчик.
– Какие же у вас о нем легенды? Говорите, рассказывайте, молодой человек, покуда не подошли другие.
– Что такое легенда?
– Легенда?..
Наденька смолкла: на шляпе мальчика усмотрела она большую, пышную розу и забыла уже о своем вопросе.
– Какая прелесть! – вскликнула она. – Подарите мне ее.
И, не дожидаясь его согласия, она сорвала шляпу с кудрявой головы его и отцепила розу. Потом достала портмоне и подала мальчику франк.
– На-те.
Пастушок с радости рот разинул и забыл даже поблагодарить щедрую дательницу. Когда же та обратилась к спутникам, чтобы похвастаться своей добычей, то осторожный мальчуган, опасаясь угрызений совести барышни за ее великую расточительность, заблагорассудил скрыться со своими питомцами.
– Руина как руина, – говорила Лиза, озирая башнеобразную, весьма необширную развалинку замка. – Только прежние обитатели этой великолепной Burg были, вероятно, лилипуты, потому что иначе необъяснимо, как в таком тесном пространстве умещалась широкая жизнь рыцарей.
– Да они и были лилипуты, – подтвердил Змеин, – в прежние века и Швейцария кишела мелкотравчатыми феодалами. Всякий из "благородного" сословия рыцарей считал необходимою принадлежностью своего сана – неограниченное самоуправство, хотя б на пространстве квадратной сажени; вот начало этих лилипутских замков.
– А что, – вмешалась Наденька, – может быть, и не все лилипуты этого замка вымерли? Пойдемте, поищемте: чего доброго, вытащим из какой-нибудь щели карапуза Зигфрида.
– Непременно вытащите: здесь раздолье мышам и крысам.
– Ах, какой вы гадкий, Александр Александрович! Недаром Моничка называет вас материалистом. Лев Ильич, вы хоть натуралист, да поэт. Побежимте, догоните меня.
Наденька и за нею Ластов взбежали на холмик, на котором возвышалась развалина, и, отыскав на противоположной стороне ее бесформенное отверстие, служившее когда-то дверью, спустились в самый замок. Их обдало прохладою и сыростью. Крышу здания Бог весть, когда уже снесло, и ласково млело в вышине отдаленное, лазурное небо. В ногах у них валялись кирпичи и камни, обломавшиеся от стен; по воле расцветали кругом чертополох, папоротник, крапива.
– Как бы взобраться вон туда? – говорила Наденька, указывая глазами на верхушку стены. – Какой, я думаю, оттуда вид!
– Посмотрим, – сказал Ластов и, ухватившись обеими руками за край высокой окопной бойницы, не имевшей, как само собою разумеется, ни стекол, ни рамы, вскочил на самое окно. – Ну, Надежда Николавна, теперь вы.
Он опустился на одно колено и протянул к ней руки.
– Да страшно...
– Ничего, не бойтесь, держитесь только крепче.
Наденька взялась за поданные руки, оперлась носком на выдавшийся из стены кирпич, Ластов приподнял ее – и она стояла уже на окне возле него.
– Ах, что за вид! Ведь я говорила!
Под ногами молодых людей расстилалась во всей своей летней красе лаутербрунненская долина, залитая жгучим золотом солнца.
– Послушайте, Надежда Николаевна, когда вы вглядываетесь в такой ландшафт, не находит на вас неодолимое желание броситься из окошка навстречу всей природе, заключить в объятия целый мир? Девушка рассмеялась.
– А на вас находит? Ну, бросьтесь.
– Извольте. Господи благослови!
Он готовился соскочить с окна; Наденька вовремя удержала его за руку.
– Что за ребячество! Ведь расшиблись бы.
– Наденька! Лев Ильич! Домой! – донесся снизу голос Лизы.
– Уже? – удивилась Наденька. – Надо бы как-нибудь увековечить свое пребывание на этой высоте... Нет ли у вас карандашика?
– Есть.
Ластов вынул бумажник.
– Но стена слишком шероховата, – сказал он, – ничего не напишешь. Вот у меня визитная карточка – распишитесь на обороте.
– Гуси-лебеди, домой! – раздалось опять снизу. – Где вы запропастились? Обедать пора, скоро два часа.
– Ах, скорей, скорей! – заторопила Наденька, выхватывая из рук молодого человека карандаш и карточку, и, приложив последнюю к стене, расчеркнулась на ней: "Н. Липецкая, 2/14 июля 186-г."
– Спрячьте же куда-нибудь, да подальше, чтобы никто не нашел.
Ластов приподнялся на цыпочки и втиснул карточку в глубокую расщелину над окном.
– Здесь и дождем не захватит. Он соскочил внутрь развалины.
– А я-то как? – сказала гимназистка. – Ведь высоко.
– Упритесь на мое плечо.
– А вы закройте глаза.
– Могу.
Едва коснувшись плеча молодого человека, ловкая барышня в миг соскользнула на землю.
XII
КАКОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ?
– Так вы, Александр Александрович, о нас одного мнения с Наполеоном?
– С Наполеоном?
– Да, с Первым. Помните, как он выразился на вопрос m-me Stael: какую женщину он уважает более всего?
– Как?
– "Без сомнения, – сказал он, – la respectable femme, qui a fait le plus d'enfants [респектабельной женщиной, которая имеет много детей (фр.)]".
– Co стороны француза подобный ответ был, конечно, не совсем деликатен, – усмехнулся Змеин, – тем более, что женщина, предлагавшая вопрос, явно напрашивалась на любезность: "Вас, мол, сударыня, я уважаю более всех". Но со своей точки зрения, Наполеон рассуждал весьма логично.
– А с вашей точки зрения? Впрочем, что ж я спрашиваю: ведь вы ученик Куторги?
– Во взгляде на женщин я действительно схожусь с ним отчасти.
– Значит, и по вашему, человеческие самки только пищат, не поют?
– Гм, казусный вопрос. Мне нравится, признаться, женское пение; но как знать – может быть, из пристрастия? Ведь и птичьим самцам, я уверен, писк их самок кажется очаровательнейшим пением.
– Ну, пошли! Птичьи самцы одеты всегда в пестрое, праздничное платье, самки – в серое, будничное, следовательно, они сандрильоны, назначение которых сидеть дома, производить себе подобных и т. д., и т. д.
– Совершенно справедливо. И назначение человеческих самок – семейная жизнь.
Лиза сделалась серьезною.
– Вот вы, мужчины, какие деспоты, что не хотите в нас признать даже равных с вами умственных способностей! И все только потому, что вы телом сильнее. Смеются над средневековым кулачным правом, а что же это, как не вопиющее кулачное право? Я не отрицаю факта, что нынче много пустых женщин; но отчего их много? Оттого, что вы, мужчины, сделали из них этих кукол и рабынь, что вы не даете развиться им, что вы столько раз напевали им: "волос бабы долог, ум короток", что они, наконец, и сами тому поверили.
– А вы, Лизавета Николаевна, затем, вероятно, остриглись, чтобы показать, что не подходите под общую мерку?
– Да, затем! – отвечала с сердцем экс-студентка. – Так как вы уже затронули этот вопрос, то знайте же, что я пожертвовала своими волосами в пользу недавних питерских погорельцев.
– Честь вам и слава; вы уподобились, значит, карфагенским женам. Но спрашивается, куда деть погорельцам такой небольшой кусок каната? Разве с горя повеситься?
– Ваши остроты, Александр Александрович, совершенно неуместны. В жалком положении погорельцев и какие-нибудь восемь рублей, которые я получила от парикмахера за свою шевелюру, немаловажная помощь.
– Ну, восемь рублей у вас, пожалуй, и так бы нашлось; для такой суммы не стоило лишиться волос, этой истинной красы женщин.
– Хорошо, оставим этот вопрос, Так, по-вашему, только замужняя женщина достигает своего назначения?
– Да, незамужняя – незрелый плод...
– Который, в ожидании великого счастья быть выбранным в сожительницы одним из вас, должен сидеть сложа руки и помирать с голода?
– Нет, и незамужняя женщина должна трудиться. Я даже допускаю, что силам женщины доверяют до сих пор слишком мало, что круг деятельности ее мог бы быть обширнее нынешнего. Зачем бы ей не быть, например, конторщиком, управляющим домом или имением, фотографом, женским врачом? При незначительной семье подобные обязанности она могла бы исполнять даже во время замужества.
– А! Вот видите. Значит, замужество только помеха, значит, незамужняя женщина еще лучше замужней может исполнять свой человеческий долг. Что же вы говорили о незрелом плоде?








