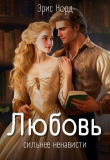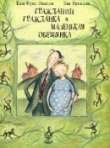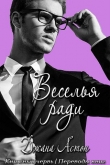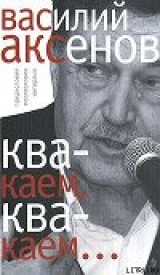
Текст книги "«Квакаем, квакаем…»: предисловия, послесловия, интервью"
Автор книги: Василий Аксенов
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц)
Композитор Попов
Евг. Попов принадлежит к определенному числу тех писателей, что постоянно сочиняют неожиданные книги. Вот вроде бы давно уже всем любителям русской литературы ведом этот бородатый и слегка чуть-чуть несколько седовласый мастер слова, родившийся в городе К., раскинувшемся на брегах могучей реки Е., что несет свои воды вверх по карте к малоподвижному океану Л., вот вроде бы и первый основательный юбилей уже не за горами, и слог уже выработан, и глаз иронический уже стабильно нацелен на всякие аляповатости жизни, ну, казалось бы, борзись, перо, расширяй то, что нам всем знакомо и любимо… Ан нет: расширения ему мало, внедряется в новые почвы, воспаряет в новые головокружительности; вот таким образом и возникает своеобразная «евг-поповщина», некое путешествие наобум под разноцветными парусами, сродни плаванию Пантагрюэля. В этой связи не вредно будет вспомнить книгу «Подлинная история зеленых музыкантов», в которой сама история занимает двадцать процентов текста, а на восемьдесят разворачивается «комментарий», создающий раблезианский мир советского и постсоветского абсурда. Или вот еще один пример творческой неожиданности. Любители классификаций могут зачислить Евг. Попова в разряд сугубо отечественных постмодернистов, додекафонических певцов постсоветских убожеств и развалов, однако пусть не торопятся – впереди уже маячит удивительный «Мастер Хаос», заряженный энергией под завязку, словно новенький шведский аккумулятор. Экзистенциальный хаос как раз тут и переселяется в скандинаво-балтийский мир, в котором я даже по описанию ветреного дня в дюнах узнаю свой излюбленный остров Готланд, где рядом с голубями бытуют и химеры; увы, это так, милостивые государи.
В книге этой автор предстает не только философом, но и словесным живописцем, прочувствовавшим своеобразную «балтийскую меланхолию», характерную для картин Эдварда Мунка.
Ну а теперь о новой книге «Опера нищих», которую я вознамерился предварить своим кратким вступлением, Каких только не намешано в ней художеств и жанров! А в целом, вот именно, получается современная «опера»: арии, дуэты, хоры, джазы, блюзы, додекафонные звуки – и все это сливается воедино и формирует знатную композицию.
«Опера» состоит из трех актов:
1) рассказы,
2) беседы,
3) случаи, то есть выступления автора на актуальные темы.
Среди любопытных персонажей десяти рассказов присутствует некий писатель Гдов, в котором проницательный читатель может распознать своего рода alter ego автора с его самоироническим прищуром. Гдов пишет рассказ о Гдове, который пишет рассказ о Гдове, пишущем рассказ о Гдове. Публике впору тут отыскать первоначального Гдова, чтобы трахнуть его по макушке манускриптом. Но публике уже не до этого: она уже вовсю «кушает», как предлагает администрация, «не стесняясь». Со столов сыпятся стаканы, парусят портьеры и шторы, вертикально торчат галстуки, склеиваются крашеные ресницы дам – вот так все выглядит в рассказе «Виртуальная реальность».
Такова, собственно, и есть в творчестве Гдова, и, благодаря – своей калейдоскопичности, она бесспорно предстает как наша и в то же время «гдовская» российская реальность.
Ну, надо же додуматься: из всего сонмища новых московских кафе, среди которых можно даже найти «Скромное обаяние буржуазии» (на Сретенке, если кто не знает), он выбирает для нас кафе под названием «Кафе», в котором можно бросить якорь по пути из Шереметьева в центр. Выбор чисто гдовский; да он и сам там сидит с безработным коллегой Хабаровым и с компанией конкретных братков: жизнь изучает («Без хохм»).
Рассказ «Небо в алмазах» вот именно алмазом может воссиять на небосводе всемирной чеховианы с ее бесконечными трактовками сестер, чаек, дядьвань, вишневок, тем более что героиня его Розалия Осиповна Аромат – «акула издательского бизнеса» и звезда гдовианы. Гдов является человеком нашего времени, и поэтому от TV ему никуда не деться. Даже. починяя скважину в своем «вишневом саду», то есть на дачном участке, он время от времени заходит в дом – дохнуть телевизором («Старик и скважина»).
А кого там только нет! Даже бывший советский писатель-лауреат Д. Гранин, в свое время исключавший из Союза писателей СССР автора, то есть alter ego писателя Гдова, появляется, не запылившись. Интересно, что появление в телевизоре бывшего «советикуса» приводит Гдова к странному покаянию: «Правильно, что меня в свое время практикующие коммунисты выкинули из Союза писателей.
Ведь я действительно ровным счетом ничего не знаю и не умею из того, что на самом деле должен знать и уметь писатель. Писатель – не я, это – другие, как ад Жан-Поля Сартра». И в конце концов Гдов ночью, над скважиной, приходит к поистине фундаментальной идее нашего времени: «Лихорадочней живи, не нужно останавливаться, хуже будет».
Он знает жизнь миллионеров и даже иностранцев. В его лихорадочной прозе может, например, деревянной походкой пройти некий американский атташе, плохо знакомый с русским языком, однако временами исторгающий без всякого акцента, хоть и ни к селу ни к городу: «Ха-ароший мужик!» Не могу тут удержаться, чтобы не добавить к этому дивному попово-гдовскому штриху свой собственный того же рода. Однажды в студеную зимнюю пору на Тверской мне попался мой бывший студент в туфлях на босу ногу. «Как дела, Брэдли Кук?» – спросил я. «Ничего страшного», – ответил тот без малейшего акцента, а ведь прежде не знал ни одного русского слова.
А проза становится все более лихорадочной, и вот уже друг Гдова безработный Хабаров в поисках своих 7000 долларов приезжает на остров Крым и прыгает с «Ласточкина гнезда», чтобы благополучно приземлиться на территории Украины.
Рассказ «В поисках утраченной духовности» был признан шедевром жанра еще тогда, когда он появился в еженедельнике «Новый очевидец». Это издание и само считалось шедевром нашей в общем-то расхристанной периодики. Увы, сия еженедельная шедевральность показалась спонсорам журнала каким-то чрезмерным казусом, и «Очевидец» приказал долго жить. Гдовский рассказ подчинился приказу и остался жить, равно как и помышляющая о веревке его героиня Ульяна, изящная дама духовной элиты, пьющая литровую бутыль скотча перед полыхающим телевизором. Параллельно она потребляет живучие еженедельники типа «АиФ». Факт громоздится на акте, акт на факте, и все это направляет взгляды дамы под потолок, к крючку, на котором можно было бы и подвеситься как аргумент фактической гдовианы.
Первый акт «Оперы» завершается железным гдовским императивом: «Смотреть действительности в лицо не мигая». Именно так, не мигая, смотрит в лицо действительности писатель, когда в рамках всероссийской переписи населения приходит вместе с несовершеннолетним сыном на участок и уточняет свою национальность, Оказывается, они оба принадлежат к кетам, древней сибирской народности, насчитывающей в своем составе 1022 человека. Исторический оптимизм Федерации берет свое, кетов становится 1024.
Во втором акте «Оперы» на сцене появляется хор из отменных солистов, С каждым наш автор (уже не Гдов, а самый настоящий Евг. Попов) поет дуэт, но поскольку все эти дуэты на бумаге-то существуют одновременно, вот и получается некий виртуальный, пусть и небольшой, хор. Каждый, конечно, поет что-то свое, однако автор не только ведь вопрошает, но и дирижирует, поэтому под его дирижерской палочкой возникает что-то вроде оратории «поющих вместе». Хитрый Попов расставляет всех слева направо по алфавиту, и таким образом Аксенов оказывается впереди лидера группы «Ленинград» Шнурова, а тот опережает венгерского писателя Эстерхази. Как сказал бы китайский музыковед: «Перед нами хор нового типа».
Писателей в этом хоре больше, чем лиц других профессий. Не будем говорить подробно о каждом, скатимся в другую крайность и возьмем кое у кого по одной фразе.
Аксенов: «Мне многие друзья говорят, когда приезжаю: «Тебя, по интонации можно вычислить как не совсем нашего…»
Ахмадулина: «Или Рафаэль прекрасный появляется, или Пушкин, а вы все злодействуете».
Войнович: «…Терпеть не могу эти журналистские вопросы о знаках Зодиака; я вот одному доверился, сказал про Деву, а тот все перепутал… ну, да Бог с ним…»
Эстерхази: «В Венгрии отвыкли от общественного разговора… Осталось только ощущение какой-то исторической обиды, центральноевропейское ощущение самосожаления…» Вот эти несколько фраз, взятые из общего гула, из «шума времени», воспроизведенного Поповым на партитуре его «Оперы». Толпясь на перекрестках великих городов, беседуют с нашим общим другом Женей Поповым философ Струве, политолог Грин, трудящийся Хомяков, рок-музыкант Шнуров.
И наконец, третий акт, который может прозвучать и как эпилог. Составлен он из репортажей, написанных по горячим стопам ежедневной российской несправедливости. Из них сильнейшее впечатление производит воронежская история. Там по приказу каких-то, то ли местных, то ли федеральных, властей происходит демонтаж областного центра геронтологии. Одиноких, прижившихся в уютном доме старцев и стариц отчисляют на «отправку» в самые захудалые и ужасающие психушки. Никакие мольбы и стенания не помогают. Власть неумолима.
Эти репортажи написаны, разумеется, за пределами карнавальной гдовианы, жестким, сухим слогом возмущенного писателя. Пусть это покажется преувеличением, но я вижу в этом слоге какую-то связь с традицией Вольтера, выступавшего против издевательств над гугенотами. «Опера» завершается глухими ударами барабана.
Одна библейская история
Год или два назад в Москве я был на просмотре документального фильма датского телевидения. В прологе мы увидели огромные пространства по обе стороны могучей сибирской реки Лены в районе Якутска. Из стоящего на вершине холма перекосившегося дома выходит женщина, вытирает фартуком руки и кричит на весь простор: «Сэми, иди куша-а-ать!»
Этот кадр – дань далекому прошлому. Сэм Рахлин, конечно, и сейчас откликается на такие приглашения, но сейчас он, матерый копенгагенский телевизионщик и единственный датчанин, родившийся в Якутии, воскрешает этот, ежевечерний женский призыв как своего рода эпиграф к фильму о путешествии в страну детства. Такой зеленый привольный ландшафт, видимо, чаще других картин всю жизнь возникал перед ним при слове «Якутия». Так часто бывает при воспоминаниях о детстве: хорошее запоминается лучше. В раннем детстве я провел полгода в спецдетдоме для детей арестованных «врагов народа»; больше всего мне запомнилась тамошняя новогодняя спецелка.
Родители Сэма, Израэль и Рахиль Рахлины, авторы книги «Шестнадцать лет возвращения», чаще вспоминают зимний Якутск, когда температура зашкаливала за –50 °C, и народ неделями не выходил из дома, но не только из-за мороза, а также и из-за уголовников, сдирающих с граждан теплую одежду и оставляющих околевать на улицах.
Что занесло эту молодую пару, гражданина Литвы и гражданку Дании, в эту, с точки зрения европейца, полностью непригодную для жизни страну? Авторы начинают с мирных времен. Израэль родился в Российской империи, в маленьком литовском городе Кибартае, расположенном вплотную к известной железнодорожной станции Вержболово, за которой уже начиналась вполне доступная Европа. Именно эту станцию вспомнил однажды в полемическом стихе Велимир Хлебников: «Новаторы от Вержболово, что ново там, то здесь не ново». В семилетнем возрасте на Израэля свалилось первое несчастье: он заболел полиомиелитом, отнялись ноги. Семья Рахлиных принадлежала к уже третьему поколению поставщиков лошадей. Зажиточные капиталисты, они могли предоставить своему единственному ребенку самые эффективные по тем временам методы лечения на самых лучших европейских курортах. Долгие месяцы лечения принесли положительный результат, Израэль начал передвигаться без трости. Однако миастения нижних частей ног осталась у него на всю жизнь. Как ни странно, этот недуг в дальнейшем выручал его несколько раз в ходе путешествия в Сибирь, спасая от отправки на губительные трудовые повинности. Таковой оказалась вся судьба Рахлиных, в безысходной беде гнездилось спасение. Но об этом позже.
В годы Первой мировой войны и последовавших за ней революций и Гражданской войны Израэль вместе с родителями путешествовал в разных видах транспорта, включая и теплушки «Сорок человек/восемь лошадей», по просторам бывшей империи, пока наконец не вернулся в независимую Литву, в свой тихий Кибартай, где бизнес благополучно восстановился.
Восстановилось и нормальное участие в жизни Европы, Молодой Израэль учился в Лейпциге и ездил по разным странам. Однажды в Копенгагене, в парке Тиволи, он познакомился с девушкой по имени Рахиль, родившейся в Ливерпуле, но проведшей всю жизнь в Дании. Судьба угадала в них соавторов будущей книги и больше уже не отделяла друг от друга.
Интересно, что композиция книги составлена по принципу чередования глав от первого лица, под заголовками то «Израэль», то «Рахиль». Иногда они объединяются для совместного рассказа, и тогда глава именуется «Рахиль и Израэль». Такой принцип привносит в книгу особую ноту, то ли библейской притчи, то ли современной прозы, или и того и другого. Главное, он дает нам почувствовать неотделимость этих двух людей друг от друга, их готовность к самопожертвованию ради любимого существа или к совместной гибели. Вот это и делает «Шестнадцать лет возвращения» уникальным человеческим документом.
В 1935 году они обвенчались в Копенгагене и поселились в своем городке в Литве, где Израэль стал главой фирмы. Здесь родился их первенец Шнеур, а потом и дочь Гарриетта. В 1940 году Литва стала советской республикой. В страну, разумеется по просьбе трудящихся, а вовсе не по тайному сговору между Гитлером и Сталиным о разделе Восточной Европы, была введена Красная армия. В 1941 году, за несколько дней до 22 июня, в рамках программы по депортации «буржуазных элементов», в их дом вошли чины НКВД, построили всех вдоль стены с поднятыми руками, провели обыск и объявили указ о высылке на восток. Через пару недель вся территория Литвы была уже под властью немцев, которые немедленно начали депортацию евреев на запад. В принципе, два безумных государства проводили одну и ту же политику холокоста, только нацистский холокост был этническим, а советский – социально-политическим. Высылка Рахлиных в Сибирь по формальному признаку спасла их от газовых камер, хотя обрекла почти наверняка на гибель от множества других причин. В данном случае все-таки слово «почти» оказалось решающим.
Я много раз читал о теплушках, в которых Советы перевозили свой рабский контингент, не говоря уже о том, что в книге моей матери Евгении Гинзбург «Крутой маршрут» есть глава под названием «Седьмой вагон». И все-таки всякий раз дух захватывает от негодования: как эти гады в Кремле и на Лубянке осмеливались на такие многомиллионные перевозки «социально чуждых», заключенных, раскулаченных, переселенных народов, разного рода спецконтингентов, неужели они думали, что укрепится, а не рухнет от этого – и как оказалось в довольно короткий исторический срок – их любимая социалистическая держава?
Будучи в Магадане, я познакомился в жалкой комнате моей только что отбывшей 10-летний срок матери с большим числом таких людей, о существовании которых я, советский юнец, даже и не подозревал. Там среди бывших советских заключенных было немало и иностранцев: немцы Франц и Гертруда, австрийцы Иоганна и Гансуля, итальянец Пьетро, западный украинец Поночевный (он, кстати, был спецпоселенцем, как семья Рахлиных), а также внутренний эмигрант, сионист доктор Уманский. Все эти люди должны были быть «стерты в лагерную пыль», много раз за время их «крутого маршрута» они были почти уничтожены, однако выжили.
Откуда же бралось это чудодейственное «почти»? Книга Рахлиных дает ответ на этот вопрос. Представьте себе многодневную пургу в Алтайском крае. Семья высланных «западников» пережидает непогоду вокруг своего жалкого очага. Вдруг слышится стук в дверь, и в жилище входит директор местного совхоза товарищ Ермолаев. За плечами у него огромный рюкзак. Он объясняет Израэлю, что в совхозе проходят учения по гражданской обороне. Тот, зная о пристрастии русских мужчин к крепким напиткам, выставляет на стол бутылку водки. Ермолаев принимает приглашение, а потом развязывает рюкзак и выдает на-гора весомый мешок пшеничной муки. «Гражданская оборона», оказывается, была лишь поводом, чтобы, не вызывая подозрений в сочувствии «буржуазным элементам», принести им этот драгоценный по тем временам дар.
Из более или менее обжитого Алтайского края литовцев погнали все глубже и дальше в дикие бездны Сибири. Никакого другого смысла, кроме вымирания этого спецконтингента, не просматривалось. Наконец, после многонедельной мучительной дороги, семейство с малыми детьми и с бабушкой прибыло в конечный пункт, поселок Быков Мыс в устье Лены, в сорока километрах от Тикси. Страшнее уже ничего нельзя было придумать. 400 человек заткнули в баржу с трехэтажными нарами. Однако и здесь нашелся самаритянин. Директор рыбозавода Семикин посоветовал Рахлиным построить юрту и снабдил их стройматериалами.
Такие люди то и дело попадались им во время их, казалось, бесконечного хождения по мукам. Несчастная семья, очевидно, вызывала непроизвольное сочувствие, которое оказывалось сильнее политической доктрины. Самый удивительный случай произошел много лет спустя, уже после войны, когда им удалось зацепиться на сельскохозяйственной селекционной станции возле Якутска, где и появился на свет божий маленький Сэми. Директор станции Климов собирался в командировку в Москву. Набравшись отчаянной храбрости, Рахиль попросила его отвезти в столицу ее письмо с просьбой о помощи в датское посольство. Не сказав ни единого слова, большевик взял это письмо, и оно было доставлено по адресу. Через некоторое время пришел официальный ответ, впервые за семь лет скитаний была установлена связь с родиной. Вот именно такие простые люди, в том числе и разные небольшие начальники, все эти ермолаевы, семикины, климовы, русские и якуты, не лишенные природной человеческой доброты, как раз и создавали то самое «почти», которое помогло уцелеть.
В этой книге среди страданий и унижений временами возникали моменты высочайшего духовного подъема. Мне хочется привести целиком один параграф из главы «Рахиль».
«…Эта часть нашего долгого пути запомнилась одним событием, которое навсегда врезалось в память. Мы стояли на палубе баржи, Солнце у края горизонта бросало слабые красновато-золотистые лучи на серый, безжизненный ландшафт с одинокими, жалкими низкорослыми деревцами. Это было печальное и угнетающее зрелище, а когда я увидела в отдалении склоны гор, покрытые снегом, не растаявшим за короткое и холодное лето, меня охватило отчаяние. Мне казалось, что это конец всего живого, конец Земли. Мы стояли, глядя на этот удручающий ландшафт, когда вдруг кто-то запел:
Пока сердце бьется в груди,
Ты с надеждой должен идти.
Это молодые мужчины и женщины пели «Хатикву», что значит «Надежда», песню, которая теперь стала национальным гимном Израиля. В ней поется о тысячелетней надежде евреев стать свободным народом и жить в своей стране, о неутолимой тоске по Иерусалиму и горе Сион.
Здесь будет уместно вернуться к телевизионному фильму Сэма Рахлина. В Якутске, на заброшенном еврейском кладбище он нашел могилу своей бабушки, которая умерла до его рождения, Сэм, современный международный журналист, испытал сильное желание прочесть каддиш над усопшей мученицей. По закону иудаизма, чтобы прочесть эту молитву, требуется не менее девяти участников-евреев. Таким образом, в любых условиях возникает синагога. Вместе с Сэмом были его старший брат Шнеур и сестра Гарриетта, прилетевшая из Израиля. С большим трудом удалось найти еще шестерых; один из них был с якутскими чертами.
Возвращаемся к книге. В 1956 году датское посольство сообщило Рахлиным, что вскоре им будет разрешено покинуть Советский Союз и вернуться в Данию, где их ждут родные Рахиль. С неслыханным восторгом семейство стало собираться в эту их собственную, первую за полтора десятилетия свободную дорогу. Как вдруг все затормозилось. Советские соответствующие органы вернулись к их привычному каменному молчанию. Сначала Рахлины недоумевали: что случилось?
Интересно, что, дочитав до этого места, я сразу понял, что случилось. Осенью того года я как-то бродил по арбатским переулкам и вдруг увидел большую толпу студенческой молодежи. Она окружала одноэтажный особняк датского посольства. Над головами толпы покачивались лозунги «Позор датским прислужникам империалистов!». Несколько активистов распределяли пузырьки с чернилами. По команде этих активистов чернильницы полетели в посольство. Чистые стены украсились отвратительными пятнами. Плакатоносцы начали совать свою ношу прямо в окна. Летели осколки стекла. Интересно, что дежурный милиционер в ярости носился вдоль стены и кричал демонстрантам: «Прекратите хулиганство!» Я понял, что этой акцией советские власти отвечают на демонстрации в Копенгагене в знак протеста против казни лидера венгерской революции Имре Надя.
Рахлины прекрасно понимали, что именно венгерские события вызвали обострение отношений между двумя странами, что «оттепель» опять будет заморожена, и им не удастся пересечь зловещую границу. Времена, однако, кардинально изменились, через год они получили паспорта на выезд, и юный Сэм вместо якутянина стал датчанином.
В 80-е годы я часто бывал в Дании. Копенгаген напоминал мне Ленинград, куда дорога мне как политическому изгнаннику была заказана. С Сэмом мы стали хорошими друзьями, и однажды он предложил мне устроить встречу с его родителями, Рахиль и Израэлем. С этой милейшей пожилой парой мы сидели в русском ресторанчике, они рассказывали мне о Якутии, я им – о Магадане. Тогда они сказали, что пишут книгу воспоминаний. В конце их тяжелого пути Провидение оказалось милостивым: книга, полная интересных деталей и глубоких чувств, стала исключительным бестселлером в Дании, была переведена на многие языки, в том числе и на русский. Этот перевод выходит сейчас в стране, которая сначала намерена была их погубить, а потом ненароком спасла их жизни. Иные скажут сейчас, сколько можно напоминать обо всех этих ужасах. Уверен, однако, что люди никогда не устанут читать о том, что составляет их необъяснимую историю.