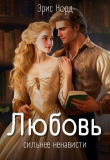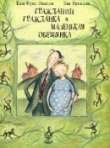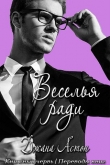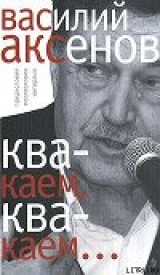
Текст книги "«Квакаем, квакаем…»: предисловия, послесловия, интервью"
Автор книги: Василий Аксенов
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 11 страниц)
Рожденный в джазе
Напутствие читателю книги «Блюз для Агнешки»
МОЩЕНКО происходит от слова «мощь»; значит, на джазовый манер я могу называть его Mighty Vlad.
И как тут не думать, что Владимир Мощенко написал здесь о своих собственных вехах, детстве, отрочестве и юности, тем более что и композиционно главная вещь книги – «Блюз для Агнешки» – разделяется на три места действия, где он в юные годы обретался: Бахмут, Тбилиси, Будапешт.
Очень необычная, странная, пронизанная античной поэзией вперемежку с джазовыми аккордами книга!
Меньше всего думаешь о джазе, когда начинаешь читать описание глухого советского захолустья, в котором проходило раннее детство героя – Мити Чурсина.
В жалких коммунальных квартиранках, в гнилых хибарах, на подванивающих дворах, под запыленными и прокопченными платанами шла жизнь работников железнодорожного узла и их семейств.
И все это к тому же было разъедено коростой НКВД, постоянным наблюдением и сыском, арестами, расправами, а также и добровольным стукачеством.
Казалось бы, «оставь надежды всяк сюда входящий», – и вдруг происходит какой-то сдвиг, и ты видишь, что эта коммуна – отнюдь не собрание роботов соцсоревнования, а некое довольно хаотическое сообщество соседей, в котором живы и дружба, и лирика, и, как ни странно, любовь к музыке – совсем не к маршевым ритмам, а к синкопическим подскокам джаза.
Сдвиг этот случается в тот момент, когда удивительно молодая и любвеобильная бабушка Мити Чурсина, Анна Марковна, натыкается на сидящего под деревом бродягу в заграничном пальто, К вящему удивлению, читателя, бродяга оказывается никем иным, как паном Наделем – осколком роскошного европейского джаз-оркестра под управлением Эдди Рознера. Еще совсем недавно этот польско-еврейский коллектив играл в ночных клубах веселого Берлина.
С укреплением нацистов веселье быстро испарилось, и Берлин превратился в столицу каменного орла.
Рознеровцы поняли, что надо бежать пока не поздно, и в самом деле, через несколько дней было бы уже поздно. Дорога была одна – на Восток, в родную Польшу.
Варшава, Краков, Львов…
Лабухи своим будоражащим свингом озвучивали стремительное приближение страшной войны.
Вскоре подписан был пакт Молотова-Риббентропа, и две тоталитарных державы раздербанили славянскую страну; оркестр Рознера оказался в великом, могучем и ужасном Советском Союзе.
Джазовый коллектив рассыпался по советским городам и весям.
Пан Надель оказался в темном углу Бахмута, и местные меломаны нежданно-негаданно соединились с большим джазовым миром Европы. В багаже у него были пластинки корифеев джаза, и среди них оказались пьесы великого гитариста Джанго Рейнхардта. Потрясенный этой музыкой, мальчик Митя взялся за гитару.
Джанго Рейнхардт стал бродячим мифом всей этой повести, написанной полсотни лет спустя моим другом Владимиром Мощенко – Майти Владом.
В лирических отступлениях трилогии, которые в какой-то степени сродни квадратам джазовой импровизации, читатель, всякий раз неожиданно, оказывается среди имен блистательной плеяды свинга и бибопа – Глена Миллера, Бенни Гудмена, Дюка Эллингтона, Чарли Паркера, Майлза Дэвиса, а то и на вечерних улицах нью-йоркского Сохо или парижского Монпарнаса.
Вторая часть трилогии приводит читателя в Тбилиси, где юный Чурсин с его неразлучной гитарой исполняет свою воинскую обязанность в качестве корреспондента военной газеты Закавказского округа.
Сталина давно уже нет, идут исполненные робких надежд годы «оттепели», А где лучше можно было разморозиться от вечного советского страха, чем в древнем караванном городе, чье имя как раз и говорит о тепле?
К тому времени, как я понимаю, Митя уже стал виртуозом струнного джаза, и его инструмент открывал ему двери тогдашней богемы.
Интересно, что среди вымышленных персонажей то и дело мелькают имена реальных людей, которых и я встречал в те годы в тбилисских застольях: Иосиф Нонешвили, Эдик Элигулашвили, Гоги Мазурин, Шура Цыбулевский… Все они приветствовали мечтательного юношу, грезившего джазом. Именно там возникла у него идея проникновения дальше, за пределы, пусть в социалистическую, но все-таки Европу, в Будапешт, где, конечно, на каждом перекрестке есть кафе и там играют комбо блестящих джазменов, венгерских вариантов Джона Колтрейна и Стэна Гетца.
Любопытно, что некоторые высокопоставленные офицеры из военных журналистов помогут Мите Чурсину осуществить свою мечту, то есть получить направление в газету Южной группы войск.
И вот он в Будапеште» где даже молодые люди помнят яростный жар антисталинского восстания и непреклонную жестокость карательных советских танков. И именно здесь Митю ждет его первая настоящая любовь – Агнешка.
…Недавно Москва хоронила 90-летнего короля джаза Олега Лундстрема. Стоя рядом с автором этой книги среди джазменов на панихиде в Московском доме композиторов, я вспоминал свою молодость, которая, несмотря на всю «бездну унижений» была мощно приподнята свингом лундстремовского биг-бэнда. Вот почему люди нашего поколения столь жарко любили джаз: он помогал нам удержать мечту о свободе.
Владимир Мощенко в «Блюзе для Агнешки» говорит о том же в своей удивительной лирической манере. Его герой – это никто иной как Кандид «оттепельной» поры. «Кто-то все-таки должен возделывать наш сад».
Приветствие журналу «Октябрь» в связи с пятидесятилетием
Политика всегда покушалась на календарь, похищала у двенадцати месяцев их принадлежность к временам года, номерной смысл, не говоря уже о лирическом. Термидор (одиннадцатый месяц в якобинском календаре) стал означать антиякобинский переворот, обычный апрель-никому-не-верь дал название каким-то там тезисам, об октябре уж и говорить нечего – после 1917-го было забыто, что он «очей очарованье», вздымался красным валом величайшей на все века революции, знаменовал новую историю человечества.
В советской литературе, помимо всего великого, это слово было названием одного из толстых ежемесячников, в котором можно было напечататься и получить гонорар. Однако для того, чтобы там напечататься, надо было принадлежать к определенным кругам твердокаменных большевиков, проще говоря, – к сталинистам. Вожди журнала, и прежде всего главный редактор товарищ Кочетов, считались «правыми». К «левым», как тогда именовали партийных либералов, они относились со скрежетом зубовным. Те, в свою очередь, старались не упускать возможности как бы мимоходом лягнуть «правых», а то и «дать поддых» реакционерам, пренебрегающих антикультовой позицией непогрешимости партии. Основательную главу в истории советской литературы занимает противоборство «Октября» и «Нового-мира», ведомого лауреатом Ленинской премии A. Т. Твардовским.
Вместе с могутным казачиной Анатолием Софроновым («Огонек») и тогдашним «скинхедом» Николаем Грибачевым (журнал «Советский Союз») узкогубый партиец Кочетов представлял нерушимую фортецию тех сил, что в нынешней Российской Федерации именуются «левыми», то есть тогдашними буревестниками Союза правых сил. До сих пор, друзья, мы не отучились отличать «сено» от «соломы».
Насколько я помню, никто из нас никогда не печатался в «Октябре». Реакционный триумвират был постоянной мишенью едких шуток. Между тем в самом этом журнале В. Аксенов был не чужим человеком: любая моя появившаяся в печати вещь (даже почти ортодоксальные «Коллеги») вызывали там приступы колик и излияния желчи. После моей вынужденной эмиграции один из авторов признавался: «Мы сигнализировали об этом В. А., но нам долго не верили».
И вот сейчас, по прошествии всего нескольких десятилетий, я участвую в праздновании юбилея «Октября» и чрезвычайно горжусь тем, что из жупела этого журнала я стал его полноправным автором. В то же время я, признаться, даже не знал, где он находится. Сейчас, входя в кабинет главного редактора, шедевр сталинского интерьера с невероятно высоким потолком, я представлял, как именно вот за этим столом сидел тот ярый ревнитель соцреализма. Теперь эта кубатура заполнена добром, чувством юмора, художественным чутьем. Ирина Барметова, не клонясь ни вправо ни влево (тем более, что эти ориентиры у нас окончательно запутаны), четко определила основную линию журнала: передовой либерализм, великая традиция, тяга к мировой культуре.
Я очень горжусь тем, что здесь печатаются мои ближайшие друзья: Евгений Попов, Светлана Васильева, Анатолий Найман. Именно здесь, этот большой поэт, что называется, нашел себя в прозе, обрел, как говорят, second wind и напечатал уже несколько глубоких современных романов, сопоставимых с вереницей трифоновских шедевров.
В общем, вместе с поздравлениями я хочу сказать, что в наши дни журнал «Октябрь» утратил сакральный и страшноватый смысл, заключавшийся в его имени, и стал тем октябрем, который находится между сентябрем и ноябрем.
Васильевская проза
Светлановскии сюжет
О книге Светланы Васильевой «Камни у воды»
Трудно сказать, в каком жанре написаны «Камни у воды». Подзаголовок гласит: «книга странствий». Чьих странствий и где, спросит дотошный читатель и разведет руками: от дотошности его тут мало будет толку. Сначала возникнет привычный для гуманитарного туриста форпост, Генуэзская крепость в Крыму, потом рассказчик скажет, что «мир за моим окном, вся эта мусорная множественность… постепенно истончилась, искрошилась и лежит теперь у меня перед глазами, как на ладони моего некогда маленького сына лежала какая-нибудь щепочка, палый листик или невзначай убитый кузнечик… Долгие клаустрофобические блуждания в «подлом, подлом мире, не оставляющем никаких воспоминаний о прошлой любви». Темный тупик под грифом «Смерть отца», под безысходной датой «22 июня». Отправка в 40-е годы. Похоронная процессия. Две старинных почтовых карточки. Гаснущий сад. Затихающая песенка отца. Девять посланий от одной осиротевшей сестры к другой. Следующий кашмаршрут – это старые фотографии: «и любили они, бывало, фотографироваться перед распахнутыми окнами, в сидячих позах, а на обороте непременно поставить подписи; однажды он подписался: «I'homme perdu»… А между тем «в каждой ямочке солнце социализма играет». Тут возникают и Мордовия, и «глухое Черноземье», и Поволжье, и Тамара Ханум, и «с бидоном в кооперацию», и Красноштаны, которые на чужой участок зарятся, и в эвакуацию всем географическим факультетом, и поросенка кто-то собирается резать, и на конференцию ВКП(б), и на базар, темный платок за 70 целковых, и в Москву опять, но только уж в другую Москву, вечную; вот такая тут демонстрируется фотография-география.
Вынырнув из фотографии, мы оказываемся за рамкой, в потоке времени, вернее не в потоке, а в водовороте, куда вне всяких композиций стекают то бурные, то медлительные ручьи ностальгии. Поезд Москва-Берлин приходит на целинные земли, в становище студенческого стройотряда. Насосная станция столицы СССР граничит с Порто Гидра (Греция). Попутно – неясно впрочем, в какую сторону– возникает Европа, «эта бездна огней», что «составляют фигуры самых разнообразных миражей». К «сияющим отрогам Альп» прилепился «наш дорогой любимый Ново-Лебедянск». Кто-то хочет угостить здешнего председателя блюдом с ядохимикатами. Вдруг возникает некая горная страна, пробуждающая память о «Христолюбивом воинстве». Крупнокалиберные пулеметы, противотанковые мины: «беды в горах, беды в градах, беды и в пропастях земных».
Трудно в коротком предисловии сказать обо всех маршрутах «книги странствий», нельзя, однако, и не упомянуть о Святой земле, хотя бы потому, что, как утверждает наш многоликий рассказчик, или единоликий автор: «мир» по-гречески означает «ожерелье», он весь у твоего горла». Как ни странно, эти страницы книги полны отчетливой словесной живописи, в них меньше притчи, мистики, их метафизика пропитана солнечным воздухом и умиротворенным юмором.
Кто же этот неутомимый, постоянно возрождающийся, а временами до конца, казалось бы замученный своей дорогой странник, героиня «Камней у воды»? Уже в середине книги автор, внезапно прибегнув к академическому местоимению, заявляет: «Мы даже не знаем, кто она такая». Что ж, проходя через эти удивительные страницы, читатель привыкает к вечно меняющемуся образу и понимает, что ему не нужны ни «ай-ди», ни «си-ви» героини, кем бы она ни представала – Генуэзской ли крепостью, Вечной ли Женой чекиста (ВЖЧ), Ангельчиком ли Надей, Леди ли Годивой, Татьяной ли Онегиной. Мы можем вспомнить книги без героя Натали Саррот, но дело совсем не в поисках генезиса. Перед нами движется своего рода сновидение, в котором путешествует душа, и в этом сосредоточена главная ценность и «Васильевской прозы» и «светланинского сюжета». В нынешнем мире осатаневшей графомании встреча с такой книгой – это редкая удача. Ностальгия умного, тонкого, религиозного и одновременно карнавального автора создает основательный противовес убожеству современной мемуарной литературы.
Над разоренным гнездом кукушки
В 1961-м в Литере, в доме кинорежиссера Венгерова, я впервые услышал песенку «Комсомольская богиня» в исполнении автора, Булата Окуджавы.
Я смотрю на фотокарточку:
Две косички, строгий взгляд
И мальчишеская курточка,
И друзья вокруг стоят.
За окном все дождик тенькает,
Там ненастье на дворе,
Но привычно пальцы тонкие
Прикоснулись к кобуре.
Вот скоро дом она покинет,
Вот скоро грянет гром кругом,
Но комсомольская богиня…
Ах, это, братцы не о том…
И так далее.
Вдруг, неожиданно для себя, мне пришлось встать и отойти в угол комнаты. Прокашляться там. Освободиться от того, что называется «комком в горле». Никогда не подозревал за собой таких сильных эмоций по отношению к комсомолу. «Это о моей маме», – сказал Булат. Ах вот в чем дело, понял я. Это ведь и о моей маме тоже. Об их юности. О том времени, когда они даже еще и не знали наших отцов, когда они были влюблены только в собственную юность. Булат своей песней пробудил во мне странную ностальгию по тому времени, то есть по революции, которую я после своего магаданского опыта лишь презирал до отвращения.
И вот я читаю книгу его детства – «Упраздненный театр». Снова испытываю ощущение чрезвычайной близости к моей собственной судьбе. Восьмилетняя разница в возрасте не дала мне возможности до поворотного 1937 года ощутить себя на его манер «юным большевиком», борцом за «светлые идеалы», преисполниться ненависти к «врагам социализма», однако по многим другим признакам близость была исключительной.
Взять хотя бы половинчатую смесь крови, в его случае грузино-армянской, в моем – русско-еврейской. И его и мои родители были активными партийцами, выдвиженцами революции. Шалва Окуджава стал первым секретарем Тагильского горкома; Павел Аксенов председателем Казанского горсовета. Ашхен Налбандян была сотрудницей райкома, Женя Гинзбург – сотрудницей газеты «Красная Татария». Все четверо были арестованы в одном и том же году. Шалва получил «десять лет без права переписки», то есть был убит, Павла приговорили к смертной казни на открытом процессе, но потом заменили приговор на 15-плюс-три. Женя отправилась в ГУЛАГ в качестве «троцкистки», та же судьба постигла и Ашхен. Булат начал в ранней юности проходить по безднам советского унижения, я вступил на этот путь еще в раннем детстве. Булат был солдатом на фронте, мой старший брат Алексей умер в Ленинградской блокаде. Все это, не считая уж и другого, творческого, ренессансного, привело к тому, что я всю жизнь испытывал к Булату не просто дружеские, но чуть ли не братские чувства.
Говоря об этой книге, следует, очевидно, начать с многоименности героя. Автора и героя в младенчестве стали шутливо называть Ванванчем, То есть Иваном Ивановичем. Потом, когда пришла пора официально его зарегистрировать, юная мама предложила имя Дориан. Молодому папе это имя понравилось. По непонятным автору «семейной хроники» причинам, его родители-революционеры были тогда увлечены совсем не революционным романом «Портрет Дориана Грея». Только в самый последний момент Шалико Окуджава заколебался. «Слушай, какая-то претензия есть в этом Дориане. Может быть, назовем его Отаром?» Ашхен пришла в восторг, она сама уже не знала, как отказаться от уайльдовского денди. Тут уже с легкой душой устроили Отарчику «октябрины» по месту работы мамы, в клубе «Трехгорной мануфактуры». Дальше, впрочем, на всем протяжении книги имя Отар почти не употребляется, а малолетнего героя весь многочисленный тифлисский клан с удовольствием называет ласковым прозвищем Кукушка. Так же ни разу не упоминается и имя Булат, в этимологии которого слышится что-то. металлическое, воинственное, столь несоответствующее всей сути маленького мечтателя, будущего певца нашего поколения.
Здесь, может быть, уместно будет сказать, что на своем смертном ложе в Париже Булат принял крещение, и в московском храме Козьмы и Домиана отпевали Иоанна Окуджаву. Круг завершился.
Семейная хроника начинается с середины XIX века, когда солдат Павел Перемушев, «то ли исконный русак, то ли мордвин, то ли еврей из кантонистов», осел на Кавказе и женился на «кроткой Саломее Медзмариашвили». Одна из их дочерей Елизавета вышла замуж за Степана Окуджаву, который был «невысок, неширок, но ладен и даже изящен»; писарь и вольный стряпчий славного города Кутаиси. Он появляется и сразу проводит нас в сердцевину щедрого края, в базарные ряды, где свисают багровые туши и высятся горы сыра, арбузов и чурчхел, где бочки заполнены джонджоли и цицакой, где в воздухе стоит аромат сунели и пышут жаром печи-торни, из коих извлекаются хрустящие пури.
Кутаиси, а потом Тифлис постоянно чередуются в повествовании с Москвой, со старыми арбатскими дворами. Богобоязненная няня Акулина Ивановна заглядывает в широко распахнутые кавказские глаза своего любимого Кукушки, и там отражаются ее сказки о Василисе Премудрой, о Микуле и Аленушке, там витают и ангелы Господни. Кукушка помнит, что Акулина Ивановна не раз осеняла его крестом и шептала молитвы. Однажды она приводит его в храм, где он видит огромные изображения бородатых мужчин и женщин с миндалевидными глазами. Дома он рисует белую церковь с крестом на макушке. Ашхен приходит в ужас.
Большевикам-родителям приходится отказаться от преданной нянюшки.
В этом пункте наши судьбы снова сближаются. Моя няня Евфимия Пузырева и бабушка-крестьянка Евдокия Васильевна были чрезвычайно набожными женщинами. В семье ходили слухи, что они тайно подвергли младенца кощунственному, с большевистской точки зрения, обряду крещения. (Десятилетия спустя эти слухи головокружительным образом подтвердились.) Мама уже после тюрьмы и лагерей не раз вспоминала, как я в трехлетнем возрасте однажды похвастался, что был с няней в «цирке, где звонят и моляются». Няня, впрочем, осталась с нами до конца.
Утрата няни, а потом и утрата возлюбленной подружки детства Жоржетты, уехавшей с родителями в эмиграцию, заставила Кукушку впервые почувствовать «мелодию утрат». «Эта мелодия переполняла все его существо, а жизнь без нее казалась невозможной». Случайности ли направляют течение жизни или все предопределено судьбой, задается вопросом автор. Может быть, и то и другое, может быть, и судьба сама является случайностью?
Между тем Кукушка растет в своем счастливом детстве, окруженный целой толпой влюбленных в него родственников. Истинный театр, переполненный миловидными персонажами. С ним говорят по-русски, но здесь же присутствуют и грузинский гортанный акцент с его взлетающей интонацией, и армянское каменистое, цокающее, безутешное «цават танем», и высокопарное «генацвале». У бабушки Лизы за длинным столом собираются все четверо братьев Окуджава, их сестра Оля с женихом Галактионом и сестры Ашхен; все исполнены любовью и уважением друг к другу. Этот миропорядок кажется мальчику вечным, и только позднее он начинает понемногу понимать, что приближается трагедия.
Вдруг долетает странная фраза дяди Миши: «Нас ожидает худшее: горийский поп на этом не остановится… Мы не в состоянии доказать свою правоту…» Братья-троцкисты все еще стоят на своей марксистской философии. Они возмущаются, когда их сестра Оля начинает повторять за русским философом, что «равенство – это пустая идея, что социальная правда должна быть основана на достоинствах каждой личности, а не на равенстве».
Жених Оли молодой поэт Галактион Таоидзе, пытаясь воспеть новый мир, ощущал боль в пальцах и петлю на горле. Он не видел добра в нарастающем «гранитном материализме» и вопрошал братьев: «Что можно противопоставить вашей непреклонности и обилию крови?» Удушающий большевизм наплывал на Тифлис и не оставлял никаких надежд.
Кукушка тем временем продолжал расти, он думал об Александре Македонском, о великолепном революционере Марате, убитом подлой троцкисткой Шарлоттой Корде, читал Сеттона Томпсона, рисовал большие парусные корабли, подражая знакомому писателю Александру Авдеенко, писал повесть, начинавшуюся словами «Мне минуло одиннадцать лет», с блаженным трепетом прикасался к девчонкам в классе и во дворе, активно шастал по этим арбатским убогим дворам, исполненным для него невысказанной тайной неупраздненного еще театра, именуемого детством.
Однажды, открыв ящик отцовского письменного стола, Кукушка увидел пистолет. Он обхватил его рукоять и почувствовал неслыханное волнение. Дальше, там чуть было не произошла чеховская драматургия, впрочем, читатель сам должен добраться до этого экзистенциального контрапункта семейной хроники.
Для меня тут важно то, что на этой странице я снова испытал «дежа ву». Дело в том, что в трехлетнем, что ли, возрасте я тоже незаконно пробрался в кабинет отца и в ящике его стола увидел большущий, как мне тогда показалось, пистолет. В 1935 году, после убийства Кирова, ведущим партийцам было выдано личное оружие для защиты от врагов. Никто из них им не воспользовался.
Все чаще Кукушка замечал, что родители и родственники то и дело понижают голос и замолкают, когда он входит в комнату. Из Тифлиса приходит странная новость: пропал дядя Миша. Вскоре прибывает телеграмма: «Володя и Коля уехали к Мише». Глухо упоминается приятель юности, Лаврентий Берия. Шалико на городском партактиве клеймит небольшевистскую позицию некоего Балясина. Вдруг: Олю и Сашу взяли! Да за что? Они же не были в партии! Шалико обреченно машет рукой. И наконец: газета «Тагильский рабочий» сообщает, что «Шалва Степанович Окуджава освобожден от должности первого секретаря горкома за развал работы, за политическую слепоту, за потворствование чуждым элементам, за родственные связи с ныне разоблаченными врагами народа».
Рушатся декорации, вычеркиваются уже заготовленные для Кукушки монологи и диалоги, театр распадается, детство кончилось. Зрители покидают помещение для того, чтобы найти такую же разруху в их собственных домах. Недаром зощенковский хам постоянно точил зубы на некий обобщенный «театр». Спектакль упразднен, вступает в действие всесоюзный допрос с пристрастием.
В этой своей семейной хронике Булат тревожит «старые раны», о которых с такой пронзительностью говорил наш общий друг Юра Трифонов. Маленький Кукушка становится обобщенным портретом сотен тысяч. Вместе с Булатом он задает множество вопросов как бы от лица поколения, кроме одного: каким образом возник в этом милом и скромном мальчике его великий песенный гений? Впрочем, не задает вопроса, может быть, потому, что ответа не знает. «…Так природа захотела. Почему, не наше дело. Для чего, не нам судить».