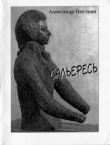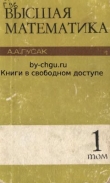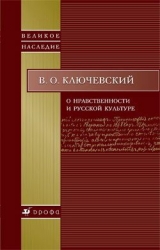
Текст книги "О нравственности и русской культуре"
Автор книги: Василий Ключевский
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 24 страниц)
I. Статьи. Речи. Лекции
Великие Минеи Четии, собранные Всероссийским митрополитом Макарием
(фрагмент)[29]29
Рецензия на указанное сочинение, изданное Археографической комиссией. Т. 1. СПб., 1868. Впервые опубликована в журнале «Москва». 1868. № 90. 20 июня. См. также в к„, Ключевский В. О. Отзывы и ответы: Третий сборник статей. М., 1914. С. 1–18; Он же. О нравственности и русской культуре / Сост. Р.А.Киреева. М.,1998.С.36–45.
[Закрыть]
Изучение нашего прошлого имеет за собой одно чрезвычайно драгоценное условие, которое может оказать на него плодотворное влияние, если только уметь им пользоваться. Важнейшие умственные и общественные движения, которые переживали мы в разные времена своей истории, важнейшие интересы/волновавшие наших близких и далеких предков, – не успели скрыться и замереть под почвой, наносимой новыми движениями и интересами, а живут и действуют поныне воочию наблюдателя и могут быть изучаемы не по одним мертвым памятникам, но и по живым остаткам, уцелевшим в разных углах нашего отечества, в разных слоях нашего общества. Историческая почва, по которой мы ходим, не покоится над радом разновременных и разнородных пластов, вскрываемых только заступом историка: большею частью эти пласты остаются еще открытыми, вспахиваются и засеваются.
Возьмем нашу литературу, в ее широком историческом объеме и связанные с нею умственные интересы. Все ступени, пройденные русским сознанием, от доверчивой песни про богатыря до научной переборки всей отечественной истории, или от страха перед силой, обитающих в соседнем лесу, до вопроса, занимающего все человечество, – все широты, отделяющие эти полюсы развития, так же мирно и одновременно присутствуют в нашем обществе, как параллели на глобусе. Словом, вопрос, что читается на Руси, удобнее выразить другим вопросом: чего не читается здесь из всего когда-либо читавшегося на Руси, – и все это от житий святых до «Бовы Королевича» и до Ж. Санд не только читается, но и определяет собою степень развития, склад понятий, миросозерцания читающего круга. Изучить в статистическом разрезе все умственные слои, представляемые нашим обществом, значит пройти не один век русской умственной жизни.
Наука не может не дорожить таким благоприятным условием, какое представляет ей само общество; но она не должна и оставаться в долгу перед обществом, дающим ей это условие. На нее возлагается некоторая нравственная обязанность – иметь в виду не одни верхи развития, но спускаться вниманием и в другие слои его, подавать руку их умственным потребностям. Такая обязанность становится тем чувствительнее, что эти другие слои представляют не бесплодные окаменелости, а свежую почву, на которой можно сеять и жать.
Мы ведем эту речь к тому, что С.-Петербургская Археографическая комиссия, ученое правительственное учреждение, для обнародования древних памятников нашей истории предприняла издание «Четьих-Миней» митрополита Макария, одного из самых крупных памятников литературы, завещанных нам Древней Русью. Недавно напечатан первый том издания. Это предприятие само собой вызывает такую мысль: вот памятник, который, кроме специально научного интереса, может иметь и широкое практическое, образовательное значение в нашем обществе. Кроме немногих, которые воспользуются им как историческим материалом, у нас существует обширный круг людей, для которых он может быть живым источником поучения и образования, которые отнесутся к нему с таким же непосредственным нравственным интересом, какой привязал к нему наших старинных книжных людей. По значению, какое имеют в этом круге «Четьи-Минеи» св. Димитрия Ростовского, можно видеть, как много живого и питательного находит русский человек в таком чтении. После Библии «Четьи-Минеи» для народа – самая уважаемая и полезная в отношении нравственного образования книга. Нетрудно понять, что в этой книге особенно занимает верующего и ищущего нравственной пищи человека: это – жития святых, в таком обилии наполняющие книгу митрополита Ростовского. Известно, каким любимым чтением было житие в Древней Руси, и мы не можем не признать за ним большого значения в истории нашего нравственного воспитания. Таким же любимым чтением остается оно и доныне в тех частях нашего народа, которые живут духовным наследием, полученным непосредственно от древнерусских предков. Таким значением жития пользуются недаром: трудно подобрать в наших библиотеках книгу, которая так же полно, как житие, способна была бы захватить и удовлетворить духовные потребности простого человека, так занять его нравственное чувство и воображение и послужить для него таким живым и удобным проводником сведений из наиболее ценимой им области знания истории христианства. Всякий из нас встречал людей, благоговейно сидевших и задумывавшихся над каким-нибудь Житием Евстафия и Плакиды или Феодосия Печерского, – и всякий должен признаться, что они могли задуматься над этим глубже и плодотворнее, чем над многим и многим из современной нашей письменности. Нужно ли прибавлять, что надо особенно дорожить умственным основанием, какое положено в народе, ибо на этом основании можно гораздо более построить в деле народного воспитания, чем на основании разных современных изданий, приправленных руками людей, остающихся полными невеждами относительно народной жизни, – изданий, полных разною лжекультурною придурью.
Значение Макарьевских «Четьих-Миней» как памятника литературного и исторического определяется тою двойственною задачей, какую поставил себе знаменитый их собиратель. Чтобы понять эту задачу, надобно представить себе то положение, в каком находился весь наличный состав нашей письменности, накопившейся ко времени Макария. Масса произведений, переводных и оригинальных, достигшая к тому времени уже значительного объема, переписывалась и расходилась по частным рукам, церквам, монастырям и т. д., подвергаясь всем случайностям, какие обыкновенно испытывает литература при письменном способе распространения. Кроме книг, имевших общий интерес, везде нужных, существовал значительный отдел произведший, имевших частное значение, возникших под влиянием местных интересов. При медленности распространения списков, при ограниченности и недостатке общений литературных интересов, эти последние произведения с трудом переходили за пределы той местности или того круга, в которых действовали вызвавшие их интересы. И те и другие произведения находились в немногих центрах, где собирались значительные библиотеки; но и там они не могли сосредоточиваться в полном своем составе. По теперешним рукописным нашим хранилищам мы можем приблизительно судить о том хаосе, какой представляли лучшие русские библиотеки около половины XVI в. Иные произведения встречались там в десятках экземпляров, с бесконечными вариантами, пропусками и дополнениями; другие с трудом можно было найти в одном списке. По свойству и развитию письменного дела в то время среди сотни рукописей, может быть, гораздо труднее было осмотреться, нежели в наших библиотеках среди тысяч печатных книг. Особенно увеличивала эту трудность любимейшая форма старинной русской письменности – сборники, в которых обыкновенно соединялись разнородные статьи, случайно ставшие рядом, без всякой внутренней связи и часто без оглавлений.
Из такого состояния письменности проистекали неодолимые затруднения для старинного грамотного человека. Он должен был читать то, что случайно попадалось под руку, т. е. читать без плана, без выбора. Если бы он захотел собрать сведения об известном круге предметов, познакомиться с известною отраслью тогдашней литературы, он бы не мог узнать, где что найти, что писано по этой отрасли. Трудно было сделать это и тем немногим счастливым людям, которые были близки к большим собраниям рукописей; о степени этой трудности можно судить по тому, что приходится испытывать в рукописных библиотеках нам, вооруженным хоть какими-нибудь описями и каталогами. Наконец, принимаясь за какое-нибудь произведение, старинный читатель должен был отдавать себя в жертву тем капризным изменениям, искажениям и ошибкам, каким подвергали это произведение переписчики, прежде чем оно доходило до читателя.
Отсюда понятно, как родилась в голове одного из образованнейших иерархов Древней Руси мысль соединить в один громадный сборник «все книги чтомые, которые в Русской земле обретаются», предварительно подвергнув их строгому пересмотру и исправлению. Но при этом надобно было избегнуть недостатка обыкновенных сборников, который в задуманном своде стал бы совершенно неодолим: надобно было найти систему, удобную и понятную для тогдашнего образованного человека и настолько широкую, чтобы ею можно было связать все разнообразное содержание существовавшей тогда письменности. Вот та двойная задача, которую задумал осуществить в своих Минеях Макарий. Возможность для исполнения первой половины этой задачи Макарий нашел в личных средствах, какие давало ему его образование, и в общественном положении, какое занимал он – сперва как архиепископ Новгородский, а потом как митрополит Всероссийский. Новгород в XVI в. еще продолжал быть первым центром литературного движения в северной Руси; есть основание думать, что новгородский владыка окружен был литературными богатствами, каких не находил вокруг себя никакой другой русский епископ. Его материальные средства и сан давали ему возможность восполнять то, чего недоставало у него из всего письменного запаса того времени.
Система, способная объединить этот запас, была найдена в характере развития общества и самой литературы. Все высшие интересы общества были тесно связаны с Церковью ее учениями и воспоминаниями. Церковь занимала широкое место в жизни мирянина; в свою очередь и эта жизнь текла под непосредственным влиянием Церкви, близко соприкасаясь с ее ежедневными отправлениями. Еще яснее сказывалось такое отношение общества к Церкви в литературе и во всей письменности. Что имело ближайшее отношение к Церкви, то чаще переписывалось и больше распространялось между ее членами. Почти обо всем, что мог читать тогдашний грамотный человек в досужие минуты, о том же читалось или пелось и в Церкви. Даже в отреченной книге, в легенде, в житейской повести он находил отголоски вопросов Церкви, отблески ее учений и преданий, только преломившихся в другой, чуждой среде мирского интереса или мудрования. Притом чисто светские произведения проходили в целом составе тогдашней письменности едва заметною струей. Так, с одной стороны, общество было близко знакомо с кругом церковной жизни, с другой, и литература легко укладывалась в этом кругу. Этот круг церковной жизни, церковный календарь, и должен был связать в одно огромное целое весь состав письменности, существовавший во время Макара.
Нельзя сказать, чтобы Макарий во всей полноте осуществил свою задачу – собрать и расположить в порядке церковного календаря «все книги чтомые, которые в Русской земле обретаются». С одной стороны, несмотря на широту избранной системы, многие статьи и книги, вошедшие в его собрание! не имеют с ним органической связи: он должен был сделать из последних чисел месяцев нечто вроде дополнений, где он помещал разнообразные памятники литературы, не укладывавшиеся под его систему. С другой стороны, значительное количество произведений, несомненно читавшихся на Руси во время составления Миней, не попало в них. Не говорим уже о русских летописях, которых, несмотря на преобладание в них церковного характера, мог и не иметь в виду собиратель и которыми он воспользовался в другом чисто историческом сборнике (Степенной Книге). Даже в собранном им запасе житий, составлявших основной, существенный материал Миней, не находим многих русских произведений, существовавших в то время. Так, нет древнего Жития Антония Римлянина, написанного учеником его Андреем около половины XII в., – одного из древнейших русских житий; не находим и Жития Моисея, архиепископа Новгородского, написанного Пахомием Логофетом, нет Жития Ефрема Перекомского, Иосафа Каменского и других, написанных, несомненно, до возведения Макария в сан митрополита. Не вошли в его Минеи и другие русские статьи, читавшиеся в то время: укажем, например, на отсутствие любопытных сказаний Паисия Ярославова (XV в.) и некоторых произведений Иосифа Волоколамского.
Можно было бы продолжить перечень опущенного в «Четьях-Минеях». Но самые эти пропуски и весь состав Миней, вся форма их есть важный, обильный выводами факт для истории русской литературы и письменности. Может быть, ничто лучше этих Миней не познакомит нас со свойством той умственной и нравственной пищи, которою питался русский грамотный человек XV и XVI вв. Благодаря им мы можем подробно осмотреть внутренность той оружейной палаты, из которой бра! он самые надежные моральные доспехи. Обширная библиотека, совмещенная в этих Минеях, дает наглядное представление того, что особенно ценилось, что имело наибольшее обращение в среде читающих людей первой половины XVI в.
Они дают возможность осязательно и живо определить один момент в развитии русской литературы, который без них не вышел бы из круга гаданий: сравнив количество русских оригинальных произведений, вошедших в Минеи, со всем объемом последних, можно видеть, какую незначительную часть всей письменности составляла бывшая в обращении оригинальная русская литература до половины XVI в. Наконец, некоторые памятники только благодаря этим Минеям не разделили участи многих других, еще существовавших во время Макария, но которых уже нельзя было найти после него.
В наше время Археографическая комиссия, думая пойти навстречу потребностям народного образования, предприняла издание «Четьих-Миней» Макария. По характеру памятника к его изданию можно обратиться с двойным вопросом: для кого назначается оно – для ученых или для народа? Издание комиссии задумано и исполняется в таком виде, что допускает только отрицательный ответ на обе половины вопроса. В помещаемой ниже рецензии указано, почему мало полезно и неудобно оно с ученой стороны. Мы можем прибавить, что для народа оно еще менее удобно: оно неудобно для него ни по цене, ни по объему, ни по самому составу. То новое и общеинтересное для него, что есть в Макарьевских Минеях в сравнении с Димитриевскими, исчезает в массе лишнего, без чего народ может обойтись в новом издании и что он найдет частию в знакомой ему книге Димитрия Ростовского, частию в других уже существующих и недорогих изданиях. Между тем «Четьи-Минеи» Макария издаются целиком и в полном составе подлинника.
Таким образом, новое издание в том виде, как предприняла его комиссия, является роскошью, а роскошь позволительна только после удовлетворения насущных потребностей. Издание по своим размерам затянется надолго, может быть на десятки лет, и поглотит силы и средства, которые могли бы ускорить исполнение других ближайших задач, стоящих на очереди в программе комиссии. Например, в деле издания нашего исторического материала давно чувствуется резкий пробел: изданы летописи, акты, а подлинные жития русских святых пропущены и остаются в рукописях. Услужливые предприниматели ежегодно выпускают в тысячах экземпляров книги вроде «Битвы Русских с Кабардинцами» или «Дурака Красной Шапки», а ученые казенные общества и комиссии никак не могут собраться издать жития русских святых. Издание макарьевских «Четьих-Миней» не устранит пробела, ибо в них попала очень небольшая доля памятников этого рода. Частному лицу нужно иметь много благоприятных условий, чтобы стать в возможность познакомиться с ними, и то не во всей, а только в наибольшей полноте. Довольно указать на то, что ни в одном общественном и доступном хранилище рукописей этот отдел древнерусской литературы не сосредоточивается в полном своем составе. Такому учреждению, как Археографическая комиссия, было бы всего удобнее и естественнее принять на себя этот труд, который сделал бы ее существование заметным и полезным не для одних ученых, но и для массы читающего народа.
Нужно ли, наконец, говорить о важности передачи такого рода памятников в общее пользование? К подлинному житию каждый отнесется с большим доверием, нежели к витиеватому переложению Муравьева или сухому сокращению архиепископа Филарета Черниговского. Кроме непосредственного нравственного назидания, какое народ привык почерпать в этом любимом и уважаемом им источнике, дельное издание древнерусских житий дало бы народу самое удобное средство ознакомиться со своею историей и бросило бы не один светлый луч в его историческое сознание, в его взгляд на себя и на свое прошлое. Среди нас так часто слышатся жалобы на бедность духовного содержания, духовных элементов в нашей жизни и на недостаток народного, родного в этих элементах. Эта жалоба неблагоприятно действует на наши нравственные силы и утверждает наклонность к самопренебрежению. Мы вообще неохотно заглядываем в свое прошедшее и робко ступаем вперед. Нам, по-видимому, нужно крепче и осязательнее убедиться в том, что история развивала в нас не одни физические силы, что нам знакомо и нравственное напряжение. Жития наших святых вводят именно в те сферы древнерусской жизни, где всего сильнее чувствуется веяние и работа этой нравственной силы народа. Читая их, мы присутствуем при двух основных процессах нашей древней истории: мы встречаемся лицом к лицу с древнерусским человеком, который, вечно двигаясь с крестом, топком и сохой, в зипуне и в монашеской рясе, делал одно немалое дело – расчищал место для истории от берегов Днепра до берегов Северного океана и в то же время, несмотря на такую растяжимость, умел собрать силы на создание государства, сдержавшего и вторжение с Востока, и пропаганду с Запада. Оба процесса поражают напряженностью физической силы, материальной борьбы, и в обоих ускользает из глаз участие нравственной силы. Может быть, ничто лучше жития не дает нам почувствовать, что не одним топором, не одною сохой расчищено и взрыто это необъятное поле, и не одни пресловутые Иваны московские дали государству такую живучесть, но что их материальному созданию послужили и лучшие нравственные силы народа в образе Петра, Алексия, Сергия и многих других. Может быть, мы серьезнее смотрели бы на себя и свое будущее, если бы лучше знали и ценили эти нравственные силы, потрудившиеся для нас в прошедшем.
Содействие Церкви успехам русского гражданского права и порядка[30]30
Речь, произнесенная „а публичном акте Московской духовной академии 1 октября 1888, Впервые опубликована в «Творениях святых Отцов». 1888. Кн. 4. С. 382–412 и отдельно «Годичный акт в Московской духовной академии 1 октября 1888 г.». М., 1888. С. 5–36. См. также в кн.: Ключевский В. О. Очерки и речи: Второй сборник статей. М., 1913. С. 90–116; Он же. О нравственности и русской культуре / Сост. Р. А. Киреева. М., 1998. С. 45–71.
[Закрыть]
Очередь беседы с почтившими своим присутствием годичный праздник нашей академии дошла до меня в такой год, который сам настойчиво подсказывает мне предмет этой беседы. В нынешнем году, следуя показанию нашей древней летописи, русский народ праздновал 900-летие своего крещения О чем вспоминали мы, празднуя годовщину этого события? О том, что св. Владимир, блюститель гражданского порядка в Русской земле, положил в ней основания порядка церковного. Историк отечественной Церкви, начиная с этого события, повествует, как с той поры гражданская, государственная власть на Руси содействовала успехам Русской Церкви. Я имею честь преподавать с духовно-академической кафедры гражданскую историю России, как вспомогательный предмет к изучению истории Русской Церкви. О чем всего лучше обратиться мне к вам с беседой, как не о том, чем платила Русская Церковь за это содействие, что сделала она для устроения гражданского порядка в Русской земле?
Надеюсь, я никого не введу в недоумение этим вопросом, не заставлю думать, будто я хочу говорить о вмешательстве Церкви в гражданские, политические дела Известно, что воздержание от такого вмешательства – историческая особенность и политическое правило православной Церкви: Божия Богови, Кесарево Кесаревы.
Церковь действует на особом поприще, отличном от поля деятельности государства. У нее своя территория– это верующая совесть, своя политика– оборона этой совести от греховных влечений. Но, воспитывая верующего для грядущего града, она постепенно обновляет и перестраивает и град, зде пребывающий. Эта перестройка гражданского общежития под действием Церкви – таинственный и поучительный процесс в жизни христианских обществ. Церковный историк редко находит случай и повод бросить взгляд на эту работу, глубоко сокрытую под покровом явлений, далеких от главного предмета его наблюдений. Он наблюдает верующего в кругу его религиозных обязанностей и отношений и выпускает его из вида как скоро он выходит из непосредственного действия Церкви и, как гражданин, погружается в бурливый поток гражданских интересов и отношений. Наблюдателю этих интересов и отношений не раз и приходится встречаться с явлениями, перед которыми он останавливается в раздумье. Он видит источники этих интересов, пружины, коими движется механизм гражданского общежития. То обыкновенно мутные источники, жесткие, железные рычаги: черствый эгоизм, слепой инстинкт, суровый закон, обуздывающий порывы того и другого. И среди стукотни этого механизма вдруг послышится наблюдателю звук совсем иного порядка, запавший в житейскую разноголосицу откуда-то сверху, точно звон колокола, раздавшийся среди рыночной суматохи. В ветхом и пыльном свитке самого сухого содержания, в купчей, закладной, заемной, меновой или духовной, под юридической формальностью иногда прозвучит нравственный мотив, из-под хозяйственной мелочи блеснет искра религиозного чувства, – и вы видите, как темная хозяйственная сделка озаряется изнутри теплым светом, мертвая норма права оживает и перерождается в доброе житейское отношение, не соответствующее ее первоначальной природе. Вот перед нами духовная одной древнерусской завещательницы, именитой и богатой госпожи. Все она припомнила и записала в завещании, кому сколько должна, кто ей сколько должен и кому что должно достаться из ее имущества. Это, очевидно, заботливая и памятливая хозяйка, и предчувствие смерти не помутило ее скопидомной памяти. Угасающим взглядом окинула она весь свой житейский багаж, припомнила и свои сундуки с платьем и свою кухню и дошла до своей многолюдной крепостной дворни. Юридически это для нее такие же вещи, как и ее телогрейка, с тою разве разницей, что последняя ближе Г сердцу и потому дороже, бережнее хранилась. Читая духовную, ждешь, кому она откажет своих «роб и холопов». «А людей моих, – пишет завещательница, – после моего живота всех отпустить на свободу, все Божий и царевы государевы люди, и из остаточных денег дать моим людям, мужичкам и женочкам, почему пригоже дати, а не оскорбити, чтобы людцы мои после меня не пошли с моего двора и не заплакали». Или вот бедный человек занял деньги у капиталиста от Николина дня вешнего такого-то года до того же Николина дня следующего года и в заемной кабале пишет, что занял их без росту, что заимодавец, помня евангельскую заповедь и имея в сердце своем страх Божий, росту с него не взял ничего. Легко понять, чье влияние делало из предсмертного завещания владелицы крепостных душ трактат о равенстве людей перед Богом и государем и долговое обязательство превращало в благотворительный акт, заставляя ростовщика отказываться от своих узаконенных тогда 20 % годовых. Личный интерес часто побуждал древнерусского человека протягивать руку на то, чего не признавало за ним право, а евангельски заповедь внушала ему добровольный отказ и от признанного за ним права, и этой борьбой евангельской заповеди с личным интересом строилось сносное гражданское общежитие, в котором право, страж законного личного интереса, часто становилось послушным орудием евангельского самопожертвования.
Всякий, кто изучал историю нашего гражданского порядка, знаком с чувством того высокого нравственного удовлетворения, какое испытываешь, наблюдая, как Церковь делала смерть строительницей человеколюбивого людского общежития и нотариальную контору превращала в притвор храма Божия. В то время как русский народ праздновал память своего просветителя князя Владимира, и у нас, скудных числом и скромных исследователей русской гражданской старины, был свой молчаливый товарищеский праздник: мы вспоминали первого виновника этих светлых минут, какие выпадают на нашу долю, когда мы, всматриваясь в старинные памятники наших гражданских учреждений, замечаем на них иногда неожиданно и всегда с отрадой след благотворного влияния Церкви, в строе материальных отношений чувствуем присутствие нравственного начала. Это начало принес он, князь Владимир, как он же завел и первую аудиторию на Руси, когда велел отбирать у знатных людей «молодые дети» и отдавать их «на учение книжное». Эти «молодые дети», отданные учиться грамоте, были ваши, господа студенты, предшественники, первые студенты духовно-учебных заведений и первые ученые в Русской земле, ибо летопись прямо замечает о них: «и навыкаху скоро по Божию строю, и бысть от сих множество мудрых философов»,[31]31
Никоновская летопись 1. С. 94. (Здесь и долее примечания В. О. Ключевского)
[Закрыть] Эти мудрые философы стали потом русскими пастырями и наставниками русского юношества, какими со временем станете и вы.
Один из упомянутых скромных исследователей просит теперь вашего благосклонного внимания Он не думает изложить перед вами ученое исследование о многообразной деятельности Русской Церкви: эту деятельность здесь, в этом высшем богословском учебном заведении, знают несравненно лучше, чем знает он. Нет, он просит позволения только передать несколько впечатлений, – ничего больше, кроме впечатлений, вынесенных им из изучения нашего древнего гражданского порядка, напомнить, чем этот порядок обязан Церкви, какими путями проникло в него и куда направляло его принесенное ею нравственное начало. Это воспоминание будет нашей поздней академической данью первому христианскому государю Русской земли, память которого мы праздновали в нынешнем году.
Историку гражданского порядка в России часто приходится обращаться к историку церковному за советом и указаниями. К этому вынуждает первого своеобразное положение Церкви в Русском государстве в первые века христианской жизни Руси. Тогда Церковь русская ведала многое, что потом вошло в непосредственное ведомство государства. Церковь и тогда не вмешивалась в дела государства, но само государство вовлекало ее в свои дела, еще не умея справиться со многими из них. Церковная иерархия и в Византии не была замкнута в кругу дел чисто духовных: сверх участия в управлении и суде она помогала государству в устройстве благотворительности, в защите слабых и угнетаемых в поддержании общественного благочиния и семейного благонравия. Духовенство принесло в Россию первые понятия о таких учреждениях и отношениях; ни правительство, ни общество в новопросвещенной стране не умело взяться за них; но, судя по летописному рассказу о благотворительной деятельности князя Владимира, можно думать, что, по крайней мере, правительство очень скоро поняло их важность для общественного порядка. Основание и правила для устройства таких дел и отношений духовенство указывало в принесенных им уставах, которые в глазах всех русских христиан имели непреложную каноническую силу или нравственную обязанность. Местному законодательству предстояло только применять эти основания и правила к уровню развития и к потребностям местного общества. Эту работу с необходимыми для нее законодательными полномочиями местная государственная власть и возложила на церковную иерархию, заранее дав ей согласие на те учредительные меры, принять которые она найдет необходимым. Так церковная иерархия явилась ближайшей сотрудницей правительства в устроении государственного порядка и вместе с широкой юрисдикцией получила законодательную власть в установлении некоторых гражданских отношений. Эта законодательная деятельность иерархии по государственному поручению должна была состоять в переработке и применении к условиям русской жизни византийских узаконений, принесенных на Русь духовенством вместе с Номоканоном В древних памятниках русского права сохранилось любопытное указание на побуждения и самую форму такого законодательного поручения. В тридцатых годах XII в. внук Мономаха, Всеволод Мстиславич, княживший в Новгороде, дал ему церковный устав, который представляет собою повторение и некоторое развитие старого церковного устава св. Владимира. В приписке к уставу князь затрагивает важный вопрос об отношении к наследству отца детей от запрещенного третьего и четвертого брака. Уставодатель пишет, что он сам разбирал тяжбы о наследстве детей от первой жены с их мачехой, третьей или четвертой женой их отца, и ее детьми, и решал такие тяжбы «заповедми по преданию св. отец», т. е. по узаконениям, содержащимся в Номоканоне. Из слов князя видно, что он решал такие тяжбы согласно с духом, но не вполне с буквой византийского императорского законодательства, применяясь к русским понятиям и нравам. Князь, однако, думал, что не его дело решать такие тяжбы, и прибавил в приписке заявление о всех судебных делах такого рода: «а то все приказах епископу управливати, смотря в Номоканон, а мы сие с своей души сводим». Совесть князя тяготилась сомнением, вправе ли он решать такие дела, требующие канонического разумения, и он обращается к церковной власти с решительным призывом: снимите с моей души нравственную ответственность за такие дела, которые вы разумеете лучше меня, и делайте их сами по своему разумению, соображаясь с Номоканоном и с нашими нравами. Но соображать византийский закон с русской действительностью значило перерабатывать тот и другую, внося заимствованное юридическое начало в туземное отношение, те. значило создавать новый закон: такая законодательная работа и возлагалась на церковную иерархию.
Как иерархия исполнила возложенное на нее поручение и какие средства призвала она на помощь для его исполнения? Это – вопрос об источниках права, из которых она черпала, и о способе их практической разработки, о приемах их применения к русской действительности. Чтоб ответить на вопрос об источниках, надобно узнать, что было пригодного для этой работы под руками первых русских иерархов, которым пришлось за нее приняться. Отвечая на вопрос о приемах, следует обратиться к памятникам дальнейшего времени, несомненно отразившим в себе русскую действительность, и поискать в них следов влияния тех источников права, из которых черпали пригодный материал первые церковные устроители русского гражданского порядка.
Профессор А. С. Павлов, один из лучших знатоков канонического права в современной Европе, путем усиленных разысканий и остроумных соображений распутал самый трудный узел вопроса о первоначальном славяно-русском Номоканоне, которым руководствовалась Церковь, устроясь на Руси. Оказалось, что у нас издавна был известен Номоканон константинопольского патриарха VI в. Иоанна Схоластика в болгарской редакции и в переводе, приписываемом славянскому первоучителю св. Мефодию, но что в первые века христианской жизни Руси в нашей церковной практике гораздо употребительнее был Номоканон другого состава (в XIV титулах), – тот Номоканон, который в IX в. был дополнен патриархом Фотием и получил название Фотиева. Еще в XVI в. нашим книжникам были известны списки этого Номоканона, писанные один при вел. кн. Изяславе Ярославиче во второй половине XI в., а другой еще раньше, при самом Ярославе и новогородском епископе Иоакиме, по всей вероятности, в Новгороде, когда там сидел Ярослав наместником своего отца, значит – не более 30 лет спустя после крещения св. Владимира. Профессор Павлов допускает даже не лишенную вероятности догадку, что содержавшийся в этом списке Номоканон и переведен был по воле того же Ярослава, ревнителя церковных уставов, который дал монастырям и святителям «оправдания судом с греческого Номоканона». Может быть, потому и Номоканону этого состава в Древней Руси усвояли иногда название Ярославова. Названному ученому удалось найти в московской синодальной библиотеке список Кормчей ХП-ХШ вв. того же состава, еще без Фотиевых дополнений, и в том самом переводе, какой наши книжники XVI в. встречали в русских списках Номоканона XI в.[32]32
Павлов А. Первоначальный славяно-русский Номоканон Казань, 1869
[Закрыть] Так нам открывается возможность подойти к основному церковно-юридическому источнику, из которого преимущественно черпали пригодный материал первые устроители русского порядка церковного и тех частей гражданского, устроение которых было возложено на церковную иерархию.





![Книга Краткий философский словарь [Издание второе, переработанное и дополненное] автора авторов Коллектив](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-kratkiy-filosofskiy-slovar-izdanie-vtoroe-pererabotannoe-i-dopolnennoe-266996.jpg)