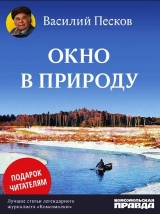
Текст книги "Окно в природу"
Автор книги: Василий Песков
Жанр:
Природа и животные
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 14 страниц)
Есть какая-то сила, влекущая и человека, и зверя к лесным опушкам
В природе Средней России есть зоны, особо приятные глазу: речные долины, лесные поляны, островки леса в поле и лесные опушки.
Идешь полем – глаз дразнит неровная синяя линия леса.
Подходишь ближе – тянет идти вдоль опушенной кустами стены деревьев. И в траве у опушки обязательно обнаружишь торную тропку – не ты первый заворожен границей леса и поля, многих опушка вела куда-то извилистым краем: по одну руку – таинственный полог деревьев, по другую – пространство, залитое солнцем. И зимой – обратите внимание – вдоль опушки обязательно вьется лыжня. В поле ветрено, скучновато, в лесу местами – не продерешься. А опушкою – хорошо! И строчка лисьего следа тоже вьется вблизи опушки. Вот видно: стояла лиса, прислушивалась, приглядывалась к заснеженному жнивью из-за кустика терна. Вот мышковала возле стогов, а испугавшись чего-то, быстро метнулась к опушке и сразу остановилась, обернулась мордою к полю: я тебя вижу, ты меня – нет.

Заяц тоже топтался у края леса. В поле беляку делать нечего, а опушка для него интересна – можно погреть на солнышке бок, и корма на этой освещенной солнцем границе древес гораздо вкуснее, чем в чаще. Об этом знает не только заяц. Знают и лось, и олень.
На опушках кормятся и любят просто так посидеть на березах тетерева. И не только тетерева. У птиц, я заметил, есть ритуал прощания с солнцем. Каждый знает, как волнует человека момент, когда солнце у вечернего горизонта краснеет, становится странно большим, дымится и вот-вот мигнет на прощание глазом. Момент ухода светила волновал, надо думать, и наших далеких предков, рождал в первобытной их голове множество мыслей и чувств. И мы, появляясь на свет, имеем наследство тысячелетнее – щемящее чувство радости и тревоги при виде заходящего солнца. «Красно солнышко», «Заря моя вечерняя…» – во скольких песнях запечатлено это вечернее волнение, ощущение красоты и таинства мира.
Что-то похожее на закате солнца переживают, наверное, и птицы. Я много раз наблюдал: шум-гам в лесу, но вот зарумянились шишки на елках, заиграли красные отблески на верхушках берез, и лес затихает. Чуть позже, когда сумрак из-под полога леса поднимется кверху, звуки возобновятся.
Переговариваясь, птицы будут устраиваться на ночлег. Но в момент, когда лучами заката освещены верхушки деревьев, птицы стихают и сидят в вышине неподвижно – прощаются с солнцем. Я это много раз наблюдал. А однажды, проходя по холму в стороне от знакомой опушки, был остановлен заходом солнца. Закат был огненный, а солнце большое и красное. Глядеть на него можно было даже через бинокль.
Размышляя – с кем разделяю радость вечернего заката? – я навел стекла на лесную опушку и поразился. Там и сям на верхушках деревьев, головою на запад, недвижно, молчаливо, торжественно сидели вороны, два канюка, голуби, сойки, сороки, дрозды.
Той опушкой, выходящей к шоссе с направлением на Калугу, я возвращался не менее сотни раз, в разное время года, в разное время дня, но чаще всего это был вечер. Я помню, кто и как готовится к ночи. Вороны после заката летят с окраины леса в город, сороки, напротив, после промысла в деревнях собираются в лес и ночуют большой компанией. Я видел мерцающий стайный сорочий полет, слышал, как, покрякивая («все спокойно!»), сороки устраиваются в густом плотном ельнике. Проходя на опушке в более позднее время и желая проверить, на месте ль завсегдатаи ночлежки, я ударял по дереву посошком, и сейчас же в сумерках начинался невообразимый сорочий гвалт, настоящая паника перепуганных птиц. На той же опушке в непролазном молодом ельнике спали обычно дрозды.
Зимой у окраин леса на репейниках держатся стаи щеглов, на рябинах и на терновнике – свиристели. Вылетают из заснеженной части полущить семена конского щавеля снегири. И уже много лет на этой опушке я веду занятные игры с ушастыми совами. Днем эти птицы хоронятся в чаще, как будто их нет. Но смолкнет после заката щебет дневных обитателей леса, наступает час сов. Иногда я сажусь специально дождаться этого часа.
На земле уже сумрак. Густеет синева неба, но на нем еще хорошо видно силуэт бесшумно пролетающей птицы. Совы из лесной глубины собираются на опушке у края пшеничного поля и сидят, готовые к ночной охоте. В этот момент попищи мышью, и вот она, таинственная ночная птица с широкими мягкими крыльями. Она, разумеется, видит тебя и все же делает разворот, услышав желанные звуки, бесшумно скользит в трех метрах от твоей головы, улетает, но возвращается снова.
Иногда я эту игру усложняю. Ложусь под низким пологом на опушке растущей ели и там притворяюсь мышью, сопровождая писк еще и легким шуршанием листьев. Однажды осенью эта игра привлекла целый выводок молодых сов – шесть штук! Писк и легкое шевеление пальцев в опавших листьях заставили сов каруселью носиться в воздухе друг за другом. Атакуя, они опускались к земле и взмывали кверху у самой моей ладони. Минут десять продолжалась эта игра.
Губы мои от подражания мыши одеревенели. Озадаченные совы сели передохнуть на голый ольховый куст в трех метрах от скрывавшей меня хвои. Это было похоже на сказку. Полдюжины крупных птиц, навострив уши, силуэтами темнели на угасающем небе – коллективно решали, возможно, первую в жизни загадку: что за странная мышь там под елкой? Я снова пискнул, но, видно, не очень искусно – три птицы слетели и скрылись, но три опять начали летать и снижаться. Возможно, они понимали, что вовсе не мышь схоронилась под елкой, но очень уж сладки совиному сердце вечерние писки и шорохи на опушке. Они играли с этими звуками, как котенок играет с клубочком пряжи…

Геологи знают: на границе двух сред (в данном случае леса и поля) жизнь всегда гуще, разнообразней, подвижней. И растения, и животные на подобных размытых границах взаимно проникающей территории лучше используют свет и тепло, легче находят корм и убежище, а возможно, так же, как мы, звери и птицы находят и радость побыть на околице леса и поля.
На опушку ранее, чем в другие места, приходит осень. Но и весну замечаешь в первую очередь тут. В лесу еще сумрачно и морозно, а на опушке возле деревьев в снегу уже ямы. Уже видишь тут вдавленный солнцем в снега недавно слетевший дубовый листок. Тут раньше, чем в чаще, рассыпают березы свои семена. И это ль не чудо – в воздухе минус пять, но вереница лыжников скользит вдоль опушки, раздевшись по пояс! В чистом поле было бы зябко от ветра, в лесу прохладно без солнца, а тут хорошо – тихо и уже припекает. Да ведь и время, опушка простилась уже с февралем.
Селигер

– Ну а Селигер, бывали, конечно?
Когда говоришь «не бывал» – удивленье. Объяснение – «берегу про запас» – встречается с пониманием: у каждого есть заветное место, которое хочется видеть не мимоходом. И все же встреча эта была короткой. Дорога лежала у Селигера. И мы завернули. Сразу после ржаного поля увидели много тихой воды. Однако не сплошь водяная гладь, а полосы темной осоки, острова с кудряшками леса, за которыми снова сверкала вода. Садилось солнце. И все кругом как будто оцепенело в прощании со светилом. Дым от костра на синеющем вдалеке берегу подымался кверху светлым столбом. Стрекоза сидела на цветке таволги возле воды, и блики заката играли на слюдяных крыльях. Мы зачерпнули воды в ладони, сполоснули пыльные лица.
– Здравствуйте, Селигер Селигерыч…
– Первый раз приехали? – понимающе отозвался натиравший песочком кастрюлю явно нездешний загорелый рыбак.
– Я тоже, помню, так же под вечер увидел все это. И теперь вот в плену, восемнадцатый раз приехал. Откуда? Не поверите, из Сухуми…
У большинства наших больших озер мужское имя. Каспий, Арал, Балхаш, Байкал, Сенеж. И это – Селигер Селигерыч.
На карте, где восточное чудо – Байкал синеет внушительной полосой, Селигер почти незаметен – в лупу я разглядел лишь подсиненную неясного очертания слёзку. И только тут, вдыхая запах воды, одолевая взглядом уходящие друг за друга гребешки прибрежного леса, понимаешь, как много всего скрывала от глаза мелкомасштабная карта.
Озеро очень большое. И все же его размеры разом определить невозможно. С моторной лодки одновременно видишь два берега. Они то расходятся, то сужаются, так что даже не слишком смелый пловец вполне одолеет протоку. Но лодка идет полчаса, час, два часа, и озеро все не кончается.
Иные озера похожи на огромную залу под куполом, Селигер же вызывает в памяти лабиринт Эрмитажа – сотни причудливых «помещений», переходящих одно в другое, – протоки, заливы, тайные устья речек, плесы, мыски, острова. И все это в зелени трав и подступающих к самой воде лесов. Одних островов тут насчитано сто шестьдесят.
Отцом озера был ледник, отступающий с Валдая, как считают, двадцать пять тысяч лет назад. Получив изначально талую воду утомленного ледника, озеро пополняется теперь постоянным стоком сотен маленьких речек. Избыток же вод Селигер, подобно Байкалу, отдает в одном месте, одним только руслом, впадающим в Волгу.
Исток Волги лежит по соседству, в девятнадцати километрах от озера. Взглянув на подробную карту, можно увидеть: очень близко от колыбели Волги резвятся еще две маленькие речки. Приглядимся, проследим их пути: Днепр, Западная Двина… Вспомним Днипро у Киева, Даугаву у Риги, на российских просторах матушку Волгу – могучие реки! А тут, в Валдайских лесах, они – еще босоногие ребятишки. Не познакомившись даже, они разбегаются в разные стороны из непролазной чащи их общего детского сада. Они мало чем отличимы от десятков таких же маленьких речек. В этих местах главный держатель вод – Селигер. Богат, красив и заметен. «Европейский Байкал» зовут Селигер любители странствий.
Человеческая история у этой воды теряется в дымке времен. Никто не знает, когда впервые появились тут люди. Но кремневые молотки, скребки и долота, отрытые в городищах на берегу, говорят о том, что в каменном веке Селигер уже был приютом для человека. Череда веков, именуемая «до нашей эры», тут тоже оставила память. А в XII веке берега Селигера уже густо заселены славянскими племенами кривичей. Деревушки, видимые сейчас с воды и скрытые за лесами, нередко имеют глубокие корни во времени. Сотни лет назад выглядели они, конечно, иначе, но в названиях деревенек сохранились звуки минувшего, ощущение пространств и преград, разделявших людей. Заречье, Замошье, Задубье, Селище, Свапуща, Кравотынь…Селение Кравотынь, дразнящее путников белой церковью и сиреневой россыпью деревянных домов, название получило, как считают, из-за резни, устроенной тут Батыем. С юго-востока до Селигера в 1238 году докатились конные орды завоевателей. Воображенье Батыя, покорившего многие земли, возбуждали теперь Псков и Новгород. «Посекая людей яко траву», двигалось войско к желанной цели «селигерским путем». И осталось до Новгорода всего несколько переходов, когда «озеро вскрылось». Это надо считать легендой. Озеро вряд ли так рано вскрывалось. Но текущие в него речки набухли водой, опасными стали оттаявшие болота. Войско Батыя, боясь распутицы, повернуло на юг.

Предвесенние воды и глухие леса без дорог загородили, прикрыли Новгород.
Позже этот природный щит прикрывал россиян и с другой стороны, с запада, при походах сюда литовцев. Служил он также амортизатором в междоусобных стычках русских князей. И недавно совсем, в 41-м году, в Селигер уперлась, забуксовала машина фашистского наступления. Обойдя природную крепость с юга и с севера, Селигер фашисты все же не одолели. Проплывая сейчас по озеру, видишь на западном берегу памятник – пушку на постаменте. Надпись «Отсюда люди гнали прочь войну…» имеет в виду наступление 42-го года, однако смысл ее глубже: с берегов Селигера поворачивали вспять многие силы, сюда подступавшие.
Можно перечислить здешних людей-героев из разных времен. Двое из них хорошо нам известны – Лиза Чайкина и Константин Заслонов.
Мирная жизнь искони держалась на Селигере рыболовством, лесными промыслами, ремеслами и торговлей (селигерский путь «из варяг в греки» и выгодное торговое положение позже). У каждой из приютившихся на берегах деревенек поныне свой норов. Звоном кузнечиков и дремотною тишиной встретило нас Залучье. Кажется, даже собаки лаять тут не обучены и вся деревенька создана для любования ею. На взгорке между водою и лесом как будто чья-то большая рука рассыпала деревянные домики, а по соседству та же рука насыпала холм, с которого видишь эту деревню, леса, уходящие за горизонт, а глянешь в сторону Селигера – кудрявые косы и островки, лес и вода полосами. «Кто в Залучье не бывал – Селигера не видал», – пишет путеводитель.

Тот же путеводитель очень советует заглянуть и в Заплавье.
«Вы знаете – Голливуд, Голливуд!» – прокричал нам со встречной моторки знакомый киношник из Ленинграда.
Мы заглянули в Заплавье минут на двадцать, а пробыли там пять часов, хотя деревня эта, как все другие на Селигере, совсем небольшая. Очарование Заплавья начинается с пристани. Видишь какую-то ярмарку лодок – рабочих и праздных туристских, с парусами, без парусов. Дощатые мостики, баньки, деревянные склады и щегольской магазинчик, толчея людей, приезжих и местных, собаки и кошки – завсегдатаи причала, ребятишки-удильщики, местный юродивый. И тут же – рыбацкие сети на кольях, копенки сена, одноглазые баньки под крышами из щепы. И, обрамляя все, глядит на воду прибрежная улица. Дома пестрые и необычные – то крепость из бревен, то деревянное кружево от низа до конька кровли.
И более всего неожиданно – много домов тут каменных, но построенных и украшенных так, как будто трудился плотник. Так, видно, и было. На одном из крахмальнобелых строений читаешь вдруг надпись: «Строил плотник Александр Митриев».
Углубляясь в деревню, чувствуешь, что в самом деле занесло тебя в некий северный Голливуд – смешенье строительных стилей, красок, форм и объемов. Все покоряющее необычно, как детский рисунок, наивно и ярко – не деревня, а дымковская игрушка! «Как будто специально для туристов построено», – говорит кто-то, идущий сзади тебя.
Заплавье жило всегда и теперь живет рыболовством.
Здешние рыбаки, возможно, лучшие на Селигере, а весь край славен и рыбой, и уменьем ее ловить. Рыба отсюда издавна шла в Петербург и в Москву. А слава о рыбаках расходилась и того дальше. В 1724 году шведский король обратился к царю Петру с просьбой прислать в королевство двух рыбаков для обучения шведов рыбному промыслу.
Понятное дело, царь приказал разыскать лучших. И выбор пал на рыбаков с Селигера. И нисколько не удивляешься, когда на гербе столицы здешнего края – града Осташкова – видишь три серебряные рыбы.
Город Осташков, как и все здешние поселения, дитя Селигера. Он жил тоже рыбой, кузнечным и кожевенным ремеслом, славен был знаменитыми богомазами, сапожниками, чеканщиками и оборотистыми купцами, подарил Отечеству двух математиков – Леонтия Магницкого (по его учебнику постигал азы арифметики Ломоносов) и Семена Лобанова, читавшего лекции в Московском университете.

В среде уездных городков России конца XVIII – начала XIX века Осташков слыл знаменитостью. О нем охотно и много писали в столичных газетах. Много людей шли и ехали сюда на богомолье, просто «взглянуть на славный Осташков» и даже, как сейчас бы сказали, «за опытом». И было чему подивиться тут ходокам из уездной России. «На грани столетий, – читаем мы у историков, – в Осташкове были: больница, народные и духовые училища, библиотека, театр, бульвары, воспитательный дом, училище для девиц, городской сад и духовой оркестр, мощенные булыжником улицы, первая в России добровольная общественная пожарная команда, в городе почти все были грамотны, жители брили бороды и называли себя гражданами». Немало для уездного городка!
И осташи всем этим, конечно, гордились. Был тут даже и собственный гимн. Бурное течение двадцатого века уездный Осташков не подмяло, не затопило. Что строилось – строилось в стороне, не разрушая облика городка. Он хорошо сохранился, уездный Осташков. И (диалектика времени!) «уездность» эта с памятниками архитектуры и старины стала его богатством. Он снова – столица озерного края. На этот раз столица туристского Селигера.
Сегодня не надо доказывать, что селигерский край разумней всего использовать для отдыха и радостей путешествия. Это, кажется, все уже понимают. Досадно, однако, что оснащение удобствами и утверждение этого края «национальным парком» (или местом отдыха с иным статусом) движется медленно. Слишком медленно, ибо стихийные, без разумного регулирования потоки людей могут повредить уникальное на Земле место, да и удобства, хотя бы самые небольшие, в путешествиях людям нынче необходимы. Потоки людей сюда остановить уже невозможно. Наиболее неприхотливые, запасаясь едою и всем, что надо для жизни две-три недели в лесах у воды, едут сюда зимою и летом. Люди находят тут ценности, в других местах поглощенные городами и громадами производства. Тишина.
Чистый здоровый воздух. Чистые воды. Рыбная ловля. Лес со всеми его богатствами. Своеобразие жизни на берегах. Следы истории. Все это, объединенное символом «Селигер», стоит ныне в ряду самых больших человеческих ценностей. Дело только за тем, чтобы богатством этим разумно распоряжаться.
Прощай, Селигер… Мы стоим на пристани Свапущи, готовые двинуться к пограничной новгородской земле, к деревенькам, откуда повернули вспять орды Батыя. Белый пароход выплыл из-за полоски леса, помаячил на синей воде и снова скрылся за поворотом.
– Мама, мама, я поймал окуня! – кричит шестилетний рыбак.
– Он маленький. Отпусти его…Мальчик с сожалением разжимает в воде ладошку, смотрит, что стало с рыбкой, и снова забрасывает удочку.
Застыли на воде лодки рыболовов серьезных. Неподвижно стоят над озером облака. Оцепенели леса над гладью. Стрекоза слюдяными крыльями блестит на тростинке, взлетает, делает в воздухе круг и садится на старое место, отражаясь в воде.
– Эх, искупаться, что ли, в последний разок, – говорит шофер. И мы решаем именно так попрощаться со стариком Селигером…
Об озере много написано. Так же много, как о Байкале.
В одной книжке я подчеркнул строчку: «Осмотреть селигеровские владения не хватит никакого отпуска». Верно. Два дня же – это так, мимолетность. И все-таки в памяти что-то осталось. Так при коротком знакомстве запоминаешь лицо хорошего человека и думаешь: мы еще встретимся.

Жернова жизни

Граница между группами растительноядных и хищников – четкая. Но есть и переходы этой границы.
Лев подкараулил жирафу. Это был одинокий и старый лев. Утолив голод, он задремал и не пытался защищать остатки добычи, он просто не в силах был бы сдержать натиск всех, кто жаждал получить свой кусок мяса, и возле жирафы сейчас же началось столпотворение.
Шакалы, гиены, грифы, аисты-марабу… Часа через три, проезжая место такого пиршества, не находишь обычно даже костей.
Все сущее на земле каждый день «садится за стол»! На кругу жизни едоки делятся на три группы: вегетарианцы, хищники, падальщики. Тля тянет сок из растений, пчела и шмель обедают на цветке, буйвол и антилопа щиплют траву, бобр валит дерево, белка ищет грибы и орехи – это вегетарианцы. А вот симпатичная божья коровка. Понаблюдайте, как проворно расправляется она с тлей. Вспомним, как охотятся змеи, как ненасытно прожорлива землеройка, как алчен волк, как ловко в воздухе настигает добычу сокол. Это хищники.
Граница между группами растительноядных и хищников – четкая. Но есть и переходы этой границы. Классический хищник волк с удовольствием подбирает лесные яблоки, ест землянику. Лиса пасется на виноградниках. Ежик ловит мышей, жуков, но не побрезгует также и яблоком. С другой стороны, вегетаринка корова способна есть рыбу. Я видел сам на Камчатке: стоит корова возле вороха свежей селедки и жует, жует, как будто стоит у копны погожего сена.
Довольно часто приходится наблюдать: вегетарианцы в силу обстоятельств становятся хищниками. В Каракумском канале я ловил сазанов так же, как ловят обычно щуку, – на живца (на маленького сазанчика). Все объяснялось просто: в теплую воду канала охотно пошли косяки рыбы. Но корма в свежеотрытом канале пока еще не было, и вегетарианец сазан стал хищником. Нечто подобное в одну из зим случилось и с зайцами. В Большеземельской тундре, спасаясь от бескормицы (из-за глубоких снегов), зайцы огромными косяками двинулись к югу. «На пути голодные звери уничтожали попавших в силки куропаток». Это случаи бедствия, когда нужда, как говорят, «заставляет мышей ловить». Но есть примеры и более стойкого перехода вегетарианцев в хищники.
В Новой Зеландии мне показали горного попугая кеа. У птицы оперение более скромное, чем у других попугаев, никакой болтовни, одни лишь крик: «Кеа!» Но это была знаменитая птица. До того как в здешних местах появились белые люди со стадами овец, кеа питался фруктами, семенами и лишь в малой степени насекомыми и червями. Но постепенно он пристрастился обклевывать мясо и сало с овечьих шкур, развешанных для просушки, и пастухи дружелюбно относились к неожиданному помощнику. Но вот в стадах стали появляться больные овцы. На спинах у них по непонятной причине кровоточили раны. Хорошо приглядевшись к «болезни», пастухи обнаружили: раны наносил попугай! Кеа садился на поясницу овцы, выдергивал шерсть и выклевывал мясо до самых почек. Отчаянный бег и прыжки обезумевшей от боли овцы не мешали трапезе попугая.
Растительноядная птица сделалась хищником, способным за один день тяжело ранить больше десятка овец…
В природе есть случаи исключительной приспособленности к какой-либо пище. Птица медоуказчик, например, иногда ест воск, никакой другой организм эту пищу усвоить не может.
Есть группа всеядных животных. Например, хорошо нам известные: барсук, кабан и медведь. Медведь ходит пастись на малинники, на овсяное поле, добывает коренья, щиплет траву, ест мед, грибы и орехи. Но он же поедает и муравьев, улиток, червей, опустошает гнезда глухарок, ловит рыбу, способен задавить лося и, однажды попробовав мясо коровы, уже неотступно будет подстерегать стадо.
Человек тоже всеяден. На нашем столе пищи растительной и животной примерно поровну. В разных местах Земли у людей в отношении пищи свои вкусы, привычки и предрассудки. Они объясняются образом жизни, условиями существования, традициями. Мы, русские, например, едим много хлеба и разного рода мучных изделий. У японцев главное блюдо – рыба. Люди Севера едят сырое мясо оленей. Пастухи африканского племени масаи пьют молоко пополам с бычьей кровью. В Индокитае большое лакомство – мясо удава. Французы едят лягушек и виноградных улиток. В Китае едят змей, а в некоторых районах Африки – поджаренную саранчу… Нас может коробить одно лишь упоминание этих блюд. Но это не больше чем предрассудок. Индийца-вегетарианца, наверное, так же коробит при мысли, что где-то люди могут есть мясо…
Среди огромного мира живых существ отдельную группу составляют падальщики. Их много. Гиены, шакалы, грифы, аисты-марабу, кондоры, разного рода стервятники, сороки, вороны, жуки-могильщики, муравьи, моль и невидимые глазу микробы являются важнейшим звеном в круговороте жизни.
Животные-падальщики наших симпатий не вызывают, но это подлинные благодетели Земли. Благодаря им в биосфере поддерживается санитарный порядок.

Однажды в лесу я нечаянно переехал велосипедом ужа. Через день я увидел чистый скелет – это поработали муравьи. В жарком климате, где всякого рода отбросы могут быть источниками болезней, человек охотно терпит возле себя птиц-санитаров. В Дели я наблюдал: огромные грифы, коршуны и стервятники парят над улицами, сидят на деревьях, на крышах домов. В Африке часто у поселка встречаешь десятка два марабу. Сонно и неподвижно стоят большие птицы где-нибудь около скотобойни, cвалки. Но стоит одной из них заметить поживу, как стая приходит в движение.
Остатки мяса, шерсть, кости, кожу, рога и перья, бумагу и тряпки, растительные отбросы перемалывает природа на жерновах жизни. Сотни разных существ – от гиганта кондора до крошки моли – участвуют в этом процессе. Проблема накопления мусора на Земле сейчас во многом объясняется тем, что в отбросы идет масса веществ, искусственно созданных человеком, – например, пластик. Это природа переварить не способна. Одна только моль наряду с шерстью может есть и синтетику.
В саваннах Кении и Танзании я много раз видел пир падальщиков. В Уганде мы стали свидетелями того, как сотни две грифов делили огромную тушу мертвого бегемота.
Бегемоты чаще всего погибают от междоусобных драк. Одного израненного зверя мы наблюдали, когда он был еще жив. А через три дня издали, с лодки, увидели след жаждущих пира птиц. Бегемот, испустив дух, дня три пролежал на кромке воды, раздувшись подобно воздушному шару.
Толстая кожа его размякла, и мощные клювы грифов ее теперь пробивали. Трудно сказать, с какого пространства слетелись эти санитары саванны. Мы застали момент, когда тушу мертвого бегемота не было видно – шевелилась гора из перьев…
Чем всё кончается в таких случаях, мы видели тут, на протоке. У воды лежали очищенные, похожие на грабли ребристые скелеты бегемотов и буйволов.
Утилизация всего, что умерло, – часть жизни саванны.
Львы не очень разборчивы, они охотятся, но и падалью не побрезгуют. Гиены – типичные падальшики. Шакалы делят добычу с птицами. Для этих охотников важен тот, кто уже не прячется и не убегает. Санитарная служба в саванне налажена исключительно хорошо благодаря множеству глаз, следящих за всем, что происходит внизу, на земле.








