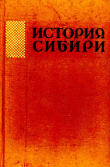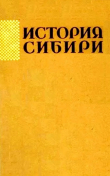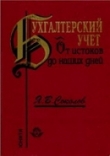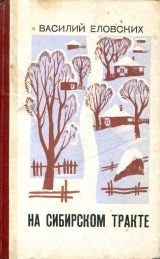
Текст книги "На Сибирском тракте"
Автор книги: Василий Еловских
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 12 страниц)
МОСТИК
Под вечер батальон прибыл в маленький дачный поселок на берегу Рижского залива. Взвод лейтенанта Турбина разместился на окраине поселка в двухэтажном кирпичном доме.
Солдаты торопливо поднимались по крутой лестнице на второй этаж. Здесь была просторная комната и широкий коридор. Хозяйка не топила печи на втором этаже, и в комнате стоял холод как на улице.
Солдаты поставили винтовки в козлы, а вещмешки положили у степ.
– Дровишек вот нету, – сказал лейтенанту Турбину его помощник старший сержант Капустин. – Где достать? Может, попросить у хозяйки?
– Зачем дрова? – удивился Турбин.
– Да печи затопить. Ноябрь ведь. Как ночью-то спать будем?
– Не нужно топить, – сухо проговорил взводный. – Через час будет тепло.
– Вы думаете, надышат?
– Нечего думать о том, о чем думать не следует. Печи не топить. Помещение проветрить. Ясно?
Резко повернувшись, Турбин прошел по коридору и стал спускаться вниз. Он был недоволен своим помощником. И не только потому, что Капустин предложил топить печи. Хотя, конечно, каждый солдат должен знать: если в небольшом, хорошо утепленном помещении размещается взвод, то вообще можно жить без печки.
Помкомвзвода больше был похож на штатского, чем на военного. Сорокадвухлетний, полный, сутулый. Гимнастерка всегда топорщится, и от этого он кажется похожим на старого взлохмаченного петуха. Голос у него с хрипотцой, будто он вчера крепко выпил, а сегодня не опохмелился. Говорит по всякому поводу много. А строевой командир, и большого ранга и маленького, по мнению Турбина, должен быть молод, правильно сложен. У настоящего строевого командира голос сильный и чистый. Он говорит коротко и ясно.
Самого Турбина в батальоне считали заправским военным. Об армии он стал мечтать еще в детстве. Воинская служба оказалась не такой романтичной, как он ожидал, но все же нравилась ему.
Когда лейтенант, красивый, подтянутый, шел по улице, девушки оглядывались на него. А он лишь слегка косил на них зеленоватые глаза под темными бровями-дугами. Полгода назад Турбин служил на Дальнем Востоке командиром взвода в офицерском училище. Он подал рапорт, а потом второй с просьбой направить его в действующую. К великому своему удивлению, лейтенант попал не на фронт, а в войска НКВД по борьбе с бандитизмом. Они всей ротой вылавливали одиноких фашистов или мелкие группы в три-пять человек, скрывающиеся в лесах. Дело это было важное, хотя и не столь уж героическое. Взвод кочевал с места на место, ночуя в городах, на хуторах, а то и просто в лесу, где крышу заменяло холодное, угрюмое небо, проколотое звездами.
Во дворе Турбин стал чистить сапоги. Он чистил их по нескольку раз в день вне зависимости от того, где находился взвод. Эта обязательность удивляла солдат, особенно тех, которые прибыли с передовой. Впрочем, во время остановок в населенных пунктах все бойцы любили почиститься. Вот и сейчас возле крыльца они драили бархатками сапоги, отряхивали шинели. Скрутив из газеты огромные цигарки, солдаты не спеша, чинно курили едкую махру. Взводный слышал грубоватые голоса и смех. На отдыхе солдаты любили пошутить; шутки у них были обычно незамысловатые: усталому человеку не хочется философствовать. Частенько вспоминали о доме. И вообще говорили все больше о чем-нибудь невоенном. Не было у солдат Турбина крепкой воинской жилки. Лейтенант прислушивался к разговорам бойцов и чувствовал, что в душе его нарастает сильная, до слез, обида. Раньше Турбин как-то не замечал всего этого. А вот вчера, устраивая взвод на ночлег в полуразвалившемся сарае, он задумался. И сегодня те же мысли надоедливо преследовали лейтенанта.
– Ребята! А вы видели, как у церкви Витюха Титов с молоденькой латышечкой перемигнулся. И тихонечко ей сказал: «Здравствуй, голуба!» А она ему: «Свейки, мой милый»[1]1
Свейки – здравствуйте (латышск.).
[Закрыть]. И ласковенько так улыбнулись друг другу. Меня даже завидки взяли. Эх, думаю, и везет человеку.
Это говорил худощавый юркий солдат с насмешливыми глазами – Саша Таковой. Он всегда над кем-нибудь подтрунивал, а если не подтрунивал, то рассказывал анекдоты. Витя Титов, толстый неуклюжий солдат, бормотал: «Когда это было, когда это было?» Витю никто не мог рассердить. В ответ на шутки и насмешки он только улыбался.
Титов и Таковой были разными по характеру людьми, но странное дело – не могли обходиться друг без друга. Куда один, туда и другой.
– Сейчас бы в лес с ружьишком, – вздохнул пожилой солдат Дьяков. – Зверь теперь сытый и птица тоже. У нас возле Тобола – благодать. Мороз за нос дергает. На снегу следов всяких полным-полно. Эх, егушкина мать!
Лейтенант резко поднял голову, хотел предупредить бойца, но передумал.
У Дьякова было древнее русское имя Аккондин. Солдаты для простоты звали его Колей. Аккондин выбивал палкой пыль из своей шинели. Лейтенант впервые увидел на его угрюмом лице улыбку. Улыбка была слабая, мимолетная и придавала лицу солдата застенчивое выражение.
– А больше всего я люблю, братцы, рыбалку.
– С удочкой? – поинтересовался Титов.
– Не. С удочкой у нас только ребятишки балуются. С неводом. Помню, в тридцать девятом я с соседом неводил и его сынишкой. Подмерзло тогда здорово. Ледок тоненький уже появился кое-где. Руки ну буквально коченели. Да и ногам жутко холодно было. Так мы, это самое, вином обогревались. Выпьешь – теплее, а через некоторое время еще пуще холодно. Снова глотнешь.
– Представляю, рыбалка была, – насмешливо протянул Таковой. – Разлюли-малина! Хоть невод-то привезли домой?
– Все привезли и пьяными не были. На Тоболе народ не такой хлипкий, как дети твоего отца.
В коридоре второго этажа, куда снова поднялся Турбин, стояла хозяйка дома, старая латышка. Старший сержант Капустин, совсем не по-военному размахивая руками, говорил ей:
– Курляндская группировка немцев для наших войск никакой опасности не представляет. Ну никакой! Оттуда немцы не посмеют и носа высунуть, не то что наступать. Мы ведем бои в самой Германии, и Германия скоро капитулирует. А с этими очень даже просто разделаемся: обведем их всех колючей проволокой и сделаем лагерь для военнопленных.
«Силен мужик», – улыбнулся Турбин и, внимательно посмотрев на хозяйку, подумал с недовольством: «Нервная сильно». Для недовольства у него имелись основательные причины.
У Турбина была слабость: он любил, до безумия любил подавать команды. Лейтенант втайне любовался своим сильным, немного резковатым голосом. Тренировать голос он начал еще в училище. По вечерам в своей холостяцкой комнате Турбин сам себе подавал команды: «Равняясь! Отставить! Рравняйсь! Смирно! Направо! Шагом арш! На ру-ку!» В распоряжении офицера много всяких команд, и лейтенант считал, что каждая из них требует постоянной шлифовки. Обычную команду «На руку!» можно подать по-разному. Многие офицеры, особенно прибывшие из запаса, выкрикивают ее как попало, безо всякого подъема, будто дают распоряжение поднять бревно. У Турбина она звучит по-особому. «Нару» он произносит одновременно, причем «ру» протяжно, а «на» – обрывисто. После секундного перерыва он рубит резко и властно, с коротким выдохом – «ку!». Или возьмем простое слово – «Направо!». В этом слове первая буква «а» у него слышится неясно, что-то среднее между «а» и «э», а вторая растягивается настороженно и предупреждающе. И опять очень громко и коротко, как вскрик, раздается последний слог «во!».
Турбин продолжал тренироваться и в Латвии. Три дня назад в тихом латышском хуторе он до смерти напугал глуховатую старуху хозяйку. Она подумала, что на хутор наступают фашисты. «Это учеба, бабуся», – попытался успокоить старуху Турбин, но она все сутки, до той поры, пока взвод не ушел с хутора, сердито посматривала на лейтенанта.
«Эту, пожалуй, предупредить надо, – подумал Турбин. – А строевым шагом пока можно и не заниматься». В свободное время лейтенант отрабатывал еще и строевой шаг. Солдаты с любопытством, в общем-то одобрительно посматривали на шагистику взводного. Но его громогласные команды почему-то вызывали у них иронические улыбки и возгласы «Вот дает!».
Турбин с удовлетворением заметил, что в комнате стало теплее. Три солдата сидели на полу и писали письма. Один, примостившись на подоконнике, брился, делая страшное лицо и тихонько охая. Другие разговаривали, перебирали содержимое вещмешков. У каждого было свое дело.
Маленький солдатик по фамилии Задира лежал с закрытыми глазами, опершись плечами о вещмешок и головой о стену. Задира был на удивление сонливый. Где бы ни останавливалась рота, он сразу же ложился или садился и погружался в дрему. К своему счастью, Задира никогда не храпел, и трудно было понять, спит он или бодрствует. Но когда на привалах громко кричали «Подымайсь!» или окликали Задиру, он вздрагивал, и по этому вздрагиванию все определяли, что Задира спал.
– Разбудить Задиру, – сказал Турбин Капустину. – Почему у него грязные сапоги? Немедленно почистить.
Два солдата опередили старшего сержанта и, подскочив к Задире, крикнули:
– Задира, пожар!
– Тревога!
Задира вскочил, ошалело заморгал глазами и стал сморкаться. Турбин на ходу отдавал приказания – кому почистить сапоги, кому побриться. Отозвал в сторону командира первого отделения и дал ему нагоняй за то, что у бойцов грязные подворотнички.
– Товарищ лейтенант! – услышал он громкий голос связного. – Вас вызывает командир роты.
– Всем привести себя в порядок! – на ходу отдал команду Турбин.
Как он и предполагал, остановка была временной. Роте предстояло пройти еще одиннадцать километров и остановиться на ночлег в городе Слока.
А солдаты уже готовились к отбою. Они раздобыли где-то старой соломы, которая воняла гнилью, разбросали ее по полу и сверху покрыли плащ-палатками. У изголовий положили вещмешки: постель была готова.
Турбин приказал Капустину выстроить взвод во дворе. Солдаты быстро выскакивали из дому: можно было подумать, что они только и ждали команды на построение.
Взвод Турбина выстраивался быстрее других в роте. Лишь Дьяков частенько запаздывал и, подбегая к строю мелкой рысью, поправлял гимнастерку и подтягивал штаны. Сейчас его не было видно. Не было и еще многих солдат. В доме стояла тишина.
– Где люди? – спросил Турбин у Капустина.
– Через минуту прибудут. – Лицо помощника командира взвода было встревоженным.
– Я спрашиваю, где солдаты?
– Недалеко тут… Вон там, – Капустин показал на море. – Мостик достраивают, верней, достраивали.
– Чего? – сурово переспросил Турбин, хотя ясно расслышал слова, произнесенные Капустиным.
– Да это Дьяков все… Пошел он с солдатами море смотреть. А посмотреть море больше всего захотел Таковой. Вы же знаете, какой он?
– Короче! – сверкая глазами, крикнул Турбин.
Капустин пошлепал губами и выпалил:
– Сейчас прибегут. Там вон, у моря, овражек есть, узкий и глубокий. Так Дьяков сказал, что он за полчаса сделает мосток через этот овражек. Чтоб, значит, не обходить его. Мы же ведь думали, долго тут будем. Хозяйка обрадовалась и дала старых досок и бревнышко. За Дьяковым пошли Таковой с Титовым. Ну и другие. Восемь человек в общем. Я послал за ними.
– Вы, конечно, знаете, что мы служим в особых войсках – оперативных?..
– Виноват, товарищ лейтенант. Дьяков пристал как банный лист: отпусти да отпусти. Он ведь и дня не может, чтоб не построгать да не попилить, шут его дери. Я думал, они до вашего прихода успеют. Между прочим, Дьяков-то, говорят, даже мебель для музея реставрировал.
– Э-э, завел шарманку, – вконец рассердился взводный. – Идите за ними, и чтобы через две минуты все были в строю!
Где-то залаяла собака. Слышалось сопение бойцов и удары сапог о мерзлую землю. «А все же какая размазня этот Капустин», – подумал Турбин.
– Где Задира?
– Ушел с Дьяковым, товарищ лейтенант, – ответил командир первого отделения.
Турбин удивленно хмыкнул.
Переминаясь с ноги на ногу, солдаты перешептывались в строю:
– Эх, в баньку бы счас теплую, попариться.
– А потом к Маше под бачок.
– У голодной куме одно на уме.
Во двор по одному вбегали бойцы-строители.
Таковой втиснулся в строй и сказал соседу:
– Навели переправу. Только гвозди кое-где не успели вбить. – Он усмехнулся. – Пьяный не ходи – качается, как на волнах.
«Качается»… Турбин вдруг вспомнил, что в поселке, где он рос, тоже был жиденький мостик. Через ручей. По нему хорошо было бегать босому. Мать боялась, что он свалится и убьется. А он не боялся и бегал. Турбин вздохнул.
Все солдаты стояли в строю. Уже темнело. На небе мигали звезды. Разрывая вечернюю тишину, раздалась команда:
– Рравняйсь! Смирно! Отставить! Смирно!
И словно в насмешку, с соседнего квартала донесся басок:
– Микита, ножичек давай, едят тебя мухи.
Там устраивались на ночлег пехотинцы.
ТАЙНИКИ АРХИВНЫЕ
– Вот, Михаил Яковлевич, – пробормотала девушка-архивариус, торопливо положив на стол кипу помятых, старых бумаг, называемую по-научному «единицей хранения», а попроще – архивным делом.
– Да кладите вы потише, – поморщился Ушаков. – Не видите, сколько в них пыли.
Пыли в единицах хранения и в самом деле было страшно много. Ушаков не мог понять, откуда она, эта пыль, берется. В хранилищах чистый воздух, шумит вентилятор, и днем и ночью проветривая помещение. Архивные дела уложены в картонные коробки. А на́ ж тебе: возьмешь дело, пролежавшее годков этак тридцать-сорок, тряхнешь его и закашляешь.
Некоторые от пыли чихают. Есть люди, которые никак не реагируют на пыль. А Михаила Яковлевича одолевает кашель. С утра еще ничего, а ближе к обеду появляется неприятное ощущение в горле, будто оно заболело или что-то в него попало, и хочется без конца откашливаться.
На столе рядом с архивными бумагами лежит заявление Никулина Дмитрия Никитича, по архивной терминологии – «запрос». Оный Никулин хочет получить справку, что он работал когда-то председателем колхоза. Желание понятное: человеку шестьдесят лет и пора уходить на пенсию.
Но бедный старик, конечно, не подозревал, как трудно найти документы о нем. На бюро райкома партии его не утверждали – в тридцатых годах такое бывало. В протоколах бюро ничего не было и об освобождении Никулина от председательства. И вообще председатель колхоза Никулин не попадался в протоколах. Значит, средненько робил Дмитрий Никитич: хороших председателей тогда, как и сейчас, отмечали, а плохих наказывали.
Никулин к тому же беспартийный. На коммунистов «заведены личные дела», и по ним легко «наводить справки». Ушаков на всякий случай просмотрел описи единиц хранения и нашел личное дело Никулина Дмитрия Николаевича. Не он ли? Не сходится только отчество, да и то три первых буквы одинаковы.
И вот оно, это личное дело. Михаил Яковлевич поспешно перелистал страницы. Не тот. Как досадно.
Он встал, распахнул окно, выходившее на север. Сколько солнца на улице, там, где кончается тень от громадного здания обкома! Там тепло, даже жарко. А тут, в кабинете, всегда прохладно и темновато. Кажется, в солнечные дни даже темнее, чем в пасмурные. Так оно, собственно, и водится в архивах: где вечно хранятся бумаги, не должно быть солнца и жары. Архивные документы не живые существа, им солнце и жара противопоказаны.
Еще совсем недавно, четыре месяца назад, Ушаков был городским военным комиссаром. Работенка, что и говорить, беспокойная, не для старого человека. Ушел в отставку. Полежал на диване месяц, а больше терпения не хватило. Было неприятнейшее состояние – будто ты стал совсем никому не нужным, бесполезным человеком.
Пошел в обком партии. Предложили должность заведующего партийным архивом. Он никогда не думал, что с архивом так много всякой возни, и шутил про себя: «Работа пыльная, но не денежная».
Сев за стол, Михаил Яковлевич еще раз, не зная зачем, скорее из пустого любопытства, стал просматривать личное дело Никулина Дмитрия Николаевича. Дело было большое: листок по учету кадров, автобиография, выписки из решений бюро райкома партии, характеристики. Никулин родился в деревне Кутыревка. До тридцатого года работал «в хозяйстве отца». С тридцатого по тридцать четвертый – «зав. складом Карелинского шпалозавода».
«От коммуны-то увильнул, – вдруг с неприязнью подумал Михаил Яковлевич. – А может, какие-то причины были, основательные».
– Антонина Филимоновна, – позвал он хранителя фондов, пожилую женщину, весь век проработавшую в райкомах, в отделе парторганов обкома партии и перед самой пенсией перебравшуюся в архив. – У меня вопрос к вам. Вы бывали в Больше-Морозовском районе? Не помните, Карелинский шпалозавод в Кутыревке находится или где?
– Да что вы! – удивилась женщина. – Карелинский шпалозавод находится, конечно, в селе Карелино.
– Так. А сколько километров от Кутыревки до Карелина?
– От Кутыревки до Карелина? Что-то такое… Что-то такое в пределах шести, может, семи километров.
– А не меньше?
– Да ну что вы! Я там проезжала на машине не раз. Расстояние довольно-таки порядочное. Шесть-семь…
«Бедняга, – снова подумал Михаил Яковлевич, уже с некоторой иронией. – Каждый день вкалывал километров двенадцать-четырнадцать».
В тридцать четвертом Никулин перевелся в колхоз бригадиром и с той поры стал вдруг стремительно продвигаться по службе. Заместитель председателя, потом председатель колхоза, заведующий райземотделом и, наконец, с апреля сорокового года председатель райисполкома. Избрали его членом бюро райкома партии, депутатом областного Совета.
«А чего? Способный мужик, попробуй-ка так быстро», – разговаривал сам с собой Михаил Яковлевич.
И вот выписка из решения бюро райкома с печатью и подписью – все чин чином: «Тов. Никулина Д. Н. освободить от занимаемой должности в связи с плохим состоянием здоровья». Когда это было? Двадцать восьмого сентября сорок первого года. Война. Так! Куда же он подался? В личном листке написано размашисто: «Больше-Морозовское сельпо. Завмаг».
«Ничего, тепленькое местечко. Хлебное. Спокойное и тепленькое».
Заведующий архивом рассматривал дело совсем ему незнакомого человека со все возрастающим интересом и сам удивлялся этому.
С ноября сорок четвертого года Никулин снова полез вверх: его назначили председателем правления райпотребсоюза, а после войны он перебрался в райисполком на должность заместителя председателя.
«Трудненько было в те дни-то – голод и всякое такое, а ведь не побоялся, хотя и больной», – посочувствовал Михаил Яковлевич.
В «списке руководящих партийных и советских работников области» Никулина не было. Может, на пенсии? Какого же он года рождения? Тысяча девятьсот девятого. Рановато еще.
– Антонина Филимоновна, – позвал Ушаков. – Вы в хранилище? Принесите-ка мне… Больше-Морозовский райком, коробка седьмая, дело восемнадцатое.
– А что вы ищете?
– Да так… надо.
– Но все же?
Она спрашивала из другой комнаты, вполголоса. Он смолчал, будто не расслышал. А хотелось ему посмотреть «персональное дело» Старцева, того самого, которого Никулин заменил на посту председателя правления райпотребсоюза. В характеристике на Никулина Михаил Яковлевич уловил такую фразу: «Помог вскрыть недостатки в работе райпотребсоюза…»
Дело Старцева Михаил Яковлевич просматривал с каким-то лихорадочным нетерпением, чувствуя одновременно и некоторую неловкость: «Столько работы и без этого…»
Старцева исключили из партии и отдали под суд, хотя, судя по документам, не посадили в тюрьму. В деле подшиты протоколы допроса, решение суда, разные справки, докладные и… письмо Никулина первому секретарю райкома партии. Разборчиво, этаким ровненьким, экономным почерком Никулин исписал шесть с половиной тетрадных листов. И все факты, факты. Тогда-то и и там-то Старцев кутил с подчиненными, тому-то и тому-то по его запискам «выдавали непосредственно с базы» крупу и муку. Писал о растратах, о всяких беспорядках в конторе райпотребсоюза и магазинах, указывая фамилии, дни и даже часы.
В конце письма «на основе вышеизложенного» Никулин обвинял Старцева в антисоветской деятельности.
«Не слишком ли? – мысленно возразил ему Ушаков. – А сам-то, сукин сын, чего в кусты прятался, пережидал?»
Ушакову не нравилось, что Никулин подкапливал фактики до поры до времени, видимо записывал их где-то, собираясь бить неожиданно и наповал.
В деле было еще одно заявление, так… пустяковое: кому-то нагрубил Старцев «без серьезной причины», как писал жалобщик. Это заявление никак не повлияло на удьбу Старцева.
– Тэк, тэк! – пробормотал Ушаков.
– Что вы, Михаил Яковлевич? – спросила хранитель фондов.
– Нет, ничего. Скажите девушкам, чтобы отнесли это дело в хранилище.
Сеять на другой год начали поздно – весна задержалась. Потом вдруг наступила жара, дожди не выпадали, и с севом приходилось поторапливаться. Ушаков приехал из района, куда его посылали на посевную, страшно уставший. Думал, передохнет в своей архивной келье, но хранитель фондов тут же сообщила ему неприятные новости:
– Михаил Яковлевич, что же это такое? Ни один райком комсомола до сих пор еще не сдал архивные материалы. А почти полгода прошло. На днях из Романова приехал Анищенко. Он говорит, что там в райкоме комсомола сожгли финансовые документы за два года. Начисто все.
– Как они смели?! – возмутился Ушаков. Надо было снова выезжать. Романовский район – северный, до него больше трехсот километров. Тракт сквернейший, и в дождь он сразу превращается в болото – ни пройти, ни проехать. Туда не пошлешь женщину, а во всем партархиве Ушаков единственный мужик. Бойкие хлопцы из Романовского райкома комсомола, кажется, решили порядком-таки позлить заведующего архивом. Много старых документов с пометкой «секретно» Михаил Яковлевич нашел в шкафу, который стоял в коридоре открытым. Все протоколы пленумов за пятьдесят девятый год куда-то исчезли. Ведомости по зарплате эти весьма симпатичные с виду головотяпы зачем-то сожгли и даже не составили акта.
С офицерской аккуратностью Ушаков все просмотрел и записал, высказал кратко и категорично свои замечания секретарю райкома комсомола и зашел к секретарю райкома партии Демченко. – надо было сообщить и тому.
Демченко сидел за столом; выражение пухловатого лица его было такое, будто он хотел вскочить и громить кого-то. Возле стоял белобрысый парень с блокнотом.
– Сейчас, товарищ Ушаков, мы закончим, – сказал секретарь, вздохнув и устало потерев лоб.
Михаил Яковлевич подошел к окну. Отсюда было видно все село. Веселые ровненькие домики лезли с низины на возвышенность, и не верилось как-то, что это стариннейшее сибирское село, что здесь проезжал Ермак и потонул поблизости в водах Иртыша.
– Слушай, Бородулин, а ты внимательно проверял? – спросил Демченко громким, но довольно спокойным голосом, как-то не вязавшимся с выражением его лица. – Что ты мне волынку тянешь, говоришь в общем и целом?
– Да как же, Сергей Иванович. Внимательно, конечно.
– Ну?!
– Секретаря парторганизации у них сейчас нету. Была секретарем телефонистка одна, тонкая, длиннющая такая. Помните? Она уволилась. Сейчас там заправляет старший бухгалтер Вьюшков, временно пока. Я беседовал с ним. Он утверждает, что Копыльцов до невероятности тяжелый человек: грубит, пререкается, беспорядки всякие вносит. А сам начальник конторы связи Никулин очень недоволен не только поведением Копыльцова, но и работой его. Главным образом работой. Репродукторы, говорит, хрипят.
– А где его, хрипа-то, не бывает? – прервал Демченко Бородулина. – И в городе репродукторы немного хрипят. Если подходить вполне объективно, то надо сказать, что нынче радио работает лучше, чем оно работало в прошлом году, когда не было Копыльцова.
– Да, пожалуй.
– Ну вот. Дальше давай…
– Никулин говорил не только об этом. У него расписано, когда и на сколько минут Копыльцов запаздывал на работу, – было таких случая два или три, – где и когда пировал Копыльцов. Девушку одну на почте Копыльцов недоделанной обозвал…
Михаил Яковлевич стремительно обернулся:
– Скажите, Никулин этот не работал ли в Больше-Морозовском райисполкоме?
– Да. Заместителем председателя, – ответил Демченко. – А к нам он был переведен председателем райисполкома. Лет семь назад попросился начальником конторы связи – по возрасту. Знакомый?
– Да нет. А скажите, как у него со здоровьем?
– А чего со здоровьем? Известно, какое здоровье у людей, которым не так уж много осталось до пенсии.
– Но в годы войны он, по-моему, прибаливал.
– Не слыхал. – Демченко повернулся к Бородулину. – Копыльцов что говорит?
– Да то же самое, что и в заявлении, которое он послал нам. Говорит, что Никулин, когда вздумает, берет автомашину для домашности и деньги не платит. Проводка испортилась в квартире – монтера посылает и велит ему всякую другую работу отставить. И газеты, дескать, домой утаскивает. А вообще-то ничего особенного этот Копыльцов не сообщил. Знаете, Сергей Иванович, мне кажется, он из тех, кто критикой любит заниматься и за критикой бездеятельность свою скрывает. Так или иначе, а его надо куда-то переводить.
– С кем еще беседовал?
– С монтером одним, членом партии. Устюгов фамилия. Ну, этот отнекивается: ничего, дескать, не знаю, все время на линии.
– Еще с кем?
– Ни с кем. Не успел больше.
– Послушайте, товарищ Бородулин, – начал каким-то не своим, очень медленным и неприветливым, голосом секретарь райкома, – вы же ничего толком не выяснили. А ведь вы инструктор райкома.
– Да как же не выяснил, Сергей Иванович? – Лицо у Бородулина болезненно сморщилось. – Все же ясно. У Никулина – недостатки, но он же ничего преступного не делал.
– «Преступного, преступного». Ведь не одним уголовным кодексом определяется поведение человека. Вам и самому-то не все ясно, согласитесь. Как Копыльцов смотрит на перевод?
– Согласен. Охотно идет. На шпалозавод его можно послать, на радиоузел. Там свободное место.
– Ладно, иди.
Когда дверь за Бородулиным закрылась, Демченко сказал:
– Всех способных ребят взяли в колхозно-совхозное управление. Остались вот…
– Знаете что?.. А мне думается, что больше виновен начальник конторы связи, – начал напрямик Михаил Яковлевич. – Надо бы основательно разобраться во всей этой истории.
– Гм. А почему вы так думаете?
– Ну, мне почему-то так кажется. – Ушаков не решался сказать обо всем откровенно, он боялся показаться слишком уж подозрительным, а такие люди всегда были неприятны ему самому. Если бы Сергей Иванович побольше располагал к себе…
Секретарь райкома, видимо, колебался.
– Я, откровенно говоря, думал проверить связь немного попозже, сейчас не до того. Но, может быть, действительно лучше сейчас?
Вечером, когда Ушаков, поужинав, пришел в дом заезжих и прилег на койку, ему позвонила из города Антонина Филимоновна и сказала, чтобы он немедля выезжал обратно – этого требует секретарь обкома партии Ларионов.
– Да на чем же? – удивился Михаил Яковлевич. – Автобус-то ходит только раз в сутки. По утрам.
– Ну, тогда утром.
Но утром он не выехал, как-то уж так получилось. Зашел к Демченко, а того не было больше часа. Потом они сидели на диванчике в кабинете и разговаривали. Демченко сказал, что послал в связь толкового партийного работника и, кроме того, велел финансистам провести там ревизию.
Ушаков немного опоздал на автобус. Выехать ему удалось только ночью, почти что следующим утром, на «газике», отвозившем начальника милиции на какое-то областное совещание. Дорогой их хватил дождина, да здорово крепкий, раза три или четыре они застревали в грязи и ехали вместо десяти-одиннадцати часов, как обычно ездят, часов шестнадцать.
Секретарь обкома Ларионов, оказывается, еще накануне вылетел в Москву. Ему нужны были кое-какие архивные сведения к Пленуму ЦК партии. Хранитель фондов и научный сотрудник дали ему эти сведения, но Ларионов, говорят, все же долго ворчал на Ушакова.
У Михаила Яковлевича стало погано на душе. Он почему-то думал, что у Ларионова какая-нибудь пустяковая просьба, когда можно и повременить денек – ничего не случится.
Через неделю примерно позвонил Демченко:
– Михаил Яковлевич? Здравствуйте, Михаил Яковлевич!
Голос у Сергея Ивановича был сегодня совсем другой – вежливый чрезмерно и, пожалуй, немножко виноватый. Ушаков уже хотел спросить, как идет проверка в связи, но секретарь райкома опередил его:
– Со связью мы разобрались. Окончательно. Дело вырисовывается так. Начальник конторы связи – человек не совсем чистоплотный. Ничего подсудного он, положим, не сделал, это правильно, а если разобраться поглубже – порядочный-таки пакостник. Развел семейственность. Кто не поддерживает его – критикует или еще чего, – полегоньку да потихоньку избавляется от таких. А ходов-то ведь много: одного можно просто уволить, если есть какая-либо причина, другого на учебу послать, а третьего, мотивируя интересами дела, перевести куда-нибудь к черту на кулички. И вместо них посадить дружков да подхалимов. Так оно и было. Вьюшкова, например, бухгалтера, он всюду за собой таскает. Вьюшков горой за Никулина, Никулин горой за Вьюшкова. Славно дело идет! На контору смотрели, как на свое личное хозяйство. Где можно – тянули. Бородулин кое-что рассказывал прошлый раз. Даже до чего дело дошло: газеты и журналы выписывают за счет конторы, а после работы домой их уносят. Там мы совсем грязненькое дельце вскрыли. Бабенку одну Никулин-то шантажировал.
– Чего-чего? – не понял Михаил Яковлевич.
– М-м, – замычал в трубку Демченко. – В общем, с телеграфисткой жил он. Но главная-то беда не в этом. Как выяснилось, запугивал он ее. Работала она неважненько, он и запугивал ее помаленьку. Понял? А Копыльцов, тот критиковал. Но беда его – порою невыдержан, а те хватались за это. Но в принципе прав, конечно, Копыльцов. Все поставим на свое место. – Секретарь райкома засмеялся. – Что любопытно: скромненький с виду такой этот Никулин, гладенький, черт его дери, голоса не повысит. И с планом ведь нормально шло. Негодяи часто работают хорошо. Не замечали?
Секретарь обкома что-то долго задерживался в Москве, и Михаил Яковлевич стал забывать о своей поездке в Романовский район и о всей этой истории. Приехал Ларионов уже перед самым октябрьским праздником, в шумную, беспокойную пору. Ушаков и думать не думал, что он его вызовет. Но тот вызвал.
– Садитесь. – Ларионов глядел на заведующего архивом не мигая и молчал, будто старался и никак не мог припомнить, кто же пришел к нему. – Так! Почему вы не приехали из Романово тогда, когда я вас вызывал?
– Да тут история одна выплыла, Петр Никитич.
– «Выплыла»? Какая же?..
Михаил Яковлевич уловил иронию в голосе Ларионова. И он запнулся.
– Ну, рассказывайте, рассказывайте, чего же вы! Подполковник должен быть быстр и точен в ответах.
Ушаков начал с того прошлогоднего дня, когда ему случайно попалось дело Никулина.
Секретарь обкома снова молчал и глядел. Но уже по-другому глядел – весело, приподняв брови.