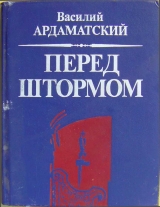
Текст книги "Перед штормом"
Автор книги: Василий Ардаматский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 16 страниц)
В конце концов Кузин успокоился и подтвердил мне своё обещание не отступать от принятого сообща решения».
Утром все встретились в нервном настроении, но, видимо, никто не отказался от вчерашнего решения.
Приехал Гапон и, войдя в комнату, сразу почуял что-то неладное.
– Ну как, товарищи, хорошо ли отдохнули? – спросил он с кривой улыбкой.
Никто не ответил. Гапон прошёлся по комнате, бросая косые взгляды то на того, то на другого. Томительное молчание продолжалось.
Вдруг Гапон круто повернулся к Поссе, хлопнул его по плечу и проговорил искусственно-весёлым тоном:
– Славный вы малый, Владимир Александрович, люблю я вас.
Тогда встал со своего места Петров и, грубо пихнув Гапона, сурово сказал:
– Перестань лицемерить. Никого ты не любишь!
– Что с тобой, Петров? Какая муха тебя укусила, или финской водки спозаранку хватил?
– Никакая муха меня не кусала, и ничего я по хватал.
«Ну, начинается», – подумал Поссе.
Но Петров молчал, молчали и другие.
Кузин семенил на месте, порываясь подойти к Гапону. Тот же нервно ходил из угла в угол и старался улыбнуться, но вместо улыбки выходила злая гримаса. В этот момент гостеприимная хозяйка приотворила дверь и приветливо пригласила в столовую позавтракать.
Все облегчённо вздохнули и шумно поднялись со своих мест.
Завтракали, перекидываясь ничего не значащими фразами. После завтрака Гапон, овладев собой, как ни в чём не бывало стал излагать план революционного издательства, и в частности рабочей газеты, редактировать которую предлагал Поссе.
– Ехать сейчас в Петербург, пожалуй, и рискованно, – говорил он, – надо ознакомить рабочих с нашими взглядами. Вернёмся с вами, Владимир Александрович, в Женеву, наладим газету, напечатаем листовок, двинем всё это в Россию, зёрна падут на благоприятную почву. Много передумал я за это время и согласен с вами, что рабочий может победить только всеобщей забастовкой. Денег у нас будет много. Печатать будем сотни тысяч…
– Нет, Георгий Аполлонович, – покачал головой Поссе, – никуда я с вами не поеду и ничего издавать не буду. И не говорите мне о ваших деньгах. Мне и то страшно, что я пользовался ими в эту поездку. Жгут руки почему-то ваши деньги. Не знаешь, откуда они идут. Вы постоянно говорите о своём сочувствии моим взглядам, но не верю я этому, не верю вам вообще. Противны ваши подзуживания убить то Витте, то Трепова, противна комедия с транспортом оружия, которого некому принимать, противно выставление себя вождём русского народа, всё противно. Долго я крепился, молчал, на что-то надеялся, но больше не могу. То же вам скажут и другие товарищи.
Гапон позеленел, но не прерывал его, даже вполголоса как бы поддакивал:
– Вот как? Так, так, хорошо. Вот вы каков! Теперь я понял вас. Вот вы каков! Так, так.
Высказавшись, Поссе обратился к Петрову, Кузину и Михаилу, прося у них поддержки. Однако его ждала неожиданность:
«К моему изумлению, у Михаила и Петрова лица были недовольные, натянутые, а Кузин весь съёжился. Все молчали.
– Так вам нечего сказать?
Молчание.
Я встал и вышел в другую комнату, сильно взволнованный.
Через несколько минут туда вошла Лариса Петровна, на глазах которой произошло моё столкновение с Гапоном.
Я сидел у стола, положив голову на согнутую руку. При её входе я не пошевелился. Она подошла близко ко мне и несколько минут молча смотрела на меня, смотрела печально, но без злобы, почти ласково. Затем она заговорила каким-то новым для неё голосом, – мягким, нежным.
– Милый, хороший Владимир Александрович. Помиритесь с ним. Умоляю вас, помиритесь. Сделайте это во имя революции. Он нужен революции. Вы его неверно понимаете. Он нужен, нужен…
Я молчал.
– Хороший мой, я вас ценю, уважаю, я вас люблю. Сделайте это для меня. Поезжайте с ним в Женеву, не хотите в Женеву – поезжайте в Россию. Если вы отвернётесь, он погибнет. Это хорошо, хорошо, что вы высказали всё, что было у вас на душе. И ему хорошо, что он всё это выслушал. Вы без него и он без вас – ничто. Вместе вы – сила.
– Нет, Лариса Петровна, не уговаривайте меня. Я не ссорился. Но работать вместе с Георгием Аполлоновичем я не могу.

Я хотел встать и уйти.
– Умоляю вас. Видите, я унижаюсь перед вами.
Она склонилась и, положив голову Мне на колени, беззвучно плакала, подёргиваясь плечами.
В тайниках моей души мелькнула злая мысль – мысль, как я думаю теперь, неверная: она притворяется, она ловит меня, она подослана Гапоном как средство, оправдываемое целью.
И как будто эта мысль передалась ей. Она медленно поднялась и, не взглянув на меня, вышла из комнаты.
Я тоже вышел. В одной из соседних комнат я увидел Михаила и Петрова, оживлённо разговаривающих. Кузин егозил около них.
Михаил набросился на меня.
– Разве можно так? Вы нас всех погубите. Мы в его руках. Он донесёт, и нас арестуют.
– Но мы же уговорились всё ему сказать.
– Совсем не так мы уговорились. Вы вечно увлекаетесь, для вас дело в эффекте.
– Да, вы не правы, товарищ, – напал на меня и Петров. – Куда мы теперь без него денемся? Денег ни у кого из нас нет даже на дорогу. Я нелегальный. Семья жила только его пособием. Надо было дать ему высказаться, а вы всё вывалили, он же отмалчивался и прав оказался.
– Они этого не оставят, – уныло бормотал Кузин, – они беспременно отомстят.
– Что же теперь делать? – спросил я, совершенно ошарашенный.
– Примириться, а затем пригласить его покататься на лодке и вышвырнуть за борт, – решил Михаил.
Но это предложение не встретило сочувствия. Согласились на том, что я «замажу» своё выступление, дам возможность «спокойно» уехать Михаилу, Петрову и Кузи-ну, переправлю при помощи финляндцев Гапона обратно за границу, а сам поеду в Петербург, чтобы откровенно рассказать о всём происшедшем Карелину, Варнашеву и другим верным людям.
Скверно было у меня на душе, когда я пошёл к Гапону, сидевшему в столовой вместе с Ларисой Петровной.
– Георгии Аполлонович, – начал я деревянным голосом, – товарищи указали мне, что я в горячности наговорил вам много лишнего. Они думают, что недоразумения рассеются, когда мы начнём работать, и я готов попытаться. Поедемте за границу, а там видно будет.
– Вот и хорошо, – сказал Гапон безучастным голосом, протягивая мне руку. Видимо, он не совсем доверял моему обещанию работать вместе.
Перетолковав с финляндцами, мы решили, что Михаил, Кузин и Петров немедленно уедут в Петербург, я поеду в Або и при посредстве госпожи Реймс устрою безопасный переезд в Швецию для себя и для Гапона, который в Гельсингфорсе будет ожидать моей телеграммы…»
Больше Поссе Гапона не видел, но он действительно уехал за границу.
VI

В ноябре 1905 года, вскоре после обнародования царского манифеста и амнистии, Рутенберг встретился с Гапоном в Петербурге. В это же время там находился и Владимир Ильич Ленин. Он жил на конспиративных квартирах, выступал перед студентами, встречался с боевыми товарищами по партии, вместе с ними посетил могилы жертв «Кровавого воскресенья» и, глядя на них, сказал задумчиво: «Эта кровь обязывает». Ленин пристально вглядывался в суровое лицо рабочего Петербурга, не обманываясь поспешными надеждами по поводу манифеста.
Сразу после объявления манифеста английская газета «Таймс» вынесла на первую страницу заголовок: «Самодержавие перестало существовать». Ленин же по поводу манифеста писал, что «уступка царя есть действительно величайшая победа революции, но эта победа далеко ещё не решает судьбы всего дела свободы… Самодержавие вовсе ещё не перестало существовать. Оно только отступило… собирает ещё свои силы, и революционному пароду остаётся решить много серьёзнейших боевых задач, чтобы довести революцию до действительной и полной победы».
Итак, 17 октября был обнародован манифест Николая II, даровавший народу пять свобод (совести, печати, слова, собраний и союзов). Ликование, однако, длилось недолго, ибо манифест оказался филькиной грамотой. Дарованные свободы были тут же отняты.
Вечером того самого дня, когда царь подписал манифест, войска оцепили здание петербургского Технологического института, где происходил митинг, и обстреляли его. Когда стрельба прекратилась, к зданию приблизилась мирная демонстрация с красными флагами. Войска разогнали её. Сюда подоспел гвардейский эскадрон под командованием корнета Фролова. Фролов обнажил шашку и бросился на демонстрантов, его шашкой были поранены многие студенты и рабочие. Вот вам и свобода собраний!
В сатирическом журнале «Волшебный фонарь» (№ 1 за 1906 год) появилось стихотворение без подписи «Пять и одна»:
Пять свобод нам обещали,
И хоть мы их не видали,
Но подумай, о народ.
Целых пять ведь их – свобод.
А народ затылок чешет,
Молвя: пять меня не тешат,
Лучше б дали мне, народу,
Просто-напросто свободу.
Журнал «Стрелы» (ноябрь 1905 года) напечатал стихотворение «Мы свободны»:
Мы свободны! Жизнь прекрасна.
Братства, равенства поборник
Путь свершает безопасно,—
Если дремлет старший дворник.
Мы свободны! Силу, крылья
Нам дала свобода слова…
Не боимся мы насилья —
Если нет городового.
Мы свободны. Прочь, невзгода,
Дождались зари желанной…
На Руси царит свобода —
Под усиленной охраной.
Мы свободны! Мощь народа,
Разум, сердце – всё в движеньи
На Руси царит свобода —
На военном положеньи.
Мы свободны. Мы, как дети,
С тёплой верой вдаль взглянули.
А вокруг – казаки, плети,
Льётся кровь и вьются пули.
Между прочим, появились сатирические стихи и о Гапоне. В журнале «Бурелом» № 2 (март 1906 года) читаем стихотворение «Гапон», подписанное буквой «Ы» (М. Пустынин):
Я встретил в рясе раз его,
Вперёд толпы он смело лез,
Но сам не сделал ничего,
Как жалкий трус, от всех исчез.
Теперь явился он опять
И просит общего суда,
Ужели вновь войдёт он вспять,
Чтоб не вернуться никогда?
А в журнале «Булат» (№ 1 за 1906 год) напечатано стихотворение Ил. Василевского (Не буква) «Суд над Гапоном»:

I
Я роль громадную сыграл?
Сыграл!
Под пули грудь я подставлял?
Подставлял!
Меня героем мир назвал?
Назвал!
На бой с насилием я звал?
Звал!
Своею жизнью рисковал?
Рисковал!
II
Ты Витте тайно посещал?
Посещал.
И у него ты денег взял?
Взял.
В охранке по «делам» бывал?
Бывал.
И с митингов в сыскное забегал?
Забегал.
Ты у рабочих деньги крал?
Крал.
Ты, значит, братьев предавал?
От них скрывая правду, врал?
Врал.
Себя навек ты запятнал?
Запятнал.
Следующие номера журналов, где появились эти стихи, в большинстве случаев уже не выходили. Журналы были прикрыты цензурой…
Меж тем Гапон после триумфального пребывания в Европе вернулся в Россию – продолжать и завершать революцию. Он обещал это всей Европе, и там нашлось немало слепцов, поверивших ему, хотя нельзя было придумать большего абсурда, как посчитать Гапона способным на это. Ещё его путь в Россию сопровождался чудовищной ложью. Чего стоила одна тёмная история с пароходом, вёзшим оружие для революции, которого никто, кроме полиции, не увидел! А его политическая клоунада перед питерскими рабочими, своими недавними единомышленниками, которые, ещё веря ему, выехали навстречу, чтобы выслушать его речь без единого слова правды, и, убедившись в этом, предпочли не связываться с ним и вернулись в Петербург…
Эта встреча Гапона с Рутенбергом произошла вроде бы случайно. Из газет Рутенберг узнал об открытии Петербургского Совета рабочих депутатов и что он введён в Совет от эсеровской партии. Решил пойти на заседание Совета, которое происходило в здании Вольно-экономического общества. И там встретил Гапона. Они уединились в комнатке за кулисами и обсуждали, что можно делать в создавшейся после обнародования манифеста обстановке, которая была им не очень-то ясна. Оптимисты бормотали о наступлении эпохи либерализации русского общества, но государственная власть не намерена была допустить покушение на самодержавие и его священные принципы. И охранка не дремала. Из тех, по кому уже прошёлся железный кулак нового диктатора столицы генерала Трепова (назначен петербургским генерал-губернатором 11 января 1905 года), одни продолжали сидеть в тюрьме, других выпустили, но держали под контролем полиции. На улицах города, при явном покровительстве полиции, бесчинствовали шайки черносотенцев, которые жестоко расправлялись с «врагами монархии», выбирая жертвы по своему усмотрению. Но вот же открыто шло заседание Совета, и в комнатку, где они уединились и беседовали, доносились голоса ораторов и аплодисменты… (Увы, очень скоро этот Совет будет разогнан!)
– Я вернулся в Россию, чтобы действовать, – говорил Гапон. – Посещаю отделения своего общества. Рабочие там бывают, но разговаривать с ними пока боюсь. Я бы просил тебя, Мартын, выяснить, касается ли амнистия лично меня, и походатайствовать об этом.
Рутенберг смотрел на него удивлённо:
– С твоим-то прошлым клянчить амнистию? Не солидно, не хорошо. Тебе можно и надо заручиться защитой самой революции. Иди сейчас в зал, публично назовись и попроси защиты от полиции. Я уверен: ты эту защиту получишь, и тогда никто пальцем тебя не тронет.
– А если тронут?
Рутенберг так и взвился:
– Ты помнишь свои слова накануне Девятого? Когда я предостерёг, что могут убить и тебя, ты ответил: «Зато если я останусь в живых, меня вознесут до небес». Ну что, вознесли? – Он не мог подавить злости.
Гапон съёжился и стал вздрагивать всем телом, его влажные глаза налились тоской. Неужто он собирался заплакать? И тогда Рутенберг сказал уже спокойно и назидательно:
– Никогда, Георгий Аполлонович, нельзя спекулировать на жизни и смерти, это опасно и даже преступно. Как же можно думать о собственном вознесении, забыв о могилах тех, кто шёл вместе с вами?
Гапон молчал, низко опустив голову. Шевельнул плечами:
– Ну я же теперь вернулся к ним и буду с ними до конца.
– До какого конца? – быстро спросил Рутенберг.
– До любого! А прежде всего я восстановлю своё общество… Лучше посоветуй мне, как поумнее и поосторожнее вести работу в отделениях общества?
– Главное – реально оценивай свои возможности. Прислушайся к настроению рабочих. А осторожность прояви в одном: для доказательства своей благонадёжности не затевай политической драки с социалистическими партиями, они сильнее тебя во всех отношениях. Но и не давай ни одной их этих партий занимать в твоих отделениях главенствующего положения. Всюду тверди, что твои отделения – это внепартийные рабочие организации вроде профессиональных и кооперативных союзов, задача которых – вести серьёзную и спокойную экономическую борьбу.
– Вот этот твой совет я принимаю, – Гапон благодарно пожал Рутенбергу руку. – И разреши мне, когда надо, обращаться к тебе за помощью?
– Если сумею, конечно, помогу.
Гапон ещё раз пожал ему руку и даже обнял его. Где они могут встречаться, Гапон не спросил, а Рутенберг не сказал.
Видя, что Гапон в расстроенных чувствах, Рутенберг решил его подбодрить – сообщил ему, что в канцелярии прокурора Судебной палаты сказали, что на Гапона амнистия распространяется полностью. Но тот выслушал это известие равнодушно. Вскоре и Рутенберг и мы узнаем, почему Гапон был за себя так спокоен…
Как мы помним, Рутенберг по заданию эсеровского ЦК выехал из Парижа в Петербург, чтобы проконтролировать прибытие в Россию парохода с оружием. Но выполнить это поручение партии ему не пришлось – когда он был ещё в Финляндии, в местных газетах появилось сенсационное сообщение о том, что пароход сел на мель и оружие захвачено финской и русской полицией. Тогда Рутенберг решил ехать в Петербург, а там, как только он на Финляндском вокзале сошёл с поезда, его схватили агенты охранки. В течение двухнедельных допросов охранка не смогла предъявить ему никакого обвинения. Попытка доказать, что он был одним из организаторов 9 января, окончилась неудачей. Кроме того, правительство в это время уже готовило манифест об амнистии по делам 9 января.
Рутенберга выпустили, и он собирался вернуться на Путиловский завод, в мастерскую, которой раньше заведовал. Но сделать этого не смог, полиция предложила ему покинуть Петербург.
Он уехал в Москву, а там как раз грянуло Декабрьское вооружённое восстание. Рутенберг перешёл на нелегальное положение. Партия подыскала ему удобную и надёжную квартиру.
В Москве шла беспощадная охота на всех подозреваемых в причастности к революционному движению, и жить там нелегально было нелегко, поэтому Рутенберг очень дорожил своей квартирой в тихом переулке близ Трубной площади.
И вдруг 6 февраля вечером, вернувшись домой, он узнаёт от жены, что его ждёт Гапон. Рутенберг буквально окаменел на месте. Спросил шёпотом:
– Кто его сюда привёл?
– Я встретила его утром на улице, дала наш адрес и сказала, что в это время ты будешь дома.
Он еле удержался, чтобы не обругать жену последними словами. Да за что ругать? Она же ничего не знала о его отношениях с Гапоном после 9 января и вдобавок всё ещё преклонялась перед ним. Рутенберг только подумал с досадой, что уже завтра ему придётся бросать эту квартиру и искать другую.
Он прошёл в комнату, где находился гость. Гапон, до того вроде дремавший сидя за столом, вскочил, заговорил радостно:
– Здравствуй, дорогой Мартын! Здравствуй! Я ужо отчаялся тебя увидеть, и для меня это было равносильно потерять последнюю надежду и веру в свой завтрашний день. Но вот сам бог помог мне встретить твою жену. Мартын, дорогой! – он распахнул руки.
Уклонившись даже от рукопожатия, Рутенберг обошёл его, сел к столу и спросил жёстко:
– Знаешь, хуже чего незваный гость?
– Знаю, Мартын. Хуже татарина. Но я заклинаю тебя всем нашим прошлым: помоги мне! – Он принялся мелкими шажками ходить по комнате.
– Да сядь ты, ради бога, и скажи толком, что случилось?
Гапон сел и, сжав голову обеими руками, слепо смотрел на дешёвенькую клеёнку в цветочках, покрывавшую стол.
– Ну говори же, говори, что тебе от меня надо?
Гапон тяжело поднял голову:
– Мартын, ты пророк. Помнишь наш разговор в Лондоне? Дело у меня тогда заваривалось славное, и я был в глупом восторге, говорил тебе, что мне всё время слышится музыка, а ты сказал – не торопись плясать, эта музыка может быстро умолкнуть. Музыка, Мартын, оборвалась тут же! – почти выкрикнул Гапон. – Все меня обманули! Продали! Ты только подумай! Вспомни Женеву, Париж, Лондон! Как все подсаживали меня на пьедестал!
– Кстати, о памятнике, – перебил его Рутенберг и спросил с усмешкой: – Где стоит твой памятник, на который рабочие собирали деньги по подписке?
Гапон обеими руками оттолкнулся от стола, закинул голову вверх:
– Всё это было враньём Петрова, – ответил он сдавленным голосом. – Представляешь? Врал, обманывал меня Петров – мой самый близкий соратник по рабочему делу! – лицо его скривилось, стиснутые губы тряслись.
Рутенбергу показалось, что Гапон сейчас заплачет, по вдруг он понял, что действительно же тот должен переживать сейчас тяжкую драму одиночества, когда все отвернулись от него. Однако Рутенберга беспокоило и какое-то несоответствие между истерическим состоянием Гапона и его внешним весьма благополучным видом: на нём был дорогой костюм-«тройка», усы и борода тщательно подстрижены, щёки выбриты до синевы.
– А как у тебя дела с восстановлением отделений общества? – спросил он, подумав, что, может быть, здесь дела пошли неплохо.
Гапон энергично прошёлся по комнате, вроде бы взял себя в руки и снова сел за стол напротив Рутенберга.
– В прошлый раз ты обещал мне помощь. Так слушай… – он долго смотрел куда-то поверх его головы, потом снова уткнулся взглядом в стол. – Давеча я говорил тебе, что приступаю к работе в своих отделениях, и ты ещё советовал, как мне себя вести. Я точно так и поступил – всем, всюду и самим рабочим твердил, что никакой политикой мы заниматься не будем, а будем спокойно и мирно своими силами улучшать своё положение. Я ужо наметил создать своё кооперативное дело на паях. И представляешь, сам Витте решил мне помочь, выделил казённые деньги на восстановление моих отделений.
– Как же ты об этом узнал? – спросил Рутенберг, пока не веря услышанному.
– Представь себе, является ко мне от самого графа Витте его чиновник для особых поручений Манасевич-Мануйлов [11]11
В других источниках – Манусевич-Мануилов.
[Закрыть].
– Он чиновник и от департамента полиции, – вставил Рутенберг.
– Погоди, Мартын, – поднял руку Гапон. – Является он, значит, и говорит, что граф Витте считает мою сегодняшнюю работу с рабочими государственно полезной и решил выделить средства на восстановление общества. Но мало этого, он говорит ещё, что мою работу хочет поддержать начальник политической части департамента полиции Рачковский и по этому поводу он хотел бы со мной увидеться. Вот тут я оказался в полной растерянности. Был бы ты, я бы спросил твоего совета: идти ли мне на эту встречу? Как ты сказал бы, так я и поступил бы. А теперь сразу предупрежу тебя – с Рачковским я виделся. Мы встречались в ресторане у Кюба.
Рутенберг напряжённо ждал, что ещё скажет Гапон. Тот помолчал, точно припоминая тот разговор, и продолжал:
– Рачковский сказал, что ему известно благоволение ко мне графа Витте и что он давно хочет предоставить средства на восстановление моих отделений. Сказал также, что ему известно, как я сейчас разговариваю со своими рабочими, и похвалил за умную позицию. Но тут же добавил, что обольщаться этим у меня нет никаких оснований, так как моё дело всё равно висит на волоске. Я спросил, почему? Он объяснил, что о полном восстановлении моего общества министр внутренних дел Дурново пока и слышать не хочет, говорит, что это кончится второй Москвой. Я ему на это заявляю, что думать так обо мне – глупо. Неужели Дурново не понимает, что я получил такой тяжкий урок, после которого фактически стал уже другим человеком! Тогда Рачковский спросил: вы сейчас против существующей власти? Я ему сразу ответил, что не представляю себе в России никакой иной власти. Он: а как же с вашими заявлениями после Девятого января насчёт царя-зверя и тому подобное? Я ответил, что, когда мне задают этот вопрос рабочие, я им объясняю, что писал это, когда ещё гремели выстрелы и на улицах не просохла кровь, и тогда мною руководил не ум, а нервы, а главное – непонимание происшедшего. Теперь же, когда власти на наших глазах добиваются, чтобы в стране был порядок и благополучие, не является ли нашей святой обязанностью помочь этой власти? И все сознательные рабочие с этим согласны… Рачковский долго думал, потом сказал: Дурново хочет иметь гарантии, что вы не поднимете новую смуту. Я ему заявил, что гарантией пока может быть только моё слово истинно верующего сына России. Тогда Рачковский заметил, что слово – это только колебание воздуха, и спросил, не могу ли я написать записку на имя Дурново, такую убедительную, чтобы он мог решиться представить её царю, который до сих пор вздрагивает при упоминании моего имени. Никто же другой открыть мне дорогу не может. Я подумал и такую записку написал и отдал Рачковскому для Дурново. Целых десять страниц – и очень умно написал.
– Копия у тебя есть? – спросил Рутенберг. Он помнил писания Гапона в Европе и усомнился, что тот мог написать что-то действительно умное.
– Есть копия, я её сейчас не захватил, она в гостинице. Я тебе её принесу… Но нам надо поговорить ещё и с глазу на глаз. Поедем сегодня в «Яр» на часок-другой, я, кстати, этого кабака до сих пор не знаю. У меня деньги есть, и мы там хорошенько посидим в своё удовольствие.
Рутенберг усмехнулся:
– Я вижу, Рачковский уже приучил тебя вести деловые разговоры в кабаках.
– Зря ты так, – нахмурился и покраснел Гапон. – А где же нам поговорить? Ходить к тебе сюда я опасаюсь, ты же нелегальщин, а вдруг хвост?
– Ко мне не надо, – согласился Рутенберг. – А насчёт «Яра» я должен подумать.
– Долго думать, Мартын, нельзя – железо куют, пока оно горячее! А я тебе расскажу такое…
Они условились встретиться через три дня на Тверском бульваре, около Никитских ворот. Сели там на скамейку и некоторое время молча смотрели на здания, покорёженные в дни Декабрьского восстания. В доме, фасадом выходящем на бульвар, зияла дыра размером в два окна.
– Смотри, тут и артиллерия действовала, – кивнул на дом Рутенберг.
– А выходит, что била она и по мне, – подхватил Гапон. – Сколько раз в разговоре Рачковский тыкал мне эти московские события! Будто я к ним причастен. – Он достал из кармана бумагу: – Вот копия моей записки Дурново. Читай.
Рутенберг читал не спеша, удивляясь толковости записки, насыщенной действительно умными размышлениями о современном положении в России и о том, как укрепить авторитет государственной власти. Здесь первым пунктом стояла задача полного умиротворения рабочих, этой главной силы всяких революционных выступлений. Гапон рекомендовал, взяв за основу октябрьский царский манифест и в подтверждение объявленной в нём амнистии, разрешить ему открыть все одиннадцать отделений общества, где он развернёт работу исходя из того, что для него святость особы государя – непреложна, а верная служба ему – единственное счастье.
Рутенберг вернул записку:
– Ну что ж, написано действительно с умом. А что же стало с этой запиской дальше?
– Вот тут-то, Мартын, и начинается самое интересное… Но я, брат, замёрз и сидеть тут больше не хочу. Давай вечерком в «Яр». Там расскажу тебе всё. Ты ахнешь! Я, чтобы не засветить твою квартиру, в девять часов подъеду на пролётке вот сюда. Договорились?
– Ладно, в девять, – кивнул Рутенберг, встал и быстро пошёл по бульвару к Страстной площади.
В тот же день он разыскал находившегося в Москве Савинкова и рассказал ему о своих встречах с Гапоном.
Савинков задумался:
– А не ловушка это специально для нас?
– Разве что для Гапона, – предположил Рутенберг.
– А зачем он им? Он же у них, судя по всему, так или иначе на привязи. И потом, они же уверены, что Гапон с его мелкой душонкой на террор не способен.
– Но есть серьёзные основания полагать, – сказал Рутенберг, – что они действительно хотят использовать Гапона с его возможностями умиротворения рабочих.
– Я не допускаю, что они всё ещё верят в возможность этого полицейского рая. Особенно после Девятого января. Разве что пойдут на это только из растерянности. Но я советовал бы тебе продолжить контакты с Гапоном, чтобы узнать от него как можно больше. Может, через него найдём подход к Рачковскому. Эта цель для нас сладкая…
Вот почему Рутенберг решил поехать с Гапоном в «Яр».
Точно в девять часов вечера он пришёл в условленное место, и тут же подкатил извозчичий возок с Гапоном. Рутенберг сел рядом с ним.
– Через Пресню в «Яр», – приказал Гапон извозчику.
Они ехали по Пресне, разорённой недавними боями. Улицы не были освещены, в редком окне горел свет. Возок громыхал полозьями по ледяным колдобинам. Извозчик повернулся к ним:
– Вот как революция катком тут прокатилась, – и показал кнутом вокруг.
– А может, не революция, а бравые семёновцы? – спросил Рутенберг.
– Барин мой, кто ж тут теперь разберётся, кто чего наломал…
Когда впереди уже стал виден Петровский парк, Гапон наклонился к Рутенбергу:
– Забыл сказать тебе: я, чтобы не привлекать лишнего внимания, пригласил ещё одну свою знакомую и соученика по академии с женой. Мы сейчас пройдём в кабинет и там их подождём…
Рутенберг подумал, что даже интересно посмотреть, кто здесь его друзья.
Гапон вёл себя как-то странно. С гардеробщиками, пока они раздевались, он держался, как сердитый барин, но стоило ему наткнуться на взгляд Рутенберга, как он съёживался и изображал из себя человека чем-то угнетённого, даже подавленного, с растерянной и виноватой улыбкой.
В кабинете он предложил сесть в углу на диван. Как-то судорожно раскурив папиросу, взял Рутенберга за руку:
– Ну вот, дорогой Мартын, слушай мой рассказ дальше… Следующая встреча с Рачковским проходила уже в присутствии жандармского полковника Герасимова. Тот тоже начал с объяснения мне в любви, даже обнял меня, и вдруг я почувствовал, что, обнимая меня, он ощупал мои карманы. Понимаешь? Проверял, нет ли со мной оружия. Вот, оказывается, до чего они меня боятся! И тогда я им как будто невзначай сказал, что со мной никакого оружия нет. Они рассмеялись, переглянулись. В это время уже был накрыт стол, и мы сели. Выпили, и Рачковский этак весело спросил:
– А почему, Георгий Аполлонович, нам не предположить, что вы пришли сюда вооружённым? Ваше положение вообще затруднено главным образом тем, что многие вас боятся. Вот министр Дурново тоже боится. И Витте боится. Он вообще опасается, не хотите ли вы нас хитро употребить? А когда дочитал до того места, где вы говорите о священности для вас особы государя, резко отодвинул от себя бумагу и сказал: «Как в это поверить после Девятого января?» А Дурново, прочитав записку, сказал так: «Всё, в чём он нас здесь уверяет, он обязан доказать делом». Тогда Рачковский будто бы сказал Дурново, что для этого, мол, надо дать Гапону работу в его обществе рабочих. А Дурново будто бы на это даже кулаком стукнул по столу и воскликнул: «Нет, раньше мы должны иметь доказательства того, что в этой записке правда». Когда он мне всё это рассказал, – продолжал Гапон, – я спросил: «Но как же мне им это доказать?) И вдруг Рачковский говорит, что правительство России находится в очень затруднительном положении, в его распоряжении мало таких талантливых людей, как я. Такое же положение и в нашей службе, вот я, говорит, уже в почтенном возрасте, а заменить меня некем. Возьмите, говорит, моё место, если вы действительно хотите защитить государя от всяких бед. Я на это, конечно, рассмеялся. Герасимов тоже рассмеялся: «Господин Рачковский любит пользоваться гиперболами, но если вернуться к земной реальности, то, если бы вы стали работать с нами по защите государя, у нас на душе было бы спокойней». Рачковский подхватил: «И тогда, Георгий Аполлонович, вы сможете вполне официально открыть все отделения вашего общества». Тогда я стал думать, что самое главное для меня – это работа в обществе и что в связи с этим на всякие их манёвры надо уметь смотреть широко… А Рачковский говорит: «А помочь нам вы могли бы и сейчас, вы бы рассказали нам хоть что-нибудь». Я заявил, что ничего не знаю. Рачковский возразил, что поверить в полную неосведомлённость такой личности, как я, могут только отпетые дураки. «Расскажите нам хотя бы о себе – вот вы довольно долго были за границей, что там делали? С кем встречались?»
Гапон запнулся и спросил!
– Мартын, ты понимаешь всю эту ситуацию?
– Чего ж не понять? – пожал плечами Рутенберг. – Они вяжут тебя в свою агентуру.
– Но ты же знаешь, что я на это не пойду под пыткой! – почти выкрикнул Гапон. – Нет, так разговаривать я не могу. Ты же мне попросту не доверяешь. И давно не доверяешь. Вот я тебя зову Мартыном, Мартыном Ивановичем, а ты, оказывается, Пётр Моисеевич.
– Откуда ты узнал? – быстро спросил Рутенберг.








