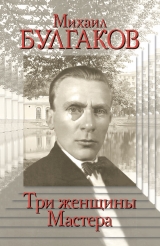
Текст книги "Михаил Булгаков. Три женщины Мастера"
Автор книги: Варлен Стронгин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
После приема наркотика Михаил чувствовал успокоение. Даже пробовал писать. Тася просила показать написанное, но он только отшучивался: «Нет. Ты после этого спать не будешь. Бред сумасшедшего».
18 сентября 1917 года, после долгих просьб и хлопот, Булгакова переводят в Вяземскую городскую земскую больницу. С одной стороны, этот перевод поднимает ему настроение. Читаем в рассказе «Морфий»: «Уютнейшая вещь керосиновая лампа, но я за электричество. И вот я увидел их вновь, наконец, обольстительные электрические лампочки!.. На перекрестке стоял живой милиционер <…> сено устилало площадь, и шли, и ехали, и разговаривали, в будке торговали вчерашними московскими газетами, содержащими в себе потрясающие известия, невдалеке призывно пересвистывались московские поезда. Словом, это была цивилизация, Вавилон, Невский проспект.
О больнице и говорить не приходится. В ней было хирургическое отделение, терапевтическое, заразное, акушерское… В больнице был старший врач, три ординатора (кроме меня), фельдшера, акушерки, сиделки, аптека и лаборатория. Лаборатория, подумать только!.. Я стал спать по ночам, потому что не слышалось более под моими окнами зловещего ночного стука, который мог поднять меня и увлечь во тьму на опасность и неизбежность».
А с другой стороны, страшный недуг продолжал преследовать его. Наркотическое заболевание заметила медсестра Степанида, потом другие в Никольской больнице. Михаил понял, что оставаться здесь нельзя. Он просил отпустить его – не разрешили. А тут именно в Вязьме потребовался врач, и его перевели туда. В рассказе «Морфий» описывается сценка, которая, наверное, произошла между Тасей (в рассказе Анной) и Булгаковым.
«Страшнейшую убыль морфия в нашей аптеке я пополнил, съездив в уезд… Достал еще в одной аптеке на окраине – 15 граммов однопроцентного раствора, вещь для меня бесполезная и нудная… И унижаться еще пришлось. Фармацевт потребовал печать и посмотрел на меня хмуро и подозрительно…
Анна. Фельдшер знает.
Я. Неужели? Все равно. Пустяки.
Анна. Если не уедешь отсюда в город, я удавлюсь. Ты слышишь?»
Возможно, подобные разговоры происходили между Тасей и Михаилом. В своих воспоминаниях Татьяна Николаевна характеризует это время «ужасной полосой», не раскрывая подробностей своих мучений. Не хочет выглядеть несчастной, унижать любимого человека даже после шестидесяти лет разлуки. Но все-таки вспоминает: «В Вязьме нам дали комнату. Как только проснусь – «иди ищи аптеку». Я пошла, нашла аптеку, приношу ему. Кончилось это – опять надо. Очень быстро он его использовал. Ну, печать у него есть – «иди в другую аптеку, ищи». И вот я в Вязьме там искала, где-то на краю города еще аптека какая-то. Чуть ли не три часа ходила. А он прямо на улице стоит, меня ждет. Он тогда такой страшный был… Вот помните его снимок перед смертью? Вот такое у него лицо было. И одно меня просил: «Ты только не отдавай меня в больницу». Господи, сколько я его уговаривала, увещевала, развлекала… Хотела все бросить и уехать. Но как посмотрю на него, какой он, – как же я его оставлю? Кому он нужен? Да, это ужасная полоса была».
Татьяна Николаевна недоговаривает о том, что аптекари все реже и реже отпускали ей опиум.
Фармацевт самой большой аптеки в центре города, в очередной раз рассматривая Мишин рецепт, усмехнулся в усы:
– Кого же он лечит, доктор Булгаков? Почему не указана фамилия больного? Пусть перепишет рецепт!
Тася бежит домой, Миша переписывает рецепт, ставит первую пришедшую на ум фамилию. Но фармацевт, разглядывая рецепт, не спешит отпускать опиум. Берет пачку старых рецептов, вытаскивает из нее Мишины рецепты и вскидывает брови.
– Милейшая! Бог с ними, с фамилиями. Но дозы все время увеличиваются! Разве так лечат? Что это за болезнь, требующая роста доз? Если это рак, то больной должен находиться в больнице. А тут похоже не на самолечение рака, а на развитие у больного наркомании! Не плачьте, милейшая. Я вижу ваше бледное измученное лицо, мне искренне жаль вас, но я не могу способствовать развитию болезни. Поймите и извините меня, милейшая! – говорит он и возвращает Тасе рецепт. – Скажите доктору Булгакову, что опиум – штука опасная. Хотя он это и без меня знает. Надо лечиться!
Тася в слезах прибегает домой. Михаил встречает ее нервный, с горящими глазами:
– Принесла?
– Нет. Фармацевт сказал, что увеличивается доза, что он не может отпустить опиум.
Неожиданно Михаил достает из-под подушки наган и нацеливает его на Тасю:
– Вы все против меня. Беги в другие аптеки. Не принесешь – убью.
Тася от страха не может слова вымолвить и, пятясь, покидает комнату. В двух других аптеках ей тоже отказывают. Видимо, фармацевт из центральной аптеки успел предупредить коллег. В четвертой, самой дальней аптеке, ей отпускают лишь однопроцентный раствор. Чтобы он дал эффект, его надо впрыскивать десяток раз. И сдачу фармацевт не дает, опустив глаза. Он понимает, зачем ей опиум. Пусть раскошеливается.
Михаил по ее ошарашенному виду понимает, что она принесла не то, что он хотел. Разворачивает пакет и бросается на Тасю с кулаками. Она увертывается от его ударов, но не всегда удачно, и думает про себя: «Борьба так борьба! Я буду уменьшать дозу! Все равно буду!»
На трое суток Миша исчезает из дома. Наверное, ездил в Москву, к коллеге-товарищу, специалисту по наркологии, ездил советоваться. А Тася за эти дни буквально постарела: на лбу появились первые морщины, впали щеки, поникли плечи. Она думала только о Мише – где он, не случилось ли с ним самое страшное?
Сердце ее радостно забилось, когда она услышала в передней его шаги. Он медленно снимает пальто:
– Я не голоден, а ты? Чем питалась без меня?
– Ничем.
– Трое суток? Ты – сумасшедшая! Сделай мне укол. – И называет дозу меньше прежней.
Тася в душе ликует и мысленно благодарит его коллегу. Все-таки наставил на ум. Вместе бороться легче. Потом с ней начинается истерика. Все накопленные за эти страшные времена отрицательные эмоции выплескиваются. Михаил стоит рядом с нею, но она уткнулась в подушку, боится посмотреть ему в лицо. Вдруг там, вместо сострадания к ней, ненависть или равнодушие.
– Женька погиб! – вдруг вскрикивает она, впервые и глубоко осознав гибель брата. – Что с мамой, отцом? Они могут не пережить это! – рыдая, голосит она. И снова слезы, слезы… До полной вымотанности, усталости. До расслабления.
Потом она хочет спросить у Михаила, будет ли у нее еще ребенок, не потеряла ли возможность рожать детей – ведь он делал операцию, находясь под действием наркотика, – но боится задать ему этот вопрос, боится не столько за себя, сколько за него: как бы отрицательный ответ не изменил желание покончить с болезнью. Достаточно маленького срыва, и все ее старания, советы товарища-коллеги пойдут прахом. Потом, выйдя замуж вторично, она узнает жестокую правду, узнает, какую цену заплатила за свою первую любовь. Сначала огорчится, а затем успокоится. Поймет, что настоящая любовь бывает одна, а потому стоит любых лишений и жертв. И не покажется ей чем-то выдающимся желание Михаила застрелиться из-за ее неприезда в Киев. Тогда ей, по сути еще девчонке, с громадным трудом удалось подобрать слова вечной любви, слова умудренной любовью женщины, которые остановили Михаила от рокового поступка. И борьба с его наркоманией покажется нормальной обязанностью жены, несмотря на угрозы, избиения. Кстати, его наган она потом выбросила в глубокую канаву, за чертой города. Было страшно, но она спасла мужа, человека. Она вовсе тогда не думала, что спасает для мировой литературы жизнь великого в скором будущем писателя и что за это ей должны быть бесконечно благодарны люди. Она не думала об этом даже тогда, когда Михаил Булгаков стал гордостью русской литературы. Она беспокоилась в Вязьме, что он сорвется, и сказала: «Знаешь что, надо уезжать отсюда в Киев. Ведь и в больнице уже заметили». А он в ответ: «Мне тут нравится». Она доказывает свое: «Сообщат из аптеки, отнимут у тебя печать, что ты тогда будешь делать?» В общем, скандалили, скандалили, наконец Михаил поехал, похлопотал, и его освободили по болезни, сказали: «Хорошо, поезжайте в Киев». И в феврале они с Тасей уехали.
Потом он подтвердит это в рассказе «Морфий»: «Внешний вид: худ, бледен восковой бледностью. Брал ванну и при этом взвесился на больничных весах. В прошлом году я весил четыре пуда, теперь три пуда пятнадцать фунтов. Испугался, взглянув на стрелку… Анна приехала. Она желта, бледна. Доконал я ее. Доконал. Да, на моей совести большой грех. Дал ей клятву, что уедем в середине февраля».
Тася несказанно рада, что в Вязьме он стал что-то писать. Это явный симптом выздоровления, хотя неизвестно, когда оно наступит окончательно. Отвыкание, и полное, наступило где-то после 1918 года.
19 февраля 1918 года сестра Варя пишет Наде из Москвы:
«У нас Миша. Его комиссия освободила от военной службы… 22 февраля выдала ему удостоверение, что он в Вяземской городской земской больнице «выполнял свои обязанности безупречно». И этому можно и должно верить. Болел, но лечил, иногда через силу, в полузабытьи, но честно, как мог, используя неоценимый опыт, полученный в Никольской больнице…»
В Москве Михаил и Тася успели на последний поезд, уходящий в Киев.
– Ну и везет нам, Тася! – впервые за долгие месяцы мучительной болезни улыбнулся он, а ей показалось, что в его зрачках загорелась красная лампочка под зеленым абажуром.
Он ехал домой насколько мог счастливый, обнимал Тасю и не подозревал, что их ожидают трудности не меньшие, чем уже пережитые. Ночь затемнила окна, а он смотрел в стекло, где отражались его и Тасина тени.
Поезд был теплый, чистый, проводники аккуратны, вежливы – наверное, потому, что этому составу выпала участь стать последним посланцем России на Украине. В Киеве уже были немцы или вот-вот должны были занять его. Тася легла на нижнюю полку, потом привстала и просидела до утра. Непонятное волнение охватывало ее: вдруг Миша еще не полностью вылечился. Врачи предупреждали, что его болезнь, в общем-то, неизлечима, единицам удается вырваться из ее цепких губительных объятий, проявив неимоверную силу воли. Тася боялась встречи с Варварой Михайловной. Миша еще выглядел худо. Как поведет он себя в Киеве? Не дай бог, вернется прошлое, и Варвара Михайловна упрекнет: «Я говорила, что вам не надо жениться». Тася страшилась ее укоров. Она любила Мишу даже в минуту, когда он был страшен; ревела, оплакивая свою судьбу, но любила. Она ревновала его к молодой помещице, жившей напротив Никольской больницы в полуразвалившемся доме, когда Михаил уезжал по вызову. Тася иногда посматривала в окно, минует он дом помещицы или остановится у его покосившейся калитки. Однажды остановился. Тася думала, что сойдет с ума. Но, к счастью, он вскоре вернулся. Видимо, передавал какие-то лекарства. Потом Тася приказала себе просто не смотреть в сторону этого дома, если Михаил шел или ехал мимо него. И вскоре ревность исчезла, по велению души. И когда помещица заходила к ним в гости, Тася, сославшись на занятость, выходила из комнаты, где находились ее муж и соседка. Но другая боль поселилась в душе – вдруг не разорившаяся помещица окажется на пути Миши, а более богатая и обольстительная женщина? Устоит ли он против ее чар? Она гнала от себя эту мысль.
Как-то на одном из заброшенных кладбищ, на дальней окраине Саратова, она обнаружила надгробную плиту, которую муж поставил жене, с которой прожил в любви и согласии сорок два года, четыре месяца и два дня. На дни считал счастье, проведенное с супругой. «Сейчас такая любовь редка», – услышала она за своей спиной кряхтенье старика. «Почему? – возразила она. – И сейчас есть верная, настоящая любовь». Старик попытался засмеяться, но вместо этого закашлялся и, махнув рукой, зашагал прочь от Таси. И еще вспомнился случай, когда Тасе отказали нервы, на мгновение она готова была без сожаления расстаться с жизнью. Это было в феврале 1917 года. Михаилу дали отпуск, и они провели его в Саратове. Гуляли мало. Миша играл с отцом в шахматы, ждал, когда тот вернется с работы, поужинает, и тянул его к шахматной доске, где были уже расставлены фигуры. Тасе нравилась Мишина спортивная разносторонность, причем всюду успешная. Он ловко гонял футбольный мяч, точно бил по воротам, но после забитого гола шел от ворот понурый – ему жалко было и противников, и вратаря, достающего мяч из сетки. Зато радовался, когда сани неслись по бобслейной трассе, не задевая ограждений, набирая скорость, и говорил Тасе, обнимавшей его: «Покрепче обнимай, будет меньшим сопротивление воздуха». Тогда соревнования по бобслею не проводились, и время прохождения ими трассы никто не замерял, но среди катающихся непререкаемым было мнение, что Михаил и Тася – самая быстрая пара. Отца в шахматы Михаил обыгрывал, но не слишком часто. «Вы устали после работы, Николай Николаевич», – говорил Михаил и возвращал слабый ход.
Из отпуска ехали в Никольское уже в марте, озеро перед ним оттаяло, а другого пути, как перебраться через него на лошадях, не было. Лошади неохотно вошли в ледяную воду, двигались медленно. И вдруг Тася почувствовала, что ее лошадь погружается в воду, все глубже и глубже. Михаил уехал далеко. Спасения в холодной воде нет. Обувь уже промокла, вода просачивается под одежду. Вспомнились неожиданно все несчастья: и Мишина болезнь, и бесконечная беготня за опиумом по зимним вяземским улицам, в шубе и валенках, потом унылое возвращение домой. Злой, чужой взгляд Миши – принесла или нет? И думы о ребенке, который мог бы у них быть, но теперь его не будет. Не для кого жить. Мише она сейчас нужна больше как медсестра. Отец и мама живут хорошо, а она вдалеке от них гибнет и плачет ночами. Зачем ей такая жизнь? Лошадь перестала сопротивляться и уже коснулась мордой воды. Но тут Тася увидела сгорбленную спину Михаила. Он тяжело ступал по пожухлой траве, выходил на берег. Бледный. Шатающийся. Никому не нужный. «Как? – вдруг возмутилась ее душа. – А мне? Я его жена! Я люблю его и спасу, сделаю для этого все, хотя выздоровление случается очень редко!» Тася рванула повод с такой силой, что не ожидавшая этого лошадь вырвалась из ила и, испуганно от напряжения раздувая ноздри, поплелась к берегу. Тасю охватил такой прилив чувств к Михаилу, такая досада на себя за слабость, которую она едва не проявила, что защитная система организма спасла ее от заболевания, неминуемого, наверное, в других условиях, в другом состоянии души. А Михаил простудился, хотя и натирал ноги и грудь спиртом.
«Дохтур захворал, – говорила больным Степанида. – Он тоже человек. Не каменный. Приезжайте через три дня. Должен оправиться. Жена его чаем поит. С малиной. Приезжайте».
Поезд прибыл в Киев по расписанию, но Тасю и Мишу никто не встречал. В городе уже были немцы, но вели себя спокойно. Местные красотки нацепили широкополые шляпы, стараясь современно выглядеть перед иностранцами, вели себя гостеприимно, но достойно, и немцы, знакомясь, целовали им руки. Но ночами было тревожно: под немцев работали местные мародеры и распоясавшиеся грабители. В семье Булгаковых не знали, когда прибудет поезд. Немцы, оккупировавшие вокзал, на вопросы не отвечали. Тася и Михаил наняли извозчика. Киев их встретил первым теплом. Был март 1918 года. Первые дни ушли на разговоры о годах разлуки, о том, что с ним произошло. Михаил о своей болезни помалкивал, но его бледность и нервозность не могли ускользнуть от взгляда Варвары Михайловны.
– Чего это с ним такое?! – спросила она, грозно посмотрев на Тасю. Этого разговора Тася ждала давно, готовилась к нему, но вдруг все доводы и объяснения выскочили из головы. Она вспомнила наставления Евгении Викторовны: «Если не знаешь, что сказать, то говори правду, дочка». И Тася поведала Варваре Михайловне свою печальную историю. Варвара Михайловна не поверила в случайность заболевания и назидательно изрекла:
– Время сложное. Меняется жизнь. И неокрепшие души с нею не справляются. У кого роман с кокаином, у кого с морфием… Но это еще никого не спасало от реалий жизни. Слава Богу, вас, Тася, это не коснулось. – Мать Михаила перешла на «вы», для того, чтобы, наверное, подчеркнуть опасность и неординарность ситуации. – Я ведь предупреждала, что вы чересчур молоды для брака с моим сыном, но вы меня не послушались. Теперь сами расхлебывайте эту историю. И не просите у меня помощи. Все, что произошло с Михаилом, было без меня. Я вас с ним, конечно, не оставлю в беде. И очень надеюсь, что вы ему поможете. Я по вашим глазам вижу, что вы его любите до сих пор. Похвально.
– А разве могло быть иначе? – удивилась Тася. – Миша выздоровел. Почти. Он резко уменьшил дозы наркотика.
Варвара Михайловна усмехнулась:
– Это там, в глубинке, было тяжело с опиумом. В Киеве он продается в любой аптеке. Боритесь за мужа и моего сына. – Голос у Варвары Михайловны неожиданно дрогнул. – Я тебе сочувствую, Тася…
Тася не ожидала, что в Киеве ее ждет повторение вяземского ужаса с Михаилом. Она думала, что его нервирует присутствие немцев, ведущих себя как дома. Позднее он напишет в «Белой гвардии»: «Велик был и страшен год по Рождестве Христовом 1918-й, от начала же революции второй. Был он обилен летом солнцем, а зимою снегом, и особенно высоко в небе стояли две звезды: вечерняя Венера и красный, дрожащий Марс. <…> Когда же к концу знаменитого года в Городе произошло уже много чудесных и странных событий, и родились в нем какие-то люди, не имеющие сапог, но имеющие широкие шаровары, выглядывающие из под солдатских серых шинелей, и люди эти заявили, что они не пойдут ни в коем случае… на фронт, потому что на фронте им делать нечего. <…> Тальберг сделался раздражительным и сухо заявил, что это не то, что нужно, пошлая оперетка. И он оказался до известной степени прав: вышла действительно оперетка, но не простая, а с большим кровопролитием. Людей в шароварах в два счета выгнали из Города серые разрозненные полки, которые пришли откуда-то из-за лесов, с равнины, ведущей к Москве. Тальберг сказал, что те, в шароварах, авантюристы, а корни в Москве, хоть эти корни и большевистские.
Но однажды, в марте (перед приездом Михаила и Таси в Киев. – B. C.), пришли в город серыми шеренгами немцы, а на головах у них были рыжие металлические тазы, предохранявшие их от шрапнельных пуль, а гусары ехали в таких мохнатых шапках и на таких лошадях, что при взгляде на них Тальберг сразу понял, где корни».
Михаил считал, что приход немцев в Киев связан с большевиками, в них корни, и это какой-то сговор между ними. Михаил не любил большевиков за их несбыточные обещания людям охватить весь мир революцией и сделать его счастливым. Может, от этого у него сдали нервы, и он вернулся к прежней скверной привычке, от которой почти избавился в Вязьме. Тася не знала, что с ним делать. Бросить – ни в коем случае. Но как спасти? Василий Павлович, муж Варвары Михайловны, высказался твердо: «Надо, конечно, действовать!» И Тася, не имея сил ослушаться, снова начала ходить по аптекам. Опиум продавали без рецепта, и можно было взять несколько пузырьков в разных местах. Миша сливал их содержимое в стакан и выпивал разом, потом мучился желудком. Потом, как и в Вязьме, попробовала через шприц вместо опиума впрыснуть ему дистиллированную воду. Он бросил в нее этот шприц. В другой раз – горящую лампу. В Вязьме – примус, здесь – лампу. Неожиданно нацелил на Тасю браунинг. Где он его взял? Нашел? Снял с убитого? Или на что-то выменял у шароварников? Тася браунинг у него выкрала и отдала братьям: «Девайте куда хотите. Но чтобы в нашем доме его не было!» Милый Ваня, он, кажется, больше других в семье сочувствовал Тасе и унес оружие. А потом Тася, собрав волю в кулак, заявила Михаилу: «Я больше в аптеки ходить не буду. Там записали твой адрес, фамилию, звонили в другие аптеки, мол, не брала ли я у них морфий. Они сказали, что брала, что собираются у тебя отнять печать». Тут Миша побледнел, как умирающий. Он больше всего на свете боялся потерять печать. Без нее он не смог бы практиковать. И тут случилось чудо: постепенно он стал осознавать, что с наркотиками шутки плохи, надо кончать. Трудно ему приходилось, но он терпел. Тася была уверена, что принудил его к этому не только страх потерять практику. Рядом была мать, братья, сестры. Перед ними, считавшими его надеждой семьи, было стыдно. И еще спасло его неодолимое предначертание Божье, или называйте его как хотите, давнее предначертание совершить в жизни такое, чего еще никто не сотворил. Оно незримо поселилось в нем и вело его к спасению. Тася чувствовала это, но успокоилась только тогда, когда над дверями его кабинета появилась табличка о том, что доктор Булгаков лечит венерические болезни. Тася была уверена, что он станет известным в Киеве врачом. Быть может, его великое предначертание в другом, она не знала, но была безумно рада, что вернула его к жизни. Вспомнив все унижения, страхи, обиды, испытанные за последние годы, она расплакалась, но быстро вытерла слезы. «Самое страшное не длится вечно», – подумала она и улыбнулась, спокойно и радостно, как в старое беспечальное время.
Мишин кабинет посещали люди небогатые, но это не беспокоило Тасю, она считала, что теперь ее муж занят важным делом: составляет графики приема лекарств, следит за состоянием здоровья пациентов. Он – ответствен перед ними, как перед своей семьей, перед женой, даже более внимателен к их нуждам, так как родные могут простить огрех или забывчивость, но платные больные – никогда. Одно или два-три грубых слова, не говоря об ошибках или неправильном диагнозе, – и прощай практика, к которой он стремился. Раздражительное отношение Миши к себе она объясняла исключительно его тяжелым болезненным состоянием, она помнила, как нежен и щедр он был к ней, глаза его сияли от любви. Все это должно вернуться рано или поздно, надо только дождаться, чтобы Миша стал прежним. Она сделала все, чтобы он мог работать.
Татьяна Николаевна вспоминает: «Когда мы весною 17-го года уезжали из Саратова, отец дал мне ящик столового серебра – мое приданое. Мы и в этот раз не хотели брать его, тащить, но отец настоял – пригодится. Теперь я решила его продать… Мы купили все необходимое для приема больных. Я помогала Михаилу во время приема – держала за руки больных, когда он впрыскивал им неосальварсан. Кипятила воду… Горничной в доме уже не было. Обед готовили сами – по очереди. После обеда – груда тарелок. Как наступает моя очередь мыть, Ваня надевает фартук: «Тася, ты не беспокойся, я все сделаю. Только мы потом с тобою в кино сходим, хорошо?» И с Михаилом ходили в кино – даже при петлюровцах ходили все равно. Раз шли – пули свистели под ногами, а шли».
Михаил в заботах преодолевал заболевание, и Тася отходила от переживаний. Она помнила высказывание известного врача, с которым она тогда советовалась, что наркомания неизлечима и от нее вылечиваются единицы, и это бывает чудо. Тася внутренне гордилась собою, что этот единичный случай произошел при ее участии.
В доме Булгаковых снова собиралась молодежь. Шутили. Пели. Николай Леонидович Гладыревский как старый друг семьи помогал Булгакову принимать больных. Бывал в доме и его брат – Юрий. «Пел «Эпиталаму», ухаживал за Варей, – вспоминал Николай Гладыревский, – они пропадали где-то вместе с Михаилом, у них были какие-то общие дела, думаю, что дамские… Но я ничего об этом не знал, и никто не знал…» Николай ошибается. Тася была в курсе их «общих дел», но заранее дала себе зарок не упрекать Михаила за его похождения – боялась погубить отношения с мужем, она просто решила подождать, когда они восстановятся полностью.
Татьяна Николаевна помнит, что «когда Михаил вел прием, мы с ним (Юрием) часто болтали в соседней комнате, смеялись. Михаил выходил, спрашивал подозрительно: «Что вы тут делаете?» А мы смеялись еще больше… Пели, играли на гитаре… Михаил аккомпанировал и дирижировал даже… В это время у нас жил Судзиловский – такой потешный. У него все из рук падало, говорил невпопад. Лариосик на него похож».
Поскольку Татьяна Николаевна заговорила об одном из героев пьесы «Дни Турбиных» – Лариосике, роли, моментально сделавшей популярным в Москве артиста МХАТа Михаила Яншина, то уместно будет заметить, что в трудные для Михаила Афанасьевича времена Яншин, завидев его на улице, переходил на другую сторону, чем очень раздражал драматурга, принесшего ему широкую известность.
Вероятно, Тася преувеличивала, говоря о возвращении былых отношений с Михаилом. Она его любила беззаветно, еще больше, как больного ребенка, которого выходила. Возможно, есть преувеличение и в том, как описывала дочь Вариного мужа – Ирина Леонидовна Карум – мнение своего отца об отношениях Михаила с женой: «Он (отец) очень жалел тетю Тасю, к которой М. А. относился высокомерно, с постоянной иронией и как к обслуживающему персоналу…» Учитывая натянутые отношения между Булгаковым и Карумом, следует считать эти слова лишь частично правдивыми, но не обращать на них внимания нельзя. Татьяна Николаевна рассказывала, как в 1919 году Михаил опоздал на Пасху к заутрене, прошатавшись где-то, и сказал матери, жившей отдельно от детей: «Ну, меня за тебя Бог накажет». Он частенько потом это повторял. И чаще всего – в адрес Таси. Кстати, Карум, в каких-то своих чертах, станет прообразом Тальберга в «Белой гвардии», как и многие другие люди и родные, окружавшие молодого Булгакова. Казалось, и особенно внешне, что жизнь семьи на Андреевском спуске, чем-то напоминавшем Тасе саратовский спуск к Волге, называемый взводом, но более живописном и благоустроенном, потекла ровно и не без благоденствия. И в это время на семью Таси посыпались несчастья. Отец ее собрался в Саратове выйти на пенсию, он уже отслужил двадцать пять лет, но руководство не хотело терять опытного аккуратнейшего работника, и его упросили остаться – перевели в Москву. Мать Таси с Володей остались в Саратове. В это время выяснилось, что отношения Евгении Викторовны с Николаем Николаевичем разладились – оказывается, у него была любимая женщина и связь с нею зашла так далеко, что он собрался уйти из семьи. Узнав об этом, Евгения Викторовна с Володей поспешили в Москву. Произошел скандал, и сердце отца не выдержало. Тася потом думала, что, возможно, мать сама подтолкнула мужа к измене. Напрасно она запрещала ему участвовать в благотворительных концертах, тем более – стать артистом. Человеку нужна в жизни отдушина. Напряженная канцелярская работа и привела Николая Николаевича к разрыву с семьей. Он сделал блестящую карьеру в Казенной палате, но был артистичен по натуре, душа его изнывала от казенщины. Запрет свой Евгения Викторовна обосновывала тем, что в театральных кругах у обаятельного мужа могут появиться поклонницы, а нашлась женщина и вне театра, но, наверное, душою созвучная его артистичной натуре. Говорят, что на похоронах она, стоя возле гроба, буквально заходилась в рыданиях, а Евгения Викторовна, хотя и в траурном одеянии, но осталась дома и молилась за упокой души мужа.
Евгения Викторовна после смерти мужа бросила квартиру в Саратове, забрала все вещи и уехала с Володей к дочке Соне в Петроград. Высокая и красивая сестра Таси Соня, в свое время бежавшая из семьи с неизвестным офицером, бросила своего военного и с помощью другого поклонника выехала в Петроград, где поступила в театральное училище. Познакомилась там с актером Александринского театра Вертышевым и вышла за него замуж. Там, в Петрограде, Володя устроился в военное училище. В одно из воскресений он пошел на базар и не вернулся. Поиски его оказались тщетными. А вскоре от сыпного тифа умер Николай – последний брат Таси. Успел проститься с матерью. Евгения Викторовна осталась с Вертышевым и Соней, ездила с ними на гастроли, помогала Вертышеву в гримерской работе. По сути, Тася осталась без родных. Михаил сочувствовал ей, но особой теплоты не проявил.
Тася, глотая слезы, как-то у него спросила:
– Ты помнишь, как играл с папой в шахматы?
– Помню, – отозвался Миша, – он средне играл, я ему иногда проигрывал, чтобы не расстраивать.
– А он тебя очень любил. Цепь подарил, столовое серебро, а мама – золотой браслет. Они хотели, чтобы мы жили хорошо, в достатке.
– Хорошие люди, – согласился Михаил, но даже не подошел к плачущей жене, не утешил ее.
Тася стала чаще задумываться о таком сложнейшем чувстве, как любовь. Не знаешь, где найдешь и где потеряешь. Вроде бы ругань между влюбленными – последнее дело, а может, и нет. Отойдут люди, освободятся от накопившихся претензий и обид и снова мирно живут. Тася удивлялась, почему всю жизнь нельзя прожить в любви и согласии. Ведь еще совсем недавно Михаил, узнав, что его встреча с Тасей переносится, хотел застрелиться. Она поверила в его любовь, безмерную, как тогда говорили – до гроба. И любовь отца с матерью казалась Тасе вечной. И тут Тася ошиблась. Не хотелось бы брать пример с Сони – бежала из дому, потом кто-то покровительствовал ей, но в конце концов устроила жизнь и ею довольна. «Все решает судьба, и она у каждого своя, – подумала Тася, – я Мишина жена и останусь ею, что бы с ним ни случилось. Страшнее того, что пережила с Мишей, уже не должно быть. А сейчас в доме Булгаковых становится веселее, почти как в те годы, когда я впервые появилась там».
Тася весьма наивно полагала, что никто в жизни не причинит ей зла, лишь потому, что она сама его никому не причиняла. Постоянно открывала дверь незнакомым больным, не спрашивая, кто идет, и у нее с шеи могли сорвать золотую цепь, подаренную отцом. Людям, прошедшим Вторую мировую войну, странно сейчас принимать слова Татьяны Николаевны, что при немцах порядок в Киеве был идеальный. Продукты были любые. И модницы одевались шикарно. У Таси не было каких-либо политических предубеждений. Турбин в «Белой гвардии» говорит Малышеву: «Я – монархист», но это не значит, что взгляды Булгакова совпадали с мыслями одного из героев повести. Михаил был суеверен, часто спрашивал, даже по незначительному поводу: «Клянешься смертью?!» Тася вздрагивала от этих слов, ей казалось, что она всегда говорила и говорит правду, кроме тех случаев, когда шло лечение. Зачем ей, даже по пустякам, обманывать любимого мужа? И требование от нее такой страшной клятвы обижало, а иногда пугало. Она думала, что какие-то люди часто подводили Мишу в жизни, поэтому он требует от всех клятвенного подтверждения своих слов. Но она здесь при чем? Неужели он в чем-то обманывал ее и теперь не верит ей сам? Наверное, все его суеверия есть не что иное, как побочные рецидивы перенесенной им страшной болезни. И у нее наблюдается смещение понятий, наверное, тоже от немыслимых переживаний. Кому-то она сказала, что мама была дамой-патронессой небольшого госпиталя, а на самом деле – города, госпиталь она только организовала, и еще Тася забыла, что любила играть в винт… Но когда забываешь о мелочах, можешь не вспомнить о главном и важном. А вот случай, позднее описанный в «Белой гвардии». Михаил рассказывал о нем Тасе, что, впрочем, делал редко, не желая то, что еще не увидело бумагу, произносить вслух. Но потрясенный увиденным, Михаил в этом случае не удержался, рассказал жене. В «Белой гвардии» этот эпизод выглядел так: «В ночь со второго на третье февраля у входа на Цепной мост через Днепр человека в разорванном и черном пальто с лицом синим и красным, в потеках крови, волокли по снегу два хлопца, а пан куренной бежал с ним рядом и бил его шомполом по голове. Голова моталась при каждом ударе, но окровавленный уже не вскрикивал, только ухал… «А, жидовская морда! – исступленно кричал пан куренной. – К штабелям его, на расстрел!»








