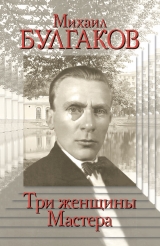
Текст книги "Михаил Булгаков. Три женщины Мастера"
Автор книги: Варлен Стронгин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Глава пятая
Революционное буйство на берегах Терека
Терек бушевал испокон веков, беря начало из источников и родников с чистейшей водой, зарождавшихся на снежных вершинах Кавказских гор, покрытых девственным снегом. Местные жители привыкли к его грозному рокоту, шуму и треску, поскольку заглушить их было невозможно. Вероятно, когда-нибудь найдутся инженеры и ученые, использующие горную буйную стихию на благо народа, но пока никто не посягнул на этот водный поток, готовый смести на своем пути любые плотины и иные более крепкие сооружения.
Тася долго не могла привыкнуть к грохоту буйного потока, особенно после плавной и широкой Волги, готовой принять в свои теплые объятия купающихся людей и даже большие пароходы. Волга покорно служила людям, а Терек был норовист и вспыльчив. Приехавшему издалека человеку было трудно уснуть от грохота воды, и ему казалось, что он за день уставал более, чем за час пребывания дома. Поначалу то же самое представлялось Тасе. Лишь на окраинах города она была освобождена от неистового буйства Терека, но порою ее тянуло к этой экзотической бурной реке, которая ее и восхищала и пугала.
Местные жители любили свою реку, наверное, стремительным движением воды напоминавшую их бурную жизнь. К тому же в истоках ее, в горах, остались жить их сородичи, в основном – пожилые люди, разводившие стада овец. И в двадцатых годах большевикам было нелегко добраться до горских осетин, и те жили неплохо, и их дети и внуки, переселившиеся и выросшие в городах, существуют на деньги отцов и дедов вполне зажиточно.
Михаил упрекал Тасю в том, что она не вывезла его из Владикавказа вместе с госпиталем белых, но обвинение это возникло не сразу после его выздоровления. Михаил интуитивно чувствовал, что писатель должен жить среди своего народа, познать его судьбу, мысли и надежды, особенно во время первых литературных шагов. Он надеялся стать писателем в России, не представляя себе, как воздействует на творца тоталитарный режим. Проситься за границу он стал значительно позднее, убедившись, что написанное им, особенно то, что было наиболее ему дорого, отняло множество душевных сил, не скоро увидит свет, особенно при существующем строе, казавшемся незыблемым. Трагедию Булгакова глубоко может прочувствовать только человек, пытавшийся всем своим существом принести благо людям, но жестоко за это наказанный.
В самом начале двадцатых годов Булгаков не решился покинуть родину, хотя исследователи его жизни и творчества настаивают на обратном. Сомневался ли он в том, остаться или уехать? Возможно… В письме брату Константину от 16 февраля 1921 года Михаил с горечью пишет: «…Во Владикавказе я попал в положение «ни взад, ни вперед». Мои скитания далеко не окончены. Весной я должен ехать: или в Москву (может быть, очень скоро), или на Черное море, или еще куда-нибудь». Но в том же письме он интересуется у брата: «Еще прошу тебя, узнай, пожалуйста, есть ли в Москве частные издательства и их адреса». Все-таки превалирует мнение, что Михаил связывал свое творчество с работой в России. Я лично в этом уверен, проведя небольшое частное расследование. Мог ли Михаил в начале двадцатых покинуть родину, особенно находясь на Кавказе? Без больших затруднений – по Военно-Грузинской дороге, где на границе с Грузией, в Ларсе, местные меньшевики отбирали у проезжающих оружие и открывали им путь на Тифлис и далее на Константинополь.
После Владикавказа чета Булгаковых побывала в Батуми. Я зашел к нынешнему директору Батумского краеведческого музея и задал ему вопрос о том, можно ли было примерно в двадцать втором году перебраться из Аджарии в Турцию. Директор усмехнулся:
– Спуститесь на набережную. Там в кафе под тентами сидят старички. Они вам все расскажут.
– А как вы считаете?
– Я еще сравнительно молод, – опять усмехнулся директор, – вам больше и точнее расскажут старые люди.
Спускаясь по лестнице музея, я остановился у стендов, где с фотографий на меня смотрели члены батумского ревкома, расстрелянные по приказу Сталина. А выйдя из музея, я прошел не более пятидесяти метров и… натолкнулся на музей Сталина.
Заметив мой удивленный и осуждающий взгляд, кассирша музея зло и ворчливо заметила:
– Мы нашего Сталина никому не отдадим!
– А кому он нужен? – сказал я. – Кто собирается его у вас отнимать?
Кассирша не нашлась что ответить и невнятно забурчала. Я знал, что аджарцы – это грузины, принявшие мусульманство.
– Сталин, наверное, не любил мусульман, поэтому и расстрелял всех аджарцев-ревкомовцев? – заметил я на прощание кассирше. – Удивительно, что рядом находятся два музея: убийцы и его жертв. Не находите ли вы это странным?
Кассирша, не поднимая головы, буркнула:
– Дикая жара, уже прошло больше половины дня, а никто не купил ни одного билета! И вы не возьмете. Я это сразу почувствовала!
В кафе на батумской набережной сидели загорелые, забуревшие, еще довольно крепкие старички и спокойно потягивали из чашечек черный кофе.
Меня они встретили благожелательно, вероятно, увидев приезжего, у которого можно узнать что-либо новое и интересное. Мой вопрос вызвал у них недоумение. Седоусый аджарец, видимо старейший из присутствующих, выпучил глаза:
– В двадцатых годах из Батуми в Константинополь уходило не менее десяти лодок с контрабандным товаром.
– Десять? В течение месяца? – спросил я.
– Каждый день! – воскликнул аджарец.
– Я сам лично еще мальчишкой отвозил с отцом туда товар! – похвастался другой старик. – Брали всех, кто хотел уехать. Русских, персов, всех, кому здесь не нравились новые порядки.
– Дорого ли это стоило?
Аджарцы как один вскинули брови, словно я незаслуженно обвинил их в чем-то нехорошем, и обиженно посмотрели на меня.
– Какие деньги? До тридцать четвертого года не было границы с Турцией в горах. Никакой. Ни единой пограничной заставы. Наши овцы паслись в Турции, турецкие овцы – у нас. Иди в любую сторону, куда хочешь!
Вывод напрашивался сам собой: Михаил мог тогда, если бы хотел, свободно уехать в Турцию. И вместе с Тасей. Но в Киеве оставалась мать, он ничего не знал о судьбе братьев – Николки и Вани, переписывался с сестрами и всегда помнил наказ родительницы о том, что он старший из мужчин в семье и потому ответствен за судьбы детей. К тому же во Владикавказе нашлась невесть какая, но работа. Опасность быть арестованным уменьшилась после того, как он стал писать в анкетах, что закончил не медицинский, а естественный факультет Киевского университета. Следовательно, подозрений не возникало, что он служил вообще в Добровольческой армии. Тем не менее во Владикавказском архиве я обнаружил список членов первого состава Подотдела искусств, где после фамилии Булгаков в скобках было указано: «бел.», то есть из бывших белых. Возможно, он позднее корил Тасю за то, что она вообще отговаривала его от отъезда из России.
– Бунин, Мережковские, Дон Аминадо – они уехали уже известными и признанными писателями, а ты только начинаешь писать. Тебя еще не знает ни читатель, ни зритель. А здесь ставят твои пьесы. Понемногу печатают. Мы еще не проели золотую цепочку. Носить ее уже нельзя, зато она поможет тебе писать. Я верю в тебя!
Тася умолчала, что она просила Слезкина устроить на работу Михаила, что Юрий Львович благоволит ей, признался, что обожает прелестных и благородных русских женщин, таких, как его жена, как Тася. И при первой возможности он взял Михаила в Подотдел искусств заведовать Лито.
Во Владикавказе после ухода Доброволии остались жить осетинские белые офицеры, ставшие в основном учителями и бухгалтерами. Их пока не трогали… Вызывали, как и Михаила, каждые два месяца в ЧК, на перерегистрацию, но препятствий в работе не чинили.
Из Грузии во Владикавказ приехал бывший сельский учитель Ной Буачидзе, заведовал ревкомом, при этом шокировал местных большевиков, доказывая им, что народ – это не только пролетариат и крестьянство, но и врачи, учителя, адвокаты, мелкие торговцы… Они должны иметь равные права с рабочими и крестьянами. Его слушали, но недоверчиво, и уплотняли, по их мнению, второсортный народ, считая в душе его буржуйским и недобитым, а терпели потому, что кому-то нужно лечить больных и учить детей, а собственной пролетарской интеллигенции пока не хватало, и основательно.
В своей повести «Столовая гора», вышедшей в 1923-м и называвшейся тогда «Девушка с гор», Юрий Слезкин описывает Булгакова под именем Алексея Васильевича, но порою слишком необъективно, и это объясняет в своем дневнике тем, что «по приезде в Москву они встретились как старые приятели, хотя в последнее время во Владикавказе между ними пробежала черная кошка (Булгаков переметнулся на сторону сильнейшую)». Увы, в высказывании Слезкина звучит писательская зависть – по первым литературным опытам Булгакова, по разговорам с ним он понял, что его друга ждет незаурядное творческое будущее. Михаил много трудится за письменным столом, хочет рассказать людям правду о жизни, и не он возглавил Подотдел искусств при ревкоме, а Слезкин, кстати, руководивший таким же подотделом еще год назад в городе Чернигове, где гастролировала его жена. Иногда выпады Слезкина против Булгакова были настолько очевидны и необъективны, что, как призналась мне редактор сборника повестей Слезкина Ирина Ковалева, она выбрасывала из «Столовой горы» целые абзацы, порочащие на почве литературной зависти великого писателя. («Шахматный ход», Москва, Советский писатель, 1982 г.) Тем не менее повесть является едва ли не единственным литературным документом того времени, рассказывающим об обстановке во Владикавказе и о жизни Булгакова и Таси.
Называя революцию переворотом, политики подразумевают при этом смену власти, хотя слово «переворот» относится и к тому, что сама жизнь, многие хрестоматийные, апробированные многовековым человеческим опытом понятия были поставлены с ног на голову, и не случайно говорит Халик-бек – один из героев «Столовой горы»: «В годы войны и революции я понял, в какой тупик пошлости и себялюбия пришли мы все, люди, называющие себя культурными. И меня потянуло в горы, в свой аул, где живут так, как жили сто лет назад простые, не тронутые нашей гнилью пастухи. Оттуда гораздо дальше и лучше видно… Горы заставляют человека владеть своей волей, они заставляют его подыматься».
У супругов Булгаковых, людей «равнинного» происхождения, нет своего высокогорного аула, где можно было надышаться свежим воздухом и увидеть, поразмыслив вдалеке от городской суеты и борьбы за выживание, дальше, чем виделось в городе. Михаил не переметнулся на сторону революции. Для него, как и для Ноя Буачидзе, народ – все люди, Владикавказ он считает своеобразной горной ловушкой. О том, как очутились там Булгаковы, без прикрас и даже ноток необъективности рассказывает в «Столовой горе» Юрий Слезкин. «Он опирается на палку, неуверенно, не сгибая, передвигает ноги. Он еще не оправился вполне после сыпного тифа, продержавшего его в кровати полтора месяца. За это время многое переменилось. Он слег в кровать сотрудником большой газеты, своего рода «Русского слова» всего Северного Кавказа, охраняемого генералом Эрдели. Его пригласили редактировать литературный и театральный отдел вместе с другими очень популярными журналистами… и он не мог не согласиться. Он устал, хотел отдохнуть, собраться с мыслями после долгих скитаний, после боевой обстановки, после походных лазаретов, сыпных бараков, бессонных ночей, проведенных среди искалеченных, изуродованных, отравленных людей. Он хотел, наконец, сесть за письменный стол, перелистать свои записные книжки, собрать свою душу, оставленную по кусочкам то там, то здесь – в холоде, голоде, нестерпимой боли никому не нужных страданий. Он слишком много видел, чтобы чему-нибудь верить. Нет, он не обольщал себя мыслью, что все идет хорошо. Он не мог петь хвалебных гимнов Добрармии или, стоя на подмостках, как его популярный коллега, громить большевиков. Он слишком много видел…
Потом он слег и пролежал полтора месяца. В бреду ему казалось, что его ловят, ведут в бой, режут на куски, отправляют в лазарет и снова ведут в бой… Жена несменяемо дежурила над ним. Он ничего не рассказал ей о своем бреде, когда очнулся. Только молча пожал ей руку – по ее истощенному лицу догадался о том, как много она вынесла за время его болезни. Они давно привыкли понимать без слов друг друга…»
Тася, несмотря на дикую усталость, чувствует, что к ним возвращаются прежние добрые и радостные отношения. Михаил постепенно становится самим собой. Он стал намного серьезнее, чем прежде, но юмор, остроумие, склонность к шутливой импровизации постепенно возвращаются к нему. Его соученик по Киевскому университету писатель Константин Паустовский, наверное, лучше других доброжелательных к Булгакову коллег характеризует смысл его жизни и творчества: «…Булгаков – представитель передовой интеллигенции – испытывал всю жизнь острую и уничтожающую ненависть ко всему, что носило в себе хотя бы малейшие черты обывательщины, дикости и фальши. Вся жизнь этого беспокойного и блестящего писателя была, по существу, беспощадной схваткой с глупостью и подлостью, схваткой ради чистых человеческих помыслов, ради того, что человек должен быть и не смеет не быть разумным и благородным. В этой борьбе у Булгакова было в руках разящее оружие – сарказм, гнев, ирония, едкое и точное слово. Он не жалел своего оружия. Оно у Булгакова никогда не тупилось».
Тася поразилась, что после возвратного тифа, еле передвигая ноги, во время первой прогулки к Тереку он нашел силы спародировать мороженщика, спешившего объявить и прорекламировать свой товар. Мороженщик говорил так быстро: «Сахарное мороженое», что на бледном лице Миши проскользнула улыбка, и он дважды повторил, имитируя речь продавца: «Сах-роженное! Сахроженное!»
Они выбираются в цирк на мировой чемпионат по греко-римской борьбе. Этот «чемпионат» забавляет Михаила, так как участникам для придания соревнованию международного статуса придумываются фамилии на заграничный лад.
– Победил Темир-Хан-Шура! – объявляет судья. Михаил улыбается:
– Я знаю этого борца. Его настоящая фамилия – Армишвили. А он присвоил себе название целого аула!
Тася приносит домой красное вино, восточные пряные сладости – праздник по поводу выздоровления Михаила и от сыпного тифа, и от наркомании, болезней трудноизлечимых. Тася гордится, что помогла ему спастись от беды, но не говорит об этом, глаза ее сияют радостью. Когда они с Михаилом венчались, она представляла их жизнь безмятежной и полной радости, а то, что испытала и через что прошла, ей не могло даже присниться. Сегодня ее праздник, ликует ее душа. Миша, наверное, понимает это, но вряд ли чувствует, насколько она счастлива. А он, видимо, считает, что возвращение их отношений – дело само собою разумеющееся. Лицо его становится одухотворенным, когда он садится за письменный стол. С медициной покончено. И когда в театре случился приступ с одной актрисой, перебравшей кокаина, он давал советы, как вывести ее из состояния ломки, но потом сказал режиссеру:
– Я частный человек, журналист, кое-что мерекающий в медицине, – и только. Я не врач… Человек без определенной профессии. Член Рабиса, завлит областного Подотдела искусств. Помните это…
И пусть в словах Слезкина о Булгакове порою звучит ирония, за ней явно проглядывает зависть коллеги: «Нет, положительно, Алексей Васильевич не стал бы писать своей автобиографии. Он скромен, он не любит шума вокруг своего имени, он имеет свое маленькое дело, не ищет славы. Бог с ней, с этой славой. Единственно, что он хотел бы написать, – это роман. И он его – напишет, будьте спокойны. Роман от него не уйдет. Он будет-таки – написан. Во что бы то ни стало…
Все эти заметки, фельетоны, рецензии – все это кусок хлеба – не более. Всегда можно урвать минутку, надеть женин старый чулок на голову, снять американские ботинки, подложить под венский стул диванную подушку и сесть за стол. Чернила и бумагу нетрудно позаимствовать в Подотделе искусств – не всегда, но можно.
Роман будет называться… впрочем, не в названии дело. Он назвал бы его «Дезертир», если бы только не глупая читательская манера всегда видеть в герое романа автора… Издать роман он хотел бы за границей… Пожалуйста, не улыбайтесь, пожалуйста, без задних мыслей. За границей издают опрятнее, лучше, чем в России, и, кроме того, там есть бумага… Только всего».
Тася читала этот роман в 1923 году, когда он увидел свет, и не верила своим глазам. Тот ли Слезкин писал его, доброжелательный, гостеприимный, едкий в шутках, но по делу, а здесь сказано о Михаиле прямолинейно и зло. Можно подумать, что, написав роман, он совершит какое-то преступление. И намек на заокеанскую помощь Доброволии – американские ботинки, и само название романа – «Дезертир». И воровство бумаги из Подотдела – мелочь, но не свойственная Михаилу. Без разрешения самого Слезкина он не взял бы домой даже листочка. А далее – просто издевательство над Михаилом: «На голове черный фильдекосовый чулок, обрезанный и завязанный на конце узлом». Это неприязнь к тому, что Михаил с детства был приучен к опрятности, был аккуратно причесан, волосы уложены. По Слезкину – с помощью чулка. А вот описание и самой Таси. Столько приятных слов высказал ей Юрий Львович, столько тостов произнес в ее честь на вечеринках дома и в театре, а тут на́ тебе: «Жена спит без одеяла – ей жарко. Алексей Васильевич видит ее худое, усталое тело, плохо стиранную, заплатанную рубашку и отворачивается, водит глазами по стенам, где висят афиши, портрет Маркса, женины платья». У Таси от негодования кружится голова – Мише не нравится ее тело, и он отворачивается… Американские ботинки… Портрет Маркса… Роман под названием «Дезертир»… В мыслях Таси эти слова выстраиваются в лживый, унижающий достоинство ее и Мишино ряд глупостей. Это в квартире Слезкиных висел портрет Маркса, по поводу чего Миша шутил не раз.
– Извините, советскому начальнику положено, – разведя руками, картинно шутил Юрий Львович. – Скажите спасибо, что Маркс без Энгельса… Я его подарил другому начальнику…
Тася читала этот роман в Москве и вспоминала клокочущий Терек. В минуты, когда хотелось отвлечься от грустных мыслей, она шла к этой реке, надеясь, что вода унесет ее плохое настроение, душевную боль. И Терек помогал ей в этом, но не всегда, и казалось, что он тоже стал рабоче-крестьянским, даже более бурным и опасным, чем прежде. Ей не хотелось далее читать «Столовую гору». Она делает это через силу. Слезкин неумолим к Мише. Новое обвинение – роман не о дезертирстве героя из Доброволии, а о чем-то противоположном: «Потом вспоминает о рукописи, оставленной на столе, берет ее, снова прислушивается и прячет за портрет Карла Маркса». Еще одно усилие, и Тася наталкивается на частицу правды, хотя и тут Миша описывается карикатурно и физиологически неприятно, но так было: «Алексей Васильевич снимает рубашку и по привычке осматривает ее. Он делает это каждый вечер – из страха, животного страха перед вшами, которые мучили его не один месяц. В эти минуты он чувствует к себе омерзение и жалость, в полной мере ощущает свое бессилие». Возможно, так и было с Мишей, переболевшим возвратным тифом, так поступали многие владикавказцы, боясь не менее пули смертельных насекомых. И затем возникает кусочек правды: «Потом он тушит свет и перебирается к жене на узкую кровать». После уплотнения «буржуйского» населения у Михаила не было письменного стола, и еле-еле в их комнатенке умещалась узкая казарменная походная кровать, рассчитанная на одного юнкера.
Тася боготворила Юрия Львовича как писателя, тонко понимавшего женскую душу, либерально и сочувственно относящегося к людям обыкновенным, живущим просто, спокойно и без претензий на большее, чем им отпущено судьбою, а Михаил, видимо, резко отличается от них неуемностью в творчестве, широтой взглядов, вызывающих неприязнь обывателя – любимого героя Слезкина. Тася поражена тем, что Юрий Львович, наделенный талантом юмориста, не может быть равнодушным к коллеге, обладающему иронией не в меньшей мере, чем он. Слезкин высмеивает и это его качество: «В мирное время с десяти утра весь город был на ногах, на Треке играла музыка, в клубе стучали тарелки, на берегу Терека целовались влюбленные пары. А теперь город предоставлен луне, ночи и самому себе. Только Терек никак не может успокоиться, ничто не научит его быть менее болтливым. И потому Алексей Васильевич не любит его. Он раздражает, как надоедливый, непрошеный собеседник. У него нет тайны, он весь нараспашку. Положительно, в стране, где течет такая река, народ не может быть умен. Хе-хе, пожалуй, эта мысль не лишена остроты. Об этом не мешает подумать в свое время».
Тася уже не смущается подобным пассажам Слезкина. Они глупы. Ее раздражает другое, что известную реку большевики хотят сделать едва ли не символом революции и собираются провести Съезд народов Терека, шагающих к светлой дали коммунизма. Может, они думают, что это движение ускорит быстро и бурно текущая река, а она по-прежнему ведет свои шумные разговоры с природой, поскольку является ее частью, а не теоретическим подразделением или даже своеобразным речным штабом революции.
И наконец Тася встречает в книге мысли, свойственные ей, Мише и одному из героев романа, бывшему главному редактору белогвардейской газеты – по-видимому, самому Слезкину или Покровскому. Мысли разные, неоднородные, но местами похожие на доводы Таси, особенно в самом начале рассуждений героя: «Вы юморист, дорогой мой, но позвольте узнать, что бы я стал делать за границей? Гранить мостовую Парижа, Лондона или Берлина, курить сигары, витийствовать в кафе, разносить бабьи сплетни или писать пифийские стихи в русских газетах? Политика меня не интересует, как идейная борьба, – это юбка, которую надевают для того, чтобы каждый любовник думал, что он ее первый снимает… Я хорошо знаю цену всем этим идеям, общественным мнениям, благородным порывам… Составлять новую армию для похода на Россию? Занятно. Но дело в том, что я хорошо знаю, чем может закончиться такая история. Скучнейшей чепухой, родной мой!»
В этом месте Тася ощутила знакомого ей по вечеринкам, остроумного, глубокого писателя, сумевшего написать повесть «Козел в огороде», которая сделала бы честь многим писателям. Тем более детство Юрия Львовича прошло во Франции, куда уехала его мать. И не случайно парадоксальным оказывается заключительная часть монолога бывшего редактора белогвардейской газеты, все-таки Покровского, вернувшегося на родину с авантюрной идеей – продать большевикам типографию: «Я иду ва-банк. Уверяю вас, только в России сейчас можно жить. Только в ЭРЭСЭФЭСЭР. Здесь один день не похож на другой, сегодня не знаешь, что будет завтра, и если тебя не расстреляют, то у тебя все шансы расстреливать самому. Не так ли?»
Тася ощутила в этом выводе грустную суть современной жизни, в которой даже седой от пенистой воды Терек объявлялся большевистским. Вместо того чтобы на своих берегах принимать загорающих людей и целующиеся влюбленные пары, он вынужден на своих волнах нести брошенные в реку трупы. Во Владикавказе было известно, что ревкомовец Ной Буачидзе около двух часов разговаривал с Лениным по телефону на железнодорожном вокзале, но даже близость с таким лидером революции, как Ленин, не спасла его от пули, когда он попытался помирить ингушей и казаков. Разве Терек сделал людей фанатиками разных идей и лютыми врагами? Виною тому революционное буйство, разразившееся на его берегах. И повсюду, по всей стране.
Газета «Донские ведомости», издававшаяся в Новочеркасске, еще 1 сентября 1919 года писала: «Советская власть – власть рабочих». Этот революционный выкрик бросается всегда в начале и в конце каждой из речей Ленина и Троцкого, произносимых на заводах и фабриках еженедельно каждую пятницу. В одну из таких пятниц как результат речи Ленин получил две пули в спину. Всюду, где совдепы налагали свою кровавую руку, везде рабочие, обольщенные сперва безграничной демагогией и призраком несуществующей власти, когда из-за этого призрака впоследствии весьма реально выглядывали дула пулеметов и орудий карательных китайско-совдеповских отрядов, прозревают, видя всю пагубность, всю гибельность «советского строительства». До войны Донецкий бассейн давал три четверти угля, добываемого в России. Оставив шахтеров без работы, совдепы бросили на произвол судьбы подвоз продовольствия на рудники. Продармейцы, забрав весь хлеб Украины по твердым ценам, отправили его не в голодающий шахтерский бассейн, а в Москву. Мало того – рабочим не платили деньги. Бассейн разрушен и разграблен, а поздно прозревшие рабочие, не получив и последнего куска хлеба, разбежались под выстрелами пулеметов».
После этой статьи Тасю охватила паника, не ровен час подобное достигнет Владикавказа. Может быть, еще не поздно вырваться за границу. Но Миша только начал писать. Не все из написанного ему нравится. Впрочем, иного ожидать было нельзя. Главное – он любит, не бросает работу. Пьесу «Самооборона» принимал художественный совет Подотдела искусств. В зале не смолкал смех. Тася торжествовала, но была обескуражена, когда пьесу не приняли к постановке в театре.
– Слишком смешная, – давясь от хохота, первым высказался председатель художественного совета. – Неужели мы все такие наивные и глупые? Не может быть. Зачем выставлять себя дураками? В план эту пьесу включать нельзя, показ ее будет вреден народу. Михаил Афанасьевич, попробуйте поработать с нею в кружке самодеятельности. А экземплярчик один мне оставьте. Я дома жене почитаю. Вот нахохочемся!
– Пьеса слабая, – неожиданно для Таси сказал Михаил, – я нашел немало смешных ситуаций, но глубокого произведения не получилось, – вздохнул он и с любовью посмотрел на томики собрания сочинений Гоголя. – Хотелось бы, чтобы и у меня когда-нибудь вышли такие тома.
– Ведь это Гоголь! – заметила Тася.
– Ну и что? – улыбнулся Михаил. – Он когда-то тоже был молодым, не сразу написал «Мертвые души». Говорят, что у него был замечательный учитель, умница и эрудит. Понял талант своего ученика и развивал его. И вообще рассуждал нестандартно, по каждому вопросу имел свое мнение. За это его выслали в Вятку. А у меня учителем будет сам Николай Васильевич!
– Ты шутишь, Миша?
– Нисколечко, Тася! Когда я сажусь за письменный стол, представляю себя Гоголем. Иначе не прыгну выше своей головы, выше возможностей. Кстати, «Мертвые души» Гоголь написал в Риме, где его не уплотняли, не заставляли регистрироваться в ЧК, не обсуждали на художественных советах.
– Ты снова упрекаешь меня, – насупилась Тася.
– Нет, милая, я действительно не выжил бы в дороге. Ведь я бывший врач и кое-что понимаю в медицине. Нас сегодня приглашают к себе Слезкины. Ждут ребенка. Потом гулять будет недосуг. Пойдем?
– Ага! – с радостью согласилась Тася. После общения с педантичными инспекторами и их скучными семьями она попала в театральный мир Владикавказа, где задержались и не покинули страну одни из лучших артистов. Интересные талантливые люди окружали ее, и, хотя жилось бедновато, владикавказский период остался навсегда в памяти Таси как лучший в ее невеселом и долгом бытии. Михаил преображался в театральных компаниях, шутил наравне с признанными корифеями театра, и, слушая его, попыхивал трубкой Слезкин, и тогда Тасе было непонятно, радуется ли он за молодого коллегу или нет. Выяснилось позже, после «Столовой горы». И Миша не остался в долгу. Он вывел Слезкина в пьесе «Зойкина квартира» в образе авантюриста и проходимца Аметистова, разумеется, не столь грубо и зло, как Юрий Львович его, а всего лишь одной деталью, именно тем, что дворянин по происхождению в 1919 году руководил Подотделом искусств в Чернигове, а к тому же, как известно, до этого и после работал в белогвардейской прессе. Михаил не приклеивал к нему ярлык «метавшегося», понимая, что у Юрия Львовича была семья и писатель все-таки обязан быть над событиями, чтобы потом описать их, а возьми он винтовку в руки и воюй – в любой момент вражеская пуля может настигнуть его. Владимир Галактионович Короленко корил себя за то, что очень много времени в жизни отдал защите обиженных инородцев и поэтому написал меньше, чем мог и хотел. Тася успела изучить характер Михаила до тонкостей, даже по оттенкам голоса могла судить о его настроении и серьезности того или иного намерения. И когда он упрекал ее в том, что они остались во Владикавказе, в голосе его не было суровости и твердости. Вероятно, он мечтал об отъезде за границу, но морально еще не был готов к этому. И для Таси не было неожиданным однажды высказанное им, и довольно уверенно, заявление:
– Пока будем работать здесь. У осетинского народа удивительная тяга к образованию, к познанию жизни. Коста Хетагуров старался пробудить чувство национального достоинства в людях, попавших в тиски чиновничества и дворянства, и вместе с тем не отделял ни себя, ни свой народ от остального мира: «Весь мир – мой храм, любовь моя – святыня, вселенная – отечество мое». И знаешь, Тася, когда вдруг в городе закрыли женскую школу, арбы с приехавшими учиться девушками запрудили улицы. Люди стучали отчаянно в двери школы, девушки плакали, не желая возвращаться в аулы. А поскольку мы остаемся, то неплохо было бы познакомиться с обычаями людей, среди которых живем. У меня есть мыслишка…
– Написать пьесу на местную тему! – догадалась Тася.
– Не знаю, – смутился Миша, – может быть. В репертуаре театра нет ни одного спектакля из жизни осетин. Я один такую пьесу не осилю, не зная ни истории народа, ни даже его обычаев. Помоги мне, Тася, разузнай самые интересные обычаи осетин, свойства их характера, национальную пищу. Ведь мы, кроме лепешек и мацони, ничего не ели.
Тася была польщена предложением Михаила. Она никогда не показывала обиду, что муж не делится с нею своими литературными задумками. Он догадался об этом и однажды заметил ей:
– Не сердись, Таська, плохая примета рассказывать о том, что еще не написано. Потом ты все прочитаешь и увидишь.
Так и случалось. Его фельетоны она прочитывала в газете, а работая в театре, ходила даже на репетиции его пьес.
Тася долго и тщательно отбирала то, что могло пригодиться Михаилу для создания национальной пьесы.
Для этого завела специальный дневник. Вот некоторые записи из него:
«Тяжелобольного знакомые и родственники не оставляют одного ни днем, ни ночью. Чтобы отвлечь больного от болезни, ему рассказывают сказки, играют на фандыре (осетинский вид скрипки) или на небольшой двенадцатиструнной арфе, при этом распевают легенды о мифических героях. В последние минуты жизни больного расспрашивают о покойниках – не видит ли он такого-то, что делает такой-то, не голодает ли, кто его окружает… Такими вопросами они настраивают воображение больного до такой степени, что он начинает отвечать на их вопросы.








