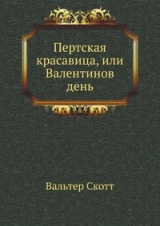
Текст книги "Пертская красавица, или Валентинов день"
Автор книги: Вальтер Скотт
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 36 страниц)
Глава XIX
Эй, кто там бьет в набат
Вот черти! Весь город всполошили
«Отелло», акт II, сц. 3
Дикие слухи, облетевшие город, и поднявшийся вскоре тревожный перезвон колоколов навели ужас на всех. Вельможи и рыцари со своими приспешниками собирались в условленных местах, где можно было успешнее обороняться. Тревога проникла и в монастырь, где стоял королевский двор и куда молодой принц явился одним из первых, чтобы в случае нужды встать на защиту старого короля. Одна из сцен прошлой ночи ожила в его воспоминаниях, и, представив себе залитую кровью фигуру Бонтрона, он подумал, что дело, совершенное этим негодяем, пожалуй, имело прямую связь с беспорядками в городе. Но последующий разговор с сэром Джоном Рэ-морни, более для него занимательный, произвел тогда на принца сильнейшее впечатление, вытеснив из его памяти все, что он слышал о кровавом деле, и у него осталось лишь смутное представление, что кого-то прикончили. Только ради отца он поспешил вооружиться сам и вооружить своих людей, которые теперь, в ярко начищенных панцирях и с копьями в руках, являли совсем другой вид, чем минувшей ночью, когда они бесчинствовали в обличий пьяных служителей Бахуса. Добрый старый король со слезами благодарности принял это проявление сыновней привязанности и гордо указал на принца герцогу Олбени, пришедшему несколько позже. Он взял их обоих за руки.
– Ныне мы, трое Стюартов, – сказал он, – столь же нераздельны, как священный трилистник. Говорят, кто носит при себе эту священную траву, над тем бессильны злые чары, так и нас, доколе мы верны друг другу, не страшит коварство врагов.
Брат и сын поцеловали руку доброго короля, соединявшую их руки, когда Роберт III выражал свою уверенность в их преданной любви. Юноша в тот час был вполне чистосердечен, тогда как поцелуй королевского брата был поцелуем Иуды-предателя.
Между тем колокол церкви святого Иоанна взволновал наряду с прочими и обитателей Кэрфью-стрит. В доме Саймона Гловера старая Дороти Гловер, как ее именовали, потому что и она получила прозвание по ремеслу, которым занималась под крылом своего хозяина, первая услышала тревогу. В обычных случаях тугая на ухо, она худые вести слышала так хорошо, как чует коршун запах падали, ибо Дороти, вообще говоря трудолюбивая, преданная и добросердечная женщина, склонна была с жадностью подхватывать и разносить мрачные известия – свойство, часто наблюдаемое у людей низших сословий. Не слишком привыкшие, чтобы к ним прислушивались, они дорожат тем вниманием, каким неизменно пользуется вестник печали, или, может быть, их радует равенство, хотя бы и временное, которое беда устанавливает между ними и теми, кого законы общества в обычное время ставят выше их. Едва подхватив первый же слушок, облетевший округу, Дороти ворвалась в спальню своего хозяина, который сегодня позволил себе поспать подольше по случаю праздника и по праву преклонного возраста.
– Лежит и спит, добрый человек! – начала Дороти в тоне то ли укоризны, то ли жалостного причитания. – Лежит и спит! Его лучшего друга убили, а он ничего и не знает о том, точно новорожденный младенец, не ведающий, что такое жизнь и что такое смерть!
– Что там еще! – закричал, вскочив с постели, Гловер. – Что случилось, старуха? Не с дочкой ли что?
– «Старуха»! – повторила Дороти, поймав рыбку на крючок, она позволила себе потешиться над нею. – Я не так стара, – сказала она, улепетывая из комнаты, – чтобы мешкать в спальне, когда мужчина вылезает неодетый из постели.
И вот уже слышно издалека, как она внизу, на кухне, мелодически напевает под шарканье метлы,
– Дороти, черный филин… чертова карга… скажи только, жива ли дочь!
– Я жива, отец, – отозвалась Кэтрин из своей светелки, – жива и здорова. Но ради пречистой девы, скажите, что случилось? Колокола звонят оборотным трезвоном, на улицах крик и стон.
– Пойду узнаю, в чем дело. Конахар, скорей сюда, помоги мне застегнуться!.. Эх, забыл! Бездельник горец сейчас далеко, по ту сторону Фортингала. Потерпи, дочка, я сам сейчас принесу новости.
– Нечего вам ради этого так торопиться, Саймон Гловер, – сказала упрямая старуха. – Вы наилучшим образом обо всем услышите, не перешагнув за порог. Я побывала на улице и все уже разузнала, потому что, подумала я, наш хозяин – горячая голова, он еще натворит чего-нибудь, если и впрямь совершилось такое дело. Вот я и подумала: лучше уж не пожалею свои старые ноги и узнаю сама, что там стряслось, а то он сунет свой нос в самую гущу, и ему его тут же оттяпают, он и спросить не успеет, за что!
– Так какую же ты узнала новость, старуха? – сказал в нетерпении Гловер, все еще хлопоча с несчетным множеством пряжек и петель, посредством которых камзол пристегивался к штанам.
Дороти предоставила ему заниматься этим делом до тех пор, когда он должен был, по ее расчету, почти управиться с ним. Но теперь уже можно было опасаться, что, если она не откроет тайну, хозяин выйдет на улицу и сам разузнает причину переполоха.
– Ладно, ладно, – закричала она, – только уж не говорите, что по моей вине вы услышали дурную новость, не успев побывать у ранней обедни! Я не хотела сообщать ее вам, покуда вы не послушаете слово священника, но раз вам непременно надо услышать поскорей, так вот: вы потеряли самого верного друга, какой когда-либо пожимал вам руку, и люди Перта оплакивают самого храброго горожанина, какой когда-либо держал меч в руке!
– Гарри Смит! Гарри Смит! – закричали разом отец и дочь.
– Ну вот, дождались наконец! – сказала Дороти. – А по чьей вине, как не по своей же?.. Такую подняли бучу из-за того, что он проводил время с уличной музыкантшей, как если бы он вожжался с еврейкой!
Дороти продолжала бы все в том же духе, но хозяин крикнул дочери, еще не сошедшей вниз:
– Вздор, Кэтрин, бредни старой дуры! Ничего такого не могло случиться. Я живо схожу и принесу тебе верную весть.
Схватив свой посох, старик пробежал мимо Дороти и бросился из дому – туда, где народ валом валил к Хай-стрит. Дороти между тем все ворчала себе под нос:
– Твой отец куда как умен – на его собственный суд! Вот теперь он влезет в какую-нибудь свару, а потом начнется: «Дороти, дай корпии! Дороти, наложи пластырь!» А сейчас Дороти только врет и порет вздор, и ежели она что сказала, так быть того не может. Быть того не может! Уж не думает ли старый Саймон, что у Гарри Смита голова крепка, как его наковальня, и не треснет, хотя бы горцы накинулись на него целым кланом?
Поток ее слов остановило нежданное явление: Кэтрин, точно призрак, с блуждающим взором, с мертвенно-бледным лицом, с распущенной косой, проскользнула мимо нее, как в бреду. Охваченная ужасом, старуха забыла свое брюзгливое недовольство.
– Огради богородица мою доченьку! – сказала она. – Что ты глядишь как шальная?
– Ты как будто сказала… кто-то умер? – пролепетала, запинаясь Кэтрин, до того напуганная, что ей, казалось, изменили и речь и слух.
– Умер, родненькая! Да, да, лежит совсем мертвый. Теперь уж не будешь больше на него серчать.
– Мертвый! – повторил? Кэтрин с той же дрожью в голосе. – Мертв… убит… и ты сказала – горцами?
– Да уж верно, горцами, беззаконниками. А то кому же тут убивать, как не им? У нас если и случится смертоубийство, так разве что горожане поцапаются во хмелю да порежут друг друга… Или там бароны да рыцари вздумают кровь проливать… Но я голову дам на отсечение, что это сделали горцы. В Перте не было человека – ни лэрда, ни простого мужика, – который посмел бы выйти один на один против Генри Смита. Небось накинулись на него гурьбой. Увидишь сама, когда разберутся в этом деле!
– Горцы! – повторила Кэтрин, словно ее смущала какая-то неотступная мысль. – Горцы… О, Конахар! Конахар!
– Вот-вот! Ты, скажу я, угадала, Кэтрин: он самый! Ты же видела, в ночь на святого Валентина они повздорили, до драки дело дошло. А у горца на такие вещи память длинная. Дай ему оплеуху на Мартынов день, у него до духова дня будет гореть щека. И кто только назвал сюда длинноногих бездельников делать в городе свою кровавую работу?
– Горе мое! Это я! – сказала Кэтрин. – Я, я привела сюда горцев, я послала за Конахаром… Да, они подстерегали добычу у себя в горах, а я привела их сюда и отдала ее в их руки! Но я должна увидеть своими глазами, и тогда… мы что-нибудь сделаем. Скажи отцу, что я мигом вернусь.
– В уме ли ты, девочка моя? – закричала Дороти, когда Кэтрин, не глянув на нее, выбежала вон. – Куда ты пойдешь в таком виде на улицу? Волосы висят ниже пояса, а еще слывешь первой красавицей в Перте… Силы небесные, выскочила на улицу, и ей хоть бы что, а старый Гловер так теперь взбеленится, точно я могла удержать ее силком! Летит как сумасшедшая… Вот тебе и утро пепельной среды! Как же быть? Ежели пойти искать хозяина в толпе, так меня собьют с ног и затопчут, и никто не пожалеет о старухе. А побежать за Кэтрин – куда там, разве за ней угонишься? Ее, чай, и след простыл!.. Пойду-ка я к соседу, к Николу-цирюльнику, и все ему расскажу.
Покуда верная Дороти выполняла свое разумное решение, Кэтрин мчалась по улицам Перта в таком виде, что в другое время привлекла бы к себе все взоры. Она неслась очертя голову, нисколько не похожая на ту скромную и выдержанную девицу, какой се привыкли видеть люди: простоволосая, ни шарфа, ни накидки, которые порядочная женщина, то есть женщина доброго имени и приличного состояния, всегда надевает на себя, когда выходит в город. Не все кругом были так возбуждены, одни – выспрашивая, другие – сообщая о причине волнения (причем рассказывали все по-разному), что небрежность ее одежды и порывистость движений никого не удивляли, она могла идти куда считала нужным, и никто не обращал на нее больше внимания, чем на прочих девушек и женщин, которые в страхе или жадном любопытстве высыпали на улицу: одни – чтоб узнать причину переполоха, другие – чтоб увериться, не грозит ли опасность их близким.
Продираясь сквозь толпу, Кэтрин поддалась заразительному действию обстановки, и ей стоило большого труда удержаться и не подхватить крик ужаса и жалости, эхом прокатившийся вокруг. Между тем она бежала вперед и вперед, как во сне, подавленная смутным чувством свершившейся страшной беды, истинную природу которого она не могла бы с точностью определить: но довольно было и сознания, что человек, так преданно ее любивший, тот, чьи достоинства она так высоко ценила и кто, как поняла она теперь, был ей дороже, чем она осмеливалась до сих пор признаться даже самой себе, – что этот человек убит и, возможно, по ее вине. Не связана ли гибель Генри с приходом Конахара и его удальцов? В минуту предельного возбуждения у Кэтрин возникла такая мысль. Но догадка показалась бы вполне правдоподобной и в более спокойный час, когда девушка могла бы тщательно ее обдумать. Не разбираясь в собственных мыслях, желая только одного – узнать, верен ли худший из страшных слухов, – мчалась она вперед к тому месту, от которого еще вчера в обиде на друга старалась бы держаться подальше.
В вечер последнего дня карнавала разве поверила бы Кэтрин Гловер, если бы кто-нибудь стал ее уверять, что она, такая гордая, скромная, сдержанная, всегда так строго соблюдавшая приличия, – что в пепельную среду, до ранней обедни, она с распущенными волосами, не приведя в порядок платье, побежит по улицам Перта, пробиваясь сквозь толпу и давку к дому того самого поклонника, который, как она должна была думать, грубо и бесстыдно ее оскорбил и, пренебрегши своей Валентиной, погнался за утехами низменной, распутной любви! Но так оно и было. И, в своем нетерпении безотчетно выбирая дорогу посвободнее, она направилась не по Хай-стрит, где была самая сильная давка, а вышла к кузнице узкими переулками северной окраины города, по которым Генри Смит вел недавно Луизу. Но даже эти сравнительно малолюдные переулки теперь кишели пародом – так широко распространилась тревога. Кэтрин, однако, пробиралась сквозь толпу и ни на кого не смотрела, и те, кто ее примечал, переглядывались и качали головами, сочувствуя ее горю. Наконец, не давая себе отчета, зачем пришла, она остановилась перед домом верного своего друга и постучалась в дверь.
Никто не отозвался на ее торопливый стук, гулко прозвучавший в тишине, и тишина еще больше усилила ее волнение, толкнувшее ее на этот отчаянный шаг.
– Открой… Открой, Генри! – закричала девушка. – Открой, если ты жив!.. Открой, если не хочешь найти Кэтрин Гловер мертвой на пороге твоего дома!
Когда она кричала так в неистовстве, взывая к ушам, которые, как ее уверили, уже никогда ее не услышат, ее возлюбленный сам открыл дверь – как раз вовремя, чтобы не дать гостье упасть наземь. Восторг его нежданной радости умеряло только удивление, не позволявшее поверить счастью, а затем испуг перед закрывшимися глазами девушки, ее побелевшими полуоткрытыми губами, бескровным лицом и, казалось, прервавшимся дыханием.
Генри оставался дома, несмотря на всеобщую тревогу, давно достигшую и его ушей: он твердо решил держаться в стороне и не ввязываться в драку, если можно будет ее избежать, и, только повинуясь призыву городских властей, он снял со стены свой меч и запасной щит и собрался выйти, чтобы – впервые против воли – исполнить долг, к которому его обязывало звание гражданина.
«Тяжело, если город втягивает тебя во все свои распри, а Кэтрин так претит драка! Я уверен, в Перте немало найдется девчонок, которые твердят своим поклонникам: „Ступай, храбро исполни долг, и ты завоюешь благосклонность своей дамы“. А вот же не посылают за их женихами, а зовут меня, когда я не могу исполнить долг мужчины и защитить несчастную девушку-менестреля, не могу, как подобает гражданину, сразиться за честь своего города, потому что Кэтрин рассердится и осудит меня как задиру или распутника!»
Такие мысли проносились в уме оружейника, когда он собрался выйти на зов набата. Но едва открыл он дверь, самое дорогое его сердцу существо, та, кого он меньше всего ожидал увидеть, предстала его глазам и упала ему на руки.
Удивление, радость, тревога охватили его разом, но не лишили присутствия духа, какого требовал случай. Прежде чем подчиниться призыву властей, хотя бы и самому настойчивому, нужно было устроить Кэтрин Гловер в безопасном месте и привести в сознание. Он понес свою милую ношу, легкую как перышко, но более для него дорогую, чем если бы вся она была из червонного золота, в небольшую комнату – бывшую спальню его матери. Комната эта лучше всего подходила для больной, так как смотрела окнами в сад и сюда не доносился шум переполоха.
– Эй, няня!.. Няня Шулбред… Скорей сюда!.. Тут дело жизни и смерти… Нужна твоя помощь!
Старуха подошла, ковыляя:
– Если тебе опять понадобился кто-нибудь в свидетели, чтоб вызволить тебя из неприятности. …
Ее тоже разбудил переполох, но каково же было ее удивление, когда она увидела бережно и почтительно положенное на кровать ее покойной хозяйки и поддерживаемое могучими руками ее питомца безжизненное, как ей показалось, тело пертской красавицы!
– Кэтрин Гловер! – вскричала она. – Матерь святая! Никак мертва!..
– Нет, нет, старая, – сказал ее питомец. – Сердце бьется, дыхание не прервалось!.. Подойди же, ты сможешь помочь ей толковей, чем я. Принеси воды… настойку, что ли, какую знаешь, ты в этих делах искусница. Небо вручило мне ее не для того, чтоб она умерла: она должна жить себе и мне на радость!
С проворством, какого трудно было ждать от старухи, няня Шулбред собрала все, что было нужно, чтобы привести в чувство Кэтрин. Как многие женщины тех времен, она даже умела лечить несложные раны, и свои знания ей непрестанно приходилось применять на деле благодаря воинственным наклонностям ее питомца.
– А теперь, Генри, сынок, – сказала она, – выпусти из объятий мою пациентку – хоть ее и стоит крепко прижать к груди! – и освободи свои руки: они понадобятся мне в помощь. А вот ее ручку можешь и не отпускать, но только бей легонько по ладони, чтобы пальцы разжались, а то видишь – стиснулись в кулачок!
– Мне, мне бить по ее тонкой, красивой руке! – сказал Генри. – Уж лучше попроси, чтобы я ударил молотом по стеклянной чаше, чем стучать мне заскорузлыми пальцами по ее нежной ручке!.. Ничего, пальцы разожмутся, мы найдем для этого способ получше.
И он припал губами к прелестной руке, легкое движение которой указывало, что сознание возвращается. Последовал глубокий вздох, затем другой, и пертская красавица, открыв глаза, остановила их и а любимом, который опустился на колени подле ее кровати, и снова откинулась на подушки. Так как она не выдернула своей руки из руки возлюбленного, мы снисходительно должны поверить, что сознание вернулось к ней не вполне и она не заметила, как он, злоупотребляя создавшимся положением, поочередно прижимает ее руку то к губам своим, то к груди. Б то же время мы должны признать, что на щеках ее проступил румянец, а ее дыхание те две минуты, пока была она в полуобмороке, оставалось глубоким и ровным.
Стук в дверь стал громче, и Генри кликали повеем его многообразным именам – Смит, Гоу, Хэл из Уинда, – как язычники призывают свои божества под их различными наименованиями. Наконец, подобно католикам-португальцам, когда те исчерпают все мольбы, взывая к своим святым, толпа у входа перешла к яростной ругани:
– Стыд и срам, Генри! Бесчестный человек! Сейчас же выходи, или тебя объявят нарушителем гражданской присяги, изменником Славному Городу!
Средства няни Шулбред, как видно, возымели действие, и Кэтрин начала приходить в себя: прямей обратившись лицом к любимому, чем позволяло до сих пор ее положение, и все еще не отнимая у него левой руки, она опустила правую ему на плечо, как будто хотела его удержать, и шептала:
– Не ходи, Генри… Останься со мной… Они тебя убьют, эти кровожадные звери!
Свои призывные слова, подсказанные радостью, что нашла любимого живым, когда ждала увидеть его мертвым и окоченелым, она произнесла так тихо, что он их едва разобрал. И все же они не позволили Генри Уинду встать с колен и выйти на улицу, как упорно ни звала его разноголосая толпа за дверью.
– Стойте, ребята! – крикнул один горожанин посмелее своим товарищам. – Надменный Смит просто решил над нами подшутить! Что ж, ворвемся в дом к вытащим его за уши!
– Ты сперва подумай, а потом лезь, – сказал более осторожный из осаждавших. – Кто силком ворвется к Генри Гоу, когда он заперся, войдет в его дом целым и невредимым, а вернется такой, что костоправам будет над чем потрудиться… Но вот идет самый нужный нам человек: ему мы и поручим потолковать со Смитом, пусть пристыдит как следует отступника.
Тот, о ком шла речь, был не кто иной, как Саймон Гловер. Он подоспел к роковому месту, где лежало тело несчастного шапочника, в ту самую минуту, как по приказу бэйли Крейгдэлли убитого повернули вверх лицом, – и перчаточник, к великому своему облегчению, узнал черты бедного бахвала Праудфьюта, когда толпа ждала увидеть своего любимца, заступ-пика всех обиженных – Генри Смита. Смех или нечто близкое к нему послышался среди тех, кто припомнил сейчас, как настойчиво Оливер домогался славы бойца, столь чуждой его природе и наклонностям, и кто-то заметил, что шапочнику довелось умереть смертью, вернее отвечавшей его притязаниям, нежели характеру. Но это непристойное веселье, отразившее грубые нравы эпохи, сразу смолкло, когда послышались стоны и причитания женщины, которая пробивалась сквозь толпу, жалобно взывая: «Мой муж! Мой муж!»
Толпа расступилась перед скорбящей и сопровождавшими ее подругами. До сих пор Моди Праудфьют знали только как миловидную женщину. Поговаривали, что она заносчива и смотрит пренебрежительно на тех, кого почитает ничтожней или беднее себя, знали, что она была хозяйкой и властительницей над мужем, с которого умела живо сбить спесь, когда он, бывало, расхвастается некстати. Но теперь, среди разыгравшихся страстей, горе придало ей новую значительность в глазах людей.
– Вы смеетесь, – сказала она, – недостойные жители Перта! Не над тем ли, что один из ваших сограждан пролил свою кровь в сточную канаву?.. Или потому смеетесь, что смертный жребий пал на моего супруга? Чем заслужил он ваш смех?.. Разве не кормил он честно свою семью усердным трудом? Или не были открыты перед каждым двери его почтенного дома, где больной находил приют, а бедный – помощь? Разве не ссужал он каждого в нужде?.. Не помогал дружески своим соседям, не держал по справедливости совета в ратуше?
– Верно говоришь, верно! – отвечали в толпе. – Fro кровь – наша кровь, как если бы убили того же Генри Гоу!
– Правильно, соседи, – сказал Крейгдэлли. – Это дело мы не можем замять, как то, прежнее: кровь гражданина не должна литься, неотомщенная, по нашим канавам, точно мутная вода, или пройдет немного времени, и широкий Тэй станет алым у нас на глазах. Но этот удар предназначался не тому бедняге, которому выдалось несчастье пасть под ним. Каждый знает, каков был Оливер Праудфьют, знает, как он умел грозиться и как мало причинял на деле зла. На нем оказался кожаный кафтан Смита, его же щит и шлем. Они знакомы всему городу, как знакомы мне, на этот счет не может быть сомнений. У Оливера, вы знаете, было одно пристрастие – он старался чуть ли не во всем подражать Смиту. И вот ни в чем не повинного шапочника, которого никто не мог бояться или ненавидеть, на которого никто и никогда всерьез не обижался, кто-то в слепом ли бешенстве или во хмелю сразил вместо честного Смита, у которого на руках двадцать кровных ссор.
– Что же теперь делать, бэйли? – кричали в толпе.
– А это, друзья, порешат за вас ваши выборные, как только прибудет сэр Патрик Чартерис – его ждут с часу на час – и мы сойдемся все на совет. Тем временем хирург Двайнинг осмотрит эти бедные останки, чтобы сказать нам, как постигла нашего согражданина его роковая участь. А тогда обрядим тело в чистый саван, как благоприличествует честному горожанину, и возложим перед высоким алтарем в церкви святого Иоанна, покровителя Славного Города. Прекратите шум и крик, и пусть каждый из вас, кто способен держать оружие, если любит он Славный Город, препояшется мечом и будет готов явиться на Хай-стрит, едва раздастся звон общинного колокола, что на башне ратуши, – и либо мы отомстим за смерть нашего согражданина, либо примем такую судьбу, какую пошлет нам небо. А до той поры, покуда мы не узнаем, кто чист и кто виновен, избегайте завязывать ссоры с рыцарями или их людьми… Но что он мешкает, бездельник Смит? Как начнется потасовка, в которой он совсем не нужен, он тут как тут, а теперь, когда потребовалось послужить Славному Городу, его не дождешься!.. Что с оружейником? Неладно? Знает кто-нибудь? Веселился он на проводах карнавала?
– Он то ли болен, то ли одурел, мастер бэйли, – сказал один из городских голов, как называли в те времена старшин ополчения. – Посудите сами: его молодцы говорят, что он дома, а он не отзывается и не впускает нас.
– Разрешите, ваша милость, мастер бэйли, – сказал Саймон Гловер, – я сам схожу и приведу Генри Смита. Мне, кстати, нужно уладить с ним небольшой спор. И благословенна будь пречистая, что он в добром здравии, когда четверть часа назад я уже не чаял застать его живым!
– Приходи с храбрым Смитом в городской совет, – сказал Крейгдэлли, в то время как какой-то йомен верхом на коне прорвался сквозь толпу и шепнул ему что-то на ухо. – Тут явился добрый человек и говорит, что рыцарь Кинфонс уже въезжает в ворота!
Вот по какому случаю Саймон Гловер явился нежданным гостем в дом Генри Гоу.
Откинув колебания и сомнения, какие могли бы удержать других, он прошел прямо в гостиную и, услышав возню тетушки Шулбред, поднялся на правах старой дружбы в спальню, небрежно бросив в оправдание: «Извини, соседушка», отворил дверь и вошел в комнату, где его ждало странное и неожиданное зрелище. Звук его голоса оживил Мэй Кэтрин куда быстрее, чем могли подействовать все меры и лекарства тетушки Шулбред, а бледность на ее лице сменил горячий жар самого милого румянца. Она оттолкнула от себя любимого обеими руками, которые до той минуты он все время поглаживал, а она не отнимала – потому ли, что пришла в себя, или по влечению, пробужденному в ней событиями этого утра. Генри Смит, застенчивый, каким мы его знаем, встал, шатаясь, и все присутствующие были в большей или меньшей мере смущены, за исключением тетушки Шулбред: воспользовавшись первым же предлогом, она повернулась спиной к остальным, чтобы вволю посмеяться над ними. А Гловер, хоть и пораженный неожиданностью, но больше обрадованный, быстро оправился и от души рассмеялся тоже.
– Ну вот, клянусь добрым святым Иоанном, – сказал он, – сегодня утром я увидел зрелище, после которого, думалось мне, я забуду смех по меньшей мере до конца поста, но уж тут… Да лежи я хоть при смерти, я свернул бы себе скулы со смеху! Смотри ты, честного Генри Смита оплакивали в городе как мертвого, звонили по нем во все колокола, а он стоит веселый и живехонький и, судя по румянцу на щеках, не больше склонен помирать, чем любой человек в нашем Перте. И вот моя драгоценная дочка, которая вчера только и говорила, что об испорченности жалких созданий, предающихся мирским утехам и берущих под свое крыло всяких веселых потешниц… Да, давно ли она восставала против святого Валентина и святого Купидона, – а нынче, как я посужу, сама превратилась в ту же бродяжку потешницу! Право, я рад, что вы, моя милая тетушка Шулбред, делили компанию с нашей влюбленной четой: уж вы-то не допустите никакого непорядка.
– Вы ко мне несправедливы, дорогой отец, – сказала Кэтрин, чуть не плача. – Меня привела сюда совсем иная забота, чем вы полагаете. Я пришла, потому что… потому что…
– Потому что ты ждала найти здесь мертвого жениха, – подхватил ее отец, – а нашла живого, готового принять изъявление твоих добрых чувств и ответить на них. Не будь в том греха, я от всей души поблагодарил бы небо, что тебя захватили врасплох и наконец заставили признаться, что ты женщина. Саймон Гловер недостоин иметь дочерью чистейшую святую… Ладно, не гляди так жалостно и не жди от меня утешения! Так и быть, я перестану потешаться над тобой – но только тогда, когда ты соизволишь утереть слезы или признаешься, что плачешь от радости.
– Пусть я умру на месте за такие слова, – сказала бедная Кэтрин, – но, право, я сама не знаю, откуда эти слезы. Только поверь, дорогой отец, и Генри тоже должен поверить, я никогда не пришла бы сюда, если бы… если бы…
– Если бы не думала, что Генри уже не может прийти к тебе, – подсказал отец. – А теперь пожмите друг другу руки на мир и согласие и дружите, как пристало двум Валентинам. Вчера было заговенье, Генри. Будем считать, что ты исповедался в своих безрассудствах, получил отпущение и очистился от всех лежащих на тебе грехов и вин.
– Ну нет, отец Саймон! – возразил Смит. – Сейчас, когда вы можете спокойно выслушать меня, я поклянусь на евангелии и призову в свидетельницы мою старую няню, тетушку Шулбред, что по этой части…
– Нет, нет, – перебил Гловер, – к чему опять будить разногласия, которые нужно забыть!
– Слушай ты, Саймон!.. Саймон Гловер!.. – доносилось между тем снизу, с улицы.
– Верно, сынок Смит, – сказал внушительно Гловер, – у нас другое дело на руках. Нам с тобою нужно немедленно идти в ратушу. Кэтрин до нашего возвращения останется здесь под присмотром тетушки Шулбред, а потом, так как в городе неспокойно, мы с тобою, Гарри, вместе отведем ее домой, и посмотрю я на того смельчака, который попробует нас задеть!
– Ну вот, дорогой отец, – улыбнулась Кэтрин, – теперь ты принимаешь на себя роль Оливера Праудфьюта, доблестного горожанина, собрата Генри Смита по оружию!
Лицо ее отца омрачилось,
– Ты сказала, дочка, колкое словцо, но ты еще не знаешь, что случилось… Поцелуй его, Кэтрин, в знак прощения.
– Ну нет, – возразила дочь. – Я и без того была к нему слишком милостива. У него еще будет время требовать награды, когда он благополучно доставит домой свою заблудившуюся девицу.
– А до тех пор, – сказал Генри, – я на правах хозяина дома потребую того, чего ты мне не хочешь разрешить на иных основаниях.
Он заключил девушку в объятия, и ему разрешено было сорвать поцелуй, который она не хотела подарить ему сама.
Когда они спускались по лестнице, старик положил руку Смиту на плечо и сказал:
– Генри, самые горячие мои пожелания исполнились, но угодно было святым, чтобы это свершилось в трудный и страшный час.
– И то верно, – сказал Смит. – Но ты знаешь, отец, если и часто бывают беспорядки в Перте, зато длятся они по большей части недолго. – И, отворив дверь, которая вела из его жилища в кузницу, он крикнул:
– Эй, друзья! Энтон, Катберт, Дингвел и Ринган! Чтоб ни один из вас не тронулся с места, пока я не вернусь. Будьте верны, как мечи, которые я научил вас ковать. Получите каждый по французской кроне и веселое шотландское угощение на всех, если не ослушаетесь моего приказа. Я оставляю на вас драгоценное сокровище. Хорошенько сторожите дверь… Маленький Дженкин пусть ходит вверх и вниз по проулку, а вы держите оружие под рукой на случай, если кто подступится к дому. Никому не открывайте дверь, покуда мы не вернемся – отец Гловер или я. Дело идет о моей жизни и счастье.
– Смерть тому, что на них посягнет! – дружно отозвались чумазые богатыри, к которым он обратился.
– Моя Кэтрин теперь в такой безопасности, – сказал оружейник ее отцу, – как если бы ее оберегала в королевском замке стража в двадцать человек. Мы можем спокойно отправиться в ратушу. Пройдем через сад.
И он повел гостя маленьким фруктовым садом, где птицы, которым добросердечный мастер всю зиму давал приют и корм, в эту предвесеннюю пору встречали преждевременную улыбку февральского солнца слабой, неуверенной попыткой запеть.
– Послушай-ка моих менестрелей, отец! – сказал Смит. – Нынче утром я со злобой в сердце смеялся над ними, что вот они распелись, чудаки, когда впереди столько еще зимних дней. А теперь как будто по душе мне их веселый хор, потому что и у меня, как у них, есть моя Валентина. Пусть ждет меня завтра какая угодно беда – сегодня я самый счастливый в Перте человек, в городе и по графству, в крепостных стенах и на вольном поле.
– Однако мне время умерить твою радость, – сказал старый Гловер, – хоть, видит небо, я разделяю ее. Бедный Оливер Праудфьют, безобидный дурак, которого мы с тобою оба так хорошо знали, нынче утром был найден мертвым на улице
– Но оказался лишь мертвецки пьян? – сказал Смит. – Чашка крепкого бульона да крепкая взбучка от супруги живо вернут его к жизни.
– Нет, Генри, нет. Он убит – зарублен боевой секирой или чем-то в этом роде.








