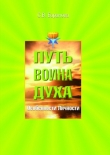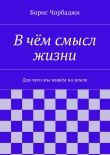Текст книги "Смысл жизни: учебное пособие"
Автор книги: Валерий Даниленко
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
3. ДА
Природа человека состоит в том, чтобы все время идти вперед.
Б. Паскаль
Твори и созидай.
Н.А. Уемов
Каково предназначение человека? Быть им.
С.Е. Лец
Нашей планете, как утверждают ученые, около 5 миллиардов лет. Жизнь же на ней эволюционировала в течение 3,5 миллиарда лет. А возраст человечества 3–5 миллионов лет. Какой же вывод отсюда следует?
Мы очень молоды. Мы, люди, находимся даже не в подростковом возрасте, а в детском. Что такое 3–5 миллионов лет по сравнению с 3,5 миллиарда?
В своем интеллектуальном развитии человечество оторвалось от своих диких предков на колоссальное расстояние, но и до сих пор его большинство пребывает в невежестве. И до сих пор оно находится в начале своей культурной эволюции. Расстояние, пройденное им по пути очеловечения, слишком ничтожно в сравнении с тем, которое ему еще предстоит пройти.
Мы – дети-несмышленыши. Но среди нас есть и были люди более зрелые – те, кто смог подняться до поиска высокого смысла жизни. Этот смысл не может не быть эволюционным. Только в том случае, если каждый из нас станет проводником культурной эволюции, мы имеем шанс повзрослеть, чтобы сделать себя лучше – умнее, добрее, веселее, богаче, счастливее. Так стоит ли нам – на этом фоне – жалеть неприкаянных? Их не жалеть надо, а благодарить: они – лучшие из нас. Они – первопроходцы. Они – пионеры. Среди людей, успокаивающихся на удовлетворении своих биологических потребностей, видящих в нем всепобеждающий смысл своей жизни и идущих ради него на бесчисленные сделки с совестью, жили и те, кто эволюционировал как человек дальше других, стал взрослее (в эволюционном смысле!), сумев созреть до поиска своего высокого назначения на Земле. Что же из того, что вопрос «Зачем?» для многих из них оказывался непосильным? Но они искали ответ на него в том числе и для нас в то время, когда большинство жило и живет биологически по преимуществу, находясь в детском (в эволюционном смысле!) состоянии, не далеко оторвавшись от наших животных предков. Но не будем спешить с презрением к «биологическому большинству»: во-первых, потому что «не судите, да не судимы будете», а во-вторых, какие претензии могут быть к трех– или пятилетнему, скажем для сравнения, ребенку (вспомним об эволюционном возрасте человека)?
Вспомним, чему больше всего радуются родители. Они радуются не только тому, что их ребенок жив и здоров, но и его приобщению к культуре – его рисункам, его языковым навыкам, его доброте и т.п. Подлинно эволюционистская позиция по отношению к людям – в том числе и ко взрослым – есть позиция родительская (отеческая, материнская). Об этом тем более полезно постоянно помнить, что в каждом из нас борьба между интересами духа и интересами тела происходит на протяжении всей жизни с переменным успехом. Вывод отсюда следует только один: поменьше терзать себя мыслью о несовершенстве рода человеческого да побольше хвалить его конкретных представителей за их высокие духовные устремления. Можно, в частности, оценить эволюционный возраст современного человечества – в качестве поощрения – не как детский, а как подростковый. Как это делал, например, Максим Горький, когда он писал: «Человек все еще во многом зверь, но вместе с этим он – культурно – все еще подросток, и приукрасить его, похвалить – весьма полезно: это поднимает его уважение к себе, это способствует развитию в нем доверия к своим творческим силам. К тому же похвалить человека есть за что – все хорошее, общественно ценное творится его силою, его волей» (Горький М. Собр. соч.: в 16 т. Т. 16. М., 1979. С. 288).
Приведенные слова я нашел в статье М. Горького «О том, как я учился писать». В них выведена, по мнению ее автора, специфика романтического метода в искусстве. А между тем эти слова имеют отношение не только к искусству, но и к культуре в целом. Более того, в них схвачена одна из существенных черт эволюционистского мировоззрения: без гуманного, поощрительного отношения человека к человеку культурная эволюция невозможна. Напротив, утрата подобного отношения ведет людей к инволюции, к их биологизации, к торжеству зверского начала в человеке над собственно человеческим, культурным.
Эволюционная интерпретация романтизма у М. Горького вовсе не случайна. Он был вполне состоявшимся эволюционистом, т.е. видел в современном мире результат его многомиллионного развития. Подобный, эволюционный, взгляд он распространял прежде всего на культуру, в особенности восхищаясь выдающимися деятелями науки и искусства. Организация им издания книг о «жизни замечательных людей» (ЖЗЛ) – вовсе не случайный эпизод в его биографии. Сам он был образцом культурной эволюции. Его любовь к выдающимся деятелям культуры не была слепой. Достаточно в связи с этим напомнить, как резко он критиковал Л.Н. Толстого и в особенности Ф.М. Достоевского за их призыв к смирению. Не раб, а свободный человек был его идеалом. Первый пассивен в культурогенезе, а второй активен, созидателен, продуктивен. Первого он изобразил в образе «мещанина», а второго он считал «самым великим чудом мира и творцом всех чудес на земле» (там же. С. 293). Именно такой человек – человек-творец, человек-созидатель, Человек с большой буквы – «создает культуру, которая есть наша, нашей волей, нашим разумом творимая “вторая природа”» (там же. С. 283). Человек с большой буквы, как мы понимаем, есть эволюционный идеал! Он всегда впереди, но ближе к нему продвигаются люди свободного творческого труда. Свободного, между прочим, и от «пакостной власти копейки» (там же. С. 298).
Безволие – вот главное препятствие на пути к Человеку. Человек с большой буквы – это человек, умеющий реализовывать свою, человеческую, сущность. Но даже и в тех, кто уходит дальше других на пути к Человеку, живет человек с маленькой буквы, волей случая оказавшийся в таком-то времени и в таком-то пространстве. У индивидуального человека, как утверждал Б. Паскаль, вечность позади – до его рождения – и вечность впереди – после его кончины. Его окружает бесконечное пространство слева и справа, сверху и снизу, впереди и сзади.
Вот и выходит, что там, где «я» индивидуальное, – сознание своей ничтожности, а там, где «я» родовое, – приобщение к Человеку, к человечеству, которое имеет больше шансов на вечность, чем отдельный человек. Вот и выходит, что жить нужно не столько «я» индивидуальным, сколько «я» родовым, т.е. быть Человеком. В этом и состоит высший – эволюционно-культурный (или культурогенический) – смысл человеческой жизни. Быть Человеком – значит вписаться в многовековой процесс гоминизации (очеловечения) – культурогенез и максимально успешно совершить культурогенез индивидуальный.
Осознание культурной сущности человека (а стало быть, и эволюционно-культурного смысла человеческой жизни) до сих пор остается достоянием незначительного круга людей. К ним относятся Д. Бруно, Ж. де Ламетри, Г. Спенсер, Ж.-Б. Ламарк, Ч. Дарвин, Л.Н. Толстой, А.М. Горький, П. Тейяр де Шарден, В.И. Вернадский, А.Н. Заболоцкий, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, Н.Н. Моисеев, К. Лоренц, Э. Ласло, Г. Фоллмер. Их имена должны быть вписаны золотыми буквами в историю человечества. Их эволюционные идеи еще станут достоянием общественного сознания. Их еще ждет праздник общенародного признания.
Вот как девятнадцатилетний Лев Толстой выразил в своем дневнике эволюционный смысл человеческой жизни: «Начну ли я рассуждать, глядя на природу, я вижу, что все в ней постоянно развивается и что каждая составная часть ее способствует бессознательно к развитию других частей; человек же, так как он есть такая же часть природы, но одаренная сознанием, должен так же, как и другие части, но сознательно употребляя свои душевные способности, стремиться к развитию всего существующего. Стану ли я рассуждать, глядя на историю, я вижу, что весь род человеческий постоянно стремился к достижению этой цели. Стану ли рассуждать рационально, то есть рассматривая одни душевные способности человека, то в душе каждого человека нахожу бессознательное стремление, которое составляет необходимую потребность его души. Стану ли рассуждать, глядя на историю философии, найду, что везде и всегда люди приходили к заключению, что цель жизни человека есть всестороннее развитие человечества. Стану ли рассуждать, глядя на богословие, найду, что у всех почти народов признается существо совершенное, стремиться к достижению которого признается целью всех людей. И так я, кажется, без ошибки за цель моей жизни могу принять сознательное стремление к всестороннему развитию всего существующего» (Толстой Л.Н. Собр. соч. Т.19. М., 1965. С. 39).
К художественному освоению эволюционного, культурогенического смысла человеческой жизни русская литература шла с трудом. Возьмем, например, известный рассказ А.П. Чехова «Дом с мезонином». В нем выведен спор между живописцем, от лица которого ведется повествование, и молодой сельской учительницей – Лидией Волчаниновой. В отличие от живописца, ведущего по преимуществу праздный образ жизни, Лидия с увлечением занимается просветительством, борется с произволом земского начальства и оказывает односельчанам посильную медицинскую помощь. Живописец не принимает ее деятельности. Между тем в его речах обнаруживаются явные культурогенические мотивы. Вот как он обрисовывает перед Лидией свою позицию: «Нужно освободить людей от тяжкого физического труда. Нужно облегчить их ярмо, дать им передышку, чтобы они не всю свою жизнь проводили у печей, корыт и в поле, но имели бы также время подумать о душе, о боге, могли бы пошире проявить свои духовные способности. Призвание всякого человека в духовной деятельности – в постоянном искании правды и смысла жизни. Сделайте же для них ненужным грубый животный труд, дайте им почувствовать себя на свободе, и тогда увидите, какая в сущности насмешка эти книжки и аптечки. Раз человек сознает свое истинное призвание, то удовлетворять его могут только религия, науки, искусства, а не эти пустяки» (Чехов А.П. Собр. соч.: в 8 т. Т. 6. М., 1970. С. 98).
Живописец, как видим, вовсе не против распространения культуры среди народа (правда, он делает упор лишь на духовную культуру), но почему же он против книжек и аптечек, которые Лидия распространяет среди крестьян? Разве они не привносят в их жизнь элементов культуры? Ответ на этот вопрос очень прост: по сути своей спор между живописцем и учительницей в анализируемом рассказе должен быть расценен как мнимый и надуманный. Оба спорщика занимают культурогеническую позицию. Следовательно, они стоят на одной и той же мировоззренческой платформе. Все дело лишь в том, что пути к развитию культуры они видят по-разному. Если Лидия стоит на земле, то живописец витает в облаках утопических мечтаний, но на этом его культурогенизм и заканчивается. Чуть ли не в духе социалистов-утопистов он так отвечает Лидии на вопрос о том, возможно ли избавление от тяжелого физического труда: «Да. Возьмите на себя долю их труда. Если бы все мы, городские и деревенские жители, все без исключения, согласились поделить между собою труд, который затрачивается вообще человечеством на удовлетворение физических потребностей, то на каждого из нас, быть может, пришлось бы не более двух-трех часов в день. Представьте, что все мы, богатые и бедные, работаем только три часа в день, а остальное время у нас свободно. Представьте еще, что мы, чтобы еще менее зависеть от своего тела и менее трудиться, изобретаем машины, заменяющие труд, мы стараемся сократить число наших потребностей до минимума. Мы закаляем себя, наших детей, чтобы они не боялись голода, холода и мы не дрожали бы постоянно за их здоровье, как дрожат Анна, Мавра и Пелагея. Представьте, что мы не лечимся, не держим аптек, табачных фабрик, винокуренных заводов, – сколько свободного времени у нас остается в конце концов! Все мы сообща отдаем этот досуг наукам и искусствам. Как иногда мужики миром починяют дорогу, так и все мы сообща, миром, искали бы правды и смысла жизни, и – я уверен в этом – правда была бы открыта очень скоро, человек избавился бы от этого постоянного мучительного, угнетающего страха смерти, и даже от самой смерти» (Чехов А.П. Указ. соч. С. 98).
Очень заманчиво, но утопично даже и для будущих мечтателей. Но дело в конечном счете не в этом, а в том, что герои «Дома с мезонином» ищут пути к эволюционному, культурогеническому смыслу человеческой жизни, хотя осознание этого смысла у них еще не отличается особой ясностью.
Неприкаянным оказался горьковский Фома Гордеев. Отец оставил ему миллионы. Он учил сына: «На людей – не надейся... многого от них не жди... Мы все для того живем, чтобы взять, а не дать... О, господи, помилуй грешника!» (Горький М. Фома Гордеев: повесть. Рассказы. М., 1985. С. 74).
Сын оказался плохим учеником. В него, как клещ, вцепился вопрос: «Зачем?» Он почувствовал себя хуже таракана, который знает, куда он ползет и зачем. А деньги? Вот вам его ответ: «Деньги? Много их у меня!.. Задушить могу ими до смерти, засыпать тебя с головой... Обман один – дела эти все... Вижу я дельцов – ну что же? Нарочно это они кружатся в делах, для того, чтобы самих себя не видать было... Прячутся, дьяволы... Ну-ка освободи их, от суеты этой, – что будет? Как слепые, начнут соваться туда и сюда... с ума посходят! Ты думаешь, есть дело – так будет от него человеку счастье? Нет, врешь! Тут – не все еще!.. Река течет, чтобы по ней ездили, дерево растет для пользы, собака – дом стережет... всему на свете можно найти оправдание! А люди – как тараканы – совсем лишние на земле... Все для них, а они для чего? В чем их оправдание?» (с. 165).
Вот как заканчивается повесть: «Недавно Фома явился на улицах города. Он какой-то истертый, измятый и полоумный. Почти всегда выпивши, он появляется – то мрачный, с нахмуренными бровями и с опущенной на грудь головой, то улыбающийся жалкой и грустной улыбкой блаженненького. Иногда он буянит, но это редко случается. Живет он у сестры на дворе, во флигельке...» (с. 255).
Жалкий человек! Не вышло из него Саввы Морозова. Задатки были, но он не хотел учиться. Вопрос «Зачем?» остался для Фомы Гордеева нерешенным. Он загулял, порвал со своим классом и стал приживальщиком. До эволюционного смысла жизни ему было далеко как до солнца.
Предельно ясно эволюционно-культурный смысл человеческой жизни выразил наш великий психолог-эволюционист А.Н. Леонтьев. Вот какой обобщенный образ культуры он дал в своем основном труде: «В своей деятельности люди не просто приспосабливаются к природе. Они изменяют ее в соответствии со своими развивающимися потребностями. Они создают предметы, способные удовлетворить их потребности, и средства для производства этих предметов – орудия, а затем и сложнейшие машины. Они строят жилища, производят одежду и другие материальные ценности. Вместе с успехами в производстве материальных благ развивается и духовная культура людей; обогащаются их знания об окружающем мире и о самих себе, развивается наука и искусство» (Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. 4-е изд. М., 1981. С. 414).
В своей психической эволюции человек сумел так существенно оторваться от животных по той причине, что он стал создавать продукты материальной и духовной культуры. Стремление к их улучшению выступало в истории людей в качестве стимула для развития их интеллекта, поскольку любой продукт культуры первоначально моделируется в сознании его творца. Развитие культуры, таким образом, есть главный фактор развития человеческого мышления.
Основным показателем интеллектуального развития у человека является его способность к творчеству, благодаря которой и создаются новые культурные ценности. Однако прежде, чем кто-либо овладеет этой способностью, он должен освоить уже имеющиеся культурные достижения. Процесс их освоения есть не что иное, как процесс очеловечения. А.Н. Леонтьев писал: «...каждый отдельный человек учится быть человеком. Чтобы жить в обществе, ему недостаточно того, что ему дает природа при его рождении. Он должен еще овладеть тем, что было достигнуто в процессе исторического развития человеческого общества. Перед человеком целый океан богатств, веками накопленных бесчисленными поколениями людей – единственных существ, населяющих нашу планету, которые являются созидателями. Человеческие поколения умирают и сменяют друг друга, но созданное ими переходит к следующим поколениям, которые в своих трудах и борьбе умножают и совершенствуют переданные им богатства – несут дальше эстафету человечества» (Леонтьев А.Н. Указ. соч. С. 417).
Еще более выразительно об очеловечении он писал таким образом: «Человек не рождается наделенным историческими достижениями человечества. Достижения развития человеческих поколений воплощены не в нем, не в его природных задатках, а в окружающем его мире – в великих творениях человеческой культуры. Только в результате процесса присвоения человеком этих достижений, осуществлябщихся в ходе его жизни, он приобретает подлинно человеческие свойства и способности; процесс этот как бы ставит его на плечи предшествующих поколений и высоко возносит над всем животным миром» (там же. С. 434).
Честь и хвала человеку, что в способности приспосабливаться он превзошел своих эволюционных собратьев! Но все-таки сводить всю человеческую жизнь к животному самовыживанию, к рабскому приспособлению к окружающей среде – насмешка над человеком, его анимализация, ибо человек заслуживает более высокой оценки: он не только приспосабливается к окружающей среде, как животное, но и изменяет, улучшает, совершенствует эту среду. Он думает не только о том, как ему получше пристроиться к этой многотрудной жизни, но и о том, чтобы его потомкам жилось лучше, чем это удалось ему и его современникам. Он готов на самопожертвование. Он участвует в продолжающемся культурогенезе, чтобы поднять культуру на новый, более высокий уровень ее развития. Он не только видит в ее продуктах – языке, науке, искусстве, нравственности и т.д. – средство к телесному самовыживанию, но и признает их высочайшую духовную самоценность. Таков идеальный Человек (с большой буквы). Реальные же люди лишь в той или иной мере приближаются к этому идеалу, но сущность человека для всех одна – культуросозидательная. Она состоит в инкультурации – первоначальном врастании в культуру и максимальном участии в ее дальнейшем развитии. Только в этом случае человек живет, а не выживает. Только в этом случае он – человек, а не говорящее животное.
Ни одно мировоззрение не способно скрыть от нас трагизм индивидуальной жизни, состоящий в первую очередь в ее скоротечности и конечности. Но эволюционизм позволяет его сгладить, поскольку он учит нас выходить за пределы нашей индивидуальной жизни к жизни человечества. Более того, он позволяет в душе каждого из нас хранить высокий образ Человека. В.С. Бушин писал:
Весь этот мир —
от блещущей звезды
До малой птахи,
стонущей печально,
Весь этот мир
труда, любви, вражды —
Весь этот мир
трагичен изначально.
И ничего другого
здесь не жди,
А наскреби терпенье
по сусекам
И, зная все,
сквозь этот ад иди
И до конца
останься человеком.
Предельно кратко эволюционный смысл человеческой жизни выразил Панков – один из героев повести А.М. Горького «Мои университеты». Он сказал: «Суть жизни в том, чтобы человек все дальше отходил от скота» (Горький А.М. Детство. В людях. Мои университеты. Пьесы. М., 1984. С. 498).
Подлинно эволюционный смысл жизни станет доступен широкой массе людей только в далеком будущем, когда созреют условия для гармонического развития человека. Сейчас же можно говорить лишь о смысле жизни идеального человека. Как и любой идеал, он всегда впереди. Но мы можем сформулировать его: смысл человеческой жизни состоит в максимальном участии человека в развитии культуры.
Этот смысл только тогда будет понят во всей глубине, когда он будет выведен из мировой эволюции. Вот почему я предоставлю здесь слово великолепной семерке универсальных эволюционистов.
Демокрит:
1. Вначале земля блуждала вследствие своей малости и легкости; с течением времени, сделавшись плотнее и тяжелее, она пришла в неподвижное состояние.
2. Когда эти образования, носившие плод во чреве, вполне созрели и их оболочки прожглись насквозь и разорвались, тогда из них возникли разнообразные формы животных.
3. Земля же, все более отвердевая под действием солнечного огня и ветров, наконец, более стала не в состоянии рождать ничего из более крупных животных, но каждый вид живых существ стал рождаться от их взаимного совокупления.
4. Первые люди произошли из воды и ила.
5. Появившиеся люди вели беспорядочный и звероподобный образ жизни. Действуя каждый сам по себе, в одиночку, они выходили на поиски пищи и добывали себе наиболее годную траву и дикорастущие плоды деревьев.
6. Первые люди научились помогать друг другу благодаря пользе, приносимой совместными действиями. Собираясь же вместе вследствие страха, они мало-помалу стали познавать знаки, подаваемые ими друг другу.
7. Сама нужда служила людям учительницей во всем, наставляя их соответствующим образом в познавании каждой вещи. Так нужда научила всему богато одаренное от природы живое существо, обладающее годными на все руками, разумом и сметливостью души.
8. От животных мы путем подражания научились важнейшим делам: а именно мы – ученики паука в ткацком и портняжном ремеслах, ученики ласточки в построении жилищ и ученики певчих птиц, лебедя и соловья, в пении.
Жульен де Ламетри:
1. Первые поколения живых существ были, должно быть, очень несовершенны. У одних не было пищевода, у других – желудка, наружных женских половых органов, кишок и т.д. Очевидно, что только те животные могли выжить, сохраниться и размножиться, у которых были все необходимые для размножения органы, у которых, словом, не отсутствовало ничего существенного. И наоборот, те из животных, которые были лишены какой-нибудь абсолютно необходимой части, должны были умереть...
2. Подобно тому как в силу некоторых физических законов невозможно, чтобы у моря не было приливов и отливов, точно так же благодаря определенным законам движения образовались глаза, которые видят, уши, которые слышат, нервы, которые чувствуют, язык, то способный, то неспособный к речи в зависимости от организации; наконец, эти же законы создали органы мысли.
3. Переход от животных к человеку не очень резок. Чем, в самом деле, был человек до изобретения слов и знания языков? Животным особого вида... он отличался от обезьяны и других животных тем, чем обезьяна отличается и в настоящее время, т.е. физиономией.
4. Если взглянуть на величину человеческого мозга, что этот орган может вместить громадное количество идей и, следовательно, требует для выражения этих идей большее количество знаков, чем у животных. В этом именно и состоит превосходство человека.
5. Слова, языки, законы, науки и искусства появились только постепенно; только с их помощью отшлифовался необделанный алмаз нашего ума. Человека дрессировали, как дрессируют животных; писателем становятся так же, как носильщиком... подобно тому, как обезьяна научается снимать и надевать шапку или садиться верхом на послушную ей собаку.
Герберт Спенсер:
1. Развитие (эволюция) есть интеграция материи, сопровождаемая рассеянием движения, во время которой материя переходит от состояния несвязной и неопределенной однородности к состоянию определенной и связной разнородности, а неизрасходованное движение претерпевает аналогичное же преображение.
2. Вещество, входящее в состав нашей Солнечной системы, принимая более плотную форму, вместе с тем изменялось путем перехода от единства распределения к его многообразию. Затвердевание Земли сопровождалось переходом от сравнительного однообразия к чрезвычайному разнообразию. Развиваясь из зародыша в тело сравнительно большого объема, каждое животное или растение также переходит от простого к сложному. Возрастание общества, как в отношении его численности, так и прочности, сопровождается возрастанием разнородности его политической и экономический организации. То же самое относится ко всем надорганическим продуктам – языку, науке, искусству и литературе.
3. Большая часть животных доводит свои классификации не далее ограниченного числа растений или существ, служащих им пищей, не далее ограниченного числа зверей, служащих им добычей, и ограниченного числа мест и материалов, – наименее развитая личность из человеческой расы обладает знанием отличительных свойств большого разнообразия веществ, растений, животных, орудий, лиц и прочего не только как классов, но и как особей.
4. Наука есть усовершенствование обыкновенного знания, приобретенного с помощью невооруженных чувств и необразованного разума.
5. Объединенное знание возможно и... цель философии – достижение его. Философия – вполне интегрированное знание.
Владимир Иванович Вернадский:
1. Геологический эволюционный процесс отвечает биологическому единству и равенству всех людей – Homo Sapiens и его геологических предков Sinanthropus и др., потомство которых для белых, красных, желтых и черных рас – любым образом среди них всех – развивается безостановочно в бесчисленных поколениях. Это закон природы.
2. Исторический процесс на наших глазах коренным образом меняется. Впервые в истории человечества интересы народных масс – всех и каждого – и свободной мысли личности определяют жизнь человечества, являются мерилом его представлений о справедливости. Человечество, взятое в целом, становится мощной геологической силой. И перед ним, перед его мыслью и трудом, становится вопрос о перестройке биосферы в интересах свободно мыслящего человечества как единого целого. Это новое состояние биосферы, к которому мы, не замечая этого, приближаемся, и есть «ноосфера».
3. Ноосфера есть новое геологическое явление на нашей планете. В ней впервые человек становится крупнейшей геологической силой. Он может и должен перестраивать своим трудом и мыслью область своей жизни, перестраивать коренным образом по сравнению с тем, что было раньше. Перед ним открываются все более и более широкие творческие возможности. И может быть, поколение моей внучки уже приблизится к их расцвету...
4. Ноосфера – последнее из многих состояний эволюции биосферы в геологической истории – состояние наших дней... Вероятно, в этих лесах эволюционным путем появился человек около 15–20 млн лет томуназад... Сейчас мы переживаем новое геологическое эволюционное изменение биосферы. Мы входим в ноосферу. Мы вступаем в нее в новый стихийный геологический процесс – в грозное время, в эпоху разрушительной мировой войны. Но важен для нас факт, что идеалы нашей демократии идут в унисон со стихийным геологическим процессом, с законами природы, отвечают ноосфере. Можно смотреть поэтому на наше будущее уверенно. Оно в наших руках. Мы его не выпустим.
5. На необитаемом острове, без надежды поведать кому-нибудь мысли и достижения, научные открытия или творческие художественные произведения, без надежды выбраться – надо ли менять творческую работу мысли, или же надо продолжать жить, творить и работать так, как будто живешь в обществе и стремишься оставить след своей работы в максимальном ее проявлении и выражении? Я решил, что надо именно так работать... Я думал и думаю, что мысль и ее выражение не пропадают, даже если никто не узнает о происходившем духовном творении на этом уединенном острове.
Пьер Тейяр де Шарден:
1. Что такое эволюция – теорема, система, гипотеза?.. Нет, нечто гораздо большее, чем все это: она – основное условие, которому должны отныне подчиняться и удовлетворять все теории, гипотезы, системы, если они хотят быть разумными и истинными. Свет, озаряющий факты, кривая, в которой должны сомкнуться все линии, – вот что такое эволюция.
2. С появлением первых белковых веществ – сущность земного феномена определенно переместилась – она сосредоточилась в столь с виду ничтожной пленке биосферы. Ось геогенеза окончилась, отныне она продолжается в биогенезе. А этот последний в конечном итоге выражается в психогенезе.
3. Психогенез привел нас к человеку. Теперь психогенез стушевывается, он сменяется и поглощается более высокой функцией – вначале зарождением, затем последующим развитием духа – ноогенезом... Дух ткет и развертывает покров ноосферы.
4. Человек, по удачному выражению Джулиана Хаксли, ...не что иное, как эволюция, осознавшая саму себя. До тех пор пока наши современные умы (именно потому, что они современные) не утвердятся в этой перспективе, они никогда, мне кажется, не найдут покоя.
5. Я думаю, вряд ли у мыслящего существа бывает более великая минута, чем та, когда с глаз его спадает пелена и открывается, что он не затерянная в космическом безмолвии частица, а пункт сосредоточения и гоминизации универсального стремления к жизни. Человек – не статический центр мира, как он долго полагал, а ось и вершина эволюции, что много прекраснее.
6. Ложен и противоестествен эгоцентрический идеал будущего. Любой элемент может развиваться и расти лишь в связи со всеми другими элементами и через них... Для человека нет будущего, ожидаемого в результате эволюции, вне его объединения с другими людьми.
7. Принять эволюцию и способствовать, все более и более сознательно, ее продвижению во всех областях: таковым мне показалось условие реального прогресса жизни, расцвета человечества до финального единства.
Герхард Фоллмер:
1. Из палеонтологических исследований вытекает, что живые организмы существуют на Земле, по меньшей мере, три миллиарда лет. Относительно быстро после образования земной коры, 4,5 млрд. лет назад должны были возникать предступени жизни. Тогда господствовали совершенно иные тепловые, атмосферные и геологические связи, нежели сегодня. Относительно взаимосвязей праатмосферы и праморя и об энергетических источниках этого времени мы имеем теперь хорошую информацию. Эти условия можно имитировать экспериментально. Удивительным образом затем довольно легко оказалось изготовить важнейшие биохимические составляющие (аминокислоты, сахар и др.) и синтезировать их в белок и нуклеиновые кислоты. Эти эксперименты опирались на ту предпосылку, что абиотический синтез важнейших органических связей в условиях праатмосферы должен осуществляться с необходимостью. Такие макромолекулы, растворенные в “первичном бульоне”, могли затем составлять различные комбинации друг с другом и “запустить” процесс биологической эволюции.
2. В развитии органического мы сталкиваемся с новым классом законов, биохимическими и биологическими. Это отнюдь не означает, что физические законы утрачивают здесь свою значимость; они сформулированы так, что значимы для всех систем, в том числе биологических. Так, также и организмы не могут противоречить закону сохранения энергии; мышца, которая осуществляет работу, должна откуда-либо получать энергию (напр., из питания), точно так же, как и нейрон в мозге, который посылает нервный импульс. Но физические законы должны дополняться биологическими и биохимическими законами.