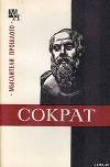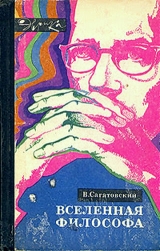
Текст книги "Вселенная философа (с илл.)"
Автор книги: Валерий Сагатовский
Жанры:
Философия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 16 страниц)
ЧЕЛОВЕК НЕ НА МЕСТЕ
«Доктор Кох, в обязанность которого входило лечить обывателей небольшого городка, сидел за перегородкой, никого к себе не пускал и сам не выходил навстречу. К нему приходили с насморком, с грыжей, с нарывом на пальце, с флюсом, с мигренью, с болью в животе. „Ступайте прочь, оставьте меня в покое!“ – говорил он. И на первый взгляд это казалось чудовищной бестактностью, жестокостью, возмутительным высокомерием. Обыватели были вправе возмущаться доктором, который не хочет лечить их флюсы, грыжи и насморки. Но однажды доктор вышел и вынес людям „палочку Коха“» (Вл. Солоухин).
Ситуация, в общем-то, трагическая. Свое любимое дело человек вынужден делать тайком и урывками, подвергаясь нападкам – и вполне обоснованным – за то, что он не делает свое официальное, порученное ему, тоже очень нужное, но не любимое им дело. Человек не на месте…
В капиталистическом обществе это расхождение между призванием и выполняемой работой с достаточной остротой осознается немногими, ибо для большинства вопрос стоит более жестко: получить бы хоть какую-нибудь работу.
В нашем обществе, где право на труд стало всеобщим достоянием, потребности людей усложняются. Человек уверен, что он всегда найдет себе работу, обеспечивающую ему прожиточный минимум. Но вот соответствует ли она его внутренним потребностям («хочу») и возможностям («могу»)?
Чтобы более успешно обсудить последствия такого несоответствия и пути его преодоления, воспользуемся определенной моделью соотношения потребностей и возможностей общества, с одной стороны, и личности – с другой. Представим себе общество как систему вакантных мест или позиций, которые должны быть заполнены, заняты живыми людьми. Каждое место определяется списком обязанностей, определенной ролью, которую должен играть занявший его человек. Выполнение всех ролей обеспечивает бесперебойную работу социальной машины. Но, во-первых, несовершенство общества порождает несовершенные роли, на выполнение которых трудно подыскать добровольных актеров. Во-вторых, роль, выполнение которой требуется данным местом, может просто оказаться не по душе человеку: ведь люди-то именно живые, то есть обладающие своими потребностями и возможностями, которые могут не совпадать с формой места, оказаться слишком маленькими или слишком большими для него или просто иметь иной покрой.
Несоответствие места и его «наполнителя» трагично и для общества, и для личности. Почему не каждый педагог может и хочет последовательно применять опыт Макаренко? Почему не каждый врач на практике применяет принципы целостного подхода к больному, разработанные классиками русской медицины? Почему Маркс, наблюдая некоторых своих «последователей», говорил, что он сам кто угодно, но только не «марксист»?
Потому, что ни одни, ни другие, ни третьи внутренне не готовы, не подходят для выполнения обязанностей, налагаемых позициями подлинного педагога, врача или революционера. Они явно «не туда попали», а в результате расплачивается общество. Ибо при таких кадрах любое хорошее начинание напоминает игру в испорченный телефон: дойдя до непосредственного исполнителя, замечательная идея может перейти в свою противоположность.
Но и личность несет тут явный ущерб. Не понимая смысла своих обязанностей, человек становится конформистским «рычагом», а свои подлинные пристрастия удовлетворяет не в общественно значимой работе, а в каком-либо хобби (никуда не годный педагог и отличный коллекционер марок).
«Случай Коха» еще более трагичен. Здесь человек тянется к не менее, а даже к более полезному для общества делу, но занятое им общественное место сковывает его по рукам и ногам.
Такое использование человеческих способностей не по назначению я, не колеблясь, назову социально опасным действием, то есть преступлением. Ведь это все равно, что забивать скрипкой гвозди, а молоток назначать «и. о. скрипки».
Речь идет не только о людях с выдающимися способностями. Любой нормальный человек может и должен найти такое место, на котором он принесет наибольшую пользу обществу и получит наибольшее личное удовлетворение. Вот, например, корреспонденция о мастере своего дела – водителе троллейбуса. Что, казалось бы, хитрого – веди себе машину по отличной асфальтированной трассе, и все. Но, оказывается, и на этом месте можно сделать многое: рассказать пассажирам о достопримечательностях края, сделать их пребывание в троллейбусе максимально удобным. Водитель установил циферблаты, показывающие время отправления с каждой остановки, сделал маршрутный указатель, над каждым креслом – специальное освещение, рядом на стенке – крючок для одежды, под ногами передвижные планки, регулируемые в зависимости от роста пассажира. Мелочи? Но сколько сил и энергии экономят нам такие «мелочи», и разве не приятно сознавать это, изобретая их? «Если человек, – делает вывод автор заметки, – чувствует удовольствие оттого, что он мастер своего дела и таким образом доставляет приятное людям, он счастливый человек».
«Ну а при чем здесь философия?» – может уже, пожалуй, спросить читатель. Пусть, мол, этим занимаются педагоги и сами люди при выборе своей профессии.
Верно, философ не решает вопросы профориентации. Но без философии нельзя выйти на такие исходные рубежи, которые обеспечат успех в выборе своего места в жизни.
Социалистическое общество имеет все объективные возможности, чтобы трагедия «Человек не на месте» навсегда отошла в прошлое. Весь вопрос в том, достаточно ли хорошо мы эти возможности реализуем. А для этого надо добиваться оптимального соответствия между множеством мест, необходимых для нормального функционирования общества, и множеством их «наполнителей» (личностей). Всегда ли верно мы представляем себе эти пути?
В последние годы на страницах журнала «Вопросы философии» развернулась дискуссия, начатая статьями Д. И. Дубровского и Э. В. Ильенкова. Д. И. Дубровский поставил вопрос о необходимости исследования зависимости между нейродинамическими особенностями мозга и психологическими особенностями поведения человека, его предрасположенностью к определенного рода деятельности. Это вызвало резкое возражение со стороны Э. В. Ильенкова, по мнению которого «От природы все равны в том смысле, что подавляющее большинство людей рождается с биологически нормальным мозгом, в принципе (здесь и дальше подчеркнуто мной. – В. С.) могущим – чуть легче или чуть труднее – усвоить все способности, развитые их предшественниками», ибо «ум – дар общества человеку». В общем, нечего залезать в биологию, наше общество достаточно сильно, чтобы, организовав нормальные условия жизни, получить в результате нормально развитых людей.
Э. Ильенков прав, но не вообще («правоты вообще» не существует), а на том чрезвычайно общем уровне, когда мы ставим вопрос так: может ли совершенное общество сделать из психически нормального ребенка полноценного гражданина?
Да, может. С этим нельзя не согласиться. Но Э. Ильенков совершает методологическую ошибку, не учитывая, что его оппонент ведет свои рассуждения на другом, гораздо более конкретном уровне. Д. И. Дубровского интересует не абстрактная возможность социализации любого новорожденного, но конкретные и наиболее оптимальные пути нахождения для человека наилучшего применения его природных задатков. Э. Ильенкову сама попытка какого-то «программирования» жизненного пути личности кажется кощунственным посягательством на ее свободное саморазвитие. И здесь он уже совершает ошибку, имеющую непосредственные практические последствия.
В самом деле, сравним два возможных решения вопроса: стихийное «свободное развитие» и «программирование», пусть даже несовершенное, развития личности на основе ранней диагностики природных задатков. В первом случае все решает случай: «Может быть, я найду себя или на моем пути встретится хороший человек, который поможет мне сделать это, а может быть, я окажусь „человеком не на месте“». При втором варианте несовершенная диагностика, открыв во мне талант физика, вдруг пропустит еще больший талант поэта. И тогда я вместо великого поэта, увлекающегося физикой, стану великим физиком, увлекающимся поэзией… Ну что ж, это еще не трагедия, а лишь урок обществу, которое должно будет совершенствовать способы определения задатков.
Однако ведь Э. Ильенков настаивает на том, что в принципе общество может развить у каждого все способности: чуть больше – чуть меньше. Простите меня, но это утопия. Это, конечно, возможно в принципе в том смысле, что из Пушкина можно было бы ценой колоссальных усилий очень талантливых педагогов сделать неплохого математика (правда, очень сомневаюсь, что только чуть хуже, чем поэта). Но нужно ли? Конечно, если зайца бить, он спички начнет зажигать. Но согласитесь, что гораздо разумнее растить инженера из ребенка, тянущегося к конструктору, чем из такого, который стремится лепить и рисовать. И очень полезно было бы знать зависимость этих разных ориентации и типов реакции от генетических, природных особенностей.
Непонятно, почему ради абстрактного принципа мы при острой нехватке времени, кадров, знаний должны отказываться от конкретных исследований, которые могут помочь людям лучше соотнести свои возможности с общественными потребностями. О, эта волюнтаристская убежденность, что «нет плохих учеников, есть плохие учителя»! На практике она больше всего способствует очковтирательству, завышению оценок и вытягиванию за уши тех, кто очень быстро смекает, в чем дело, и умудряется всю жизнь проволынить на положении вытягиваемых троечников. Конечно, учитель обязан приложить все усилия, чтобы каждый ученик получил среднее образование. Но знания, на кого и в каком направлении более эффективно действуют те или иные усилия, только помогут ему. Ведь ясно же, например, что при прочих равных условиях педагог затратит меньше (и не чуть) усилий на воспитание сангвиника с примесью меланхолизма (умеряющего излишнее легкомыслие и приспособляемость сангвиника), чем необузданного холерика. Так зачем же механически повторять, что в принципе он все равно может и должен воспитать любого (а у него их 45, а он сам не образец здоровья, так как уже подорвана нервная система, и не идеал мудреца – заели заседания и внешкольная работа), вместо того чтобы искать конкретные пути воспитания и обучения с учетом природной специфики? Ведь положение о том, что общество в принципе сделает любого индивида своим достойным членом, столь же верно и столь же абстрактно, как мысль о том, что жизнь в принципе всегда – рано или поздно (чуть-чуть: через 1 миллиард лет или через 10) – породит разум. А биологи почему-то смотрят не на любую жизнь, а выбирают приматов или дельфинов.
Я не призываю, однако, к тому, чтобы автоматически определять жизненный маршрут человека, исходя лишь из его природных склонностей. Дело обстоит значительно сложнее. Конечно, математическая школа в Новосибирске – великолепная вещь. Сейчас пытаются создать биологическую школу. (Гуманитарии, как всегда, раскачиваются дольше всех.) Но я убежден, что принцип достаточно ранней специализации внесет существенные коррективы в процесс обучения во всех областях. Сложность же заключается в точном определении границ этого «достаточно».
Мы не можем идти на поводу любых склонностей, ибо стремимся воспитать личность, гармоничную внутренне и находящуюся в органическом согласии с интересами общества. Следовательно, развитие узко специализированного таланта не самоцель.
Можно понять будущего физиолога, отмахивающегося от латинской грамматики. Но общество не может позволить ему отмахиваться ото всего: от мировоззрения, от культуры, от всего того, что делает работу сознательным трудом на благо общества, а не только «удовлетворением собственного любопытства за общественный счет».
А если у человека есть природные склонности к математике и совсем нет таковых к гражданским, мировоззренческим проблемам? Это уже недостаток. Вот тут-то и становится ясным, что мало выявить природные достоинства, надо еще так организовать социальную среду, чтобы она исправила природные недостатки. И не только тут.
Сторонник точки зрения Э. Ильенкова давно мог бы возразить мне, что ведь и склонность к математике или к другой области деятельности, диагносцируемая, скажем, у десятилетнего (или даже у трехлетнего) ребенка, – не чистый дар наследственности, но и сложный продукт общественной среды.
Верно. В своей полемике я хотел показать только то, что нельзя сбрасывать со счетов природную специфику людей, и отнюдь не собираюсь объявлять ее знание панацеей от всех бед.
Можно представить себе следующую схему учета и биологических задатков и воздействий социальной среды в формировании человека.
Э. Ильенков справедливо подчеркивает, что любое обучение надо строить как решение задач; чтобы получить неформальное знание, надо уметь увидеть вопрос и уметь ответить на него. Однако чтобы вопросы вставали изнутри, чтобы они не были навязанными извне нудными педагогическими приемами, надо чтобы они вырастали из наших внутренних потребностей. И здесь снова приходится учитывать не только плюсы, но и минусы, порождаемые сложностью современной обществен ной жизни. Индейскому мальчику, которого оставляли на лето в лесу с луком и стрелами, чтобы он таким образом мог сдать «охотничий минимум», было не толь ко труднее, чем его современному сверстнику, но и проще. Проще потому, что его потребности и интересы, а следовательно, и вопросы, которые он должен был решать, жестко диктовались условиями внешней среды. Современный же юноша, у которого внутренний интерес сводится пусть, скажем, к решению только математических задач, не рискует умереть с голоду. Как же пробудить в нем и другие интересы, нужные обществу?
Во-первых, надо определить те его склонности и задатки, которые можно наиболее эффективно развивать. Во-вторых, необходимо так организовать среду, чтобы она с той же однозначностью, как в случае с юным индейцем, ставила бы перед ним вопросы, умение отвечать на которые нужно обществу. Оставаясь материалистом, нельзя верить в то, что педагогическая проповедь на тему «ты должен…» может заменить собой реальную внешнюю или внутреннюю необходимость. Известно, например, что ребенок приучается к самостоятельности только в том случае, если он действительно вынужден делать что-либо самостоятельно. Такую ситуацию организовать сравнительно нетрудно. Организовать же среду так, чтобы формирующийся человек интересовался не только математикой или биологией и т. д., но и всем тем, что делает его гармонично развитой и общественно полезной личностью, бесспорно, во много раз труднее.
Но это единственный путь, на котором можно покончить с формализмом в обучении и воспитании, этой питательной средой конформизма.
А впрочем, не по такой ли схеме извечно строил человек свои отношения с природой: сначала взять ее дары, то, что у нее уже есть, а потом изобрести, создать самому то, что природа не предусмотрела. Также, видимо, есть смысл относиться и к своей собственной природе – природе человека. Сначала максимально использовать те задатки, которые делают личность наиболее пригодной к выполнению определенной общественной роли, а потом дополнить, развить в ней недостающие, но нужные обществу свойства путем организованного социального воздействия.
* * *
«…Бросил философ какие-то „общие и абстрактные“ идеи – и пусть, мол, они гуляют по свету. Легкая работа, не правда ли? А как конкретно создавать эти самые ситуации? Не знаете? То-то же!» Такая реакция на философские советы довольно распространена. Не лучше ли, однако, не завидовать чужой участи и не иронизировать по поводу той работы, которую никогда не делал сам, но признать разумное разделение труда. В частности, согласиться с тем, что кто-то ставит и намечает принципы решения глобальных проблем, а кто-то отрабатывает технологию их решения в конкретных вариантах. Специалист второго рода видит (и очень детально) узел какого-то устройства, а может быть, и все это устройство. Специалист первого рода, не вникая в детали, пытается понять назначение и место различных «устройств» в жизни общества в целом.
Я не понимаю, например, как можно совершенствовать программу обучения литературе или истории «вообще», не зная, ради решения какой общей проблемы надо вносить в них изменения, что, собственно, требуется перестроить в формировании человека в целом. Философ смотрит на мир с высоты птичьего полета, а технолог рассматривает в лупу маленький участок ближайшей поверхности. Обязательно ли один из них страдает верхоглядством, а другой близорукостью?
Не разумнее ли попытаться понять смысл работы каждого?
Чтобы сделать это в отношении философа, можно с успехом отнести к нему слова, сказанные Роменом Ролланом: «Природа создала меня дальнозорким. Другие видят лучше вблизи. Мои глаза устроены так, что видят далеко. Оставьте же меня на моем посту и вместо того, чтобы мешать дозорному, используйте его!»
ПОЗНАНИЕ
АНТИЭМПИРИК
«Антиэмпирик? Стало быть, схоласт? Философов всегда тянуло к умозрению…» – язвительно заметил Скептик.

На этот раз Философ ответил в том же тоне: «Умозрительные конструкции не имеют значения в современной науке… – сказал человек со слабым умственным зрением. – А очки на сей случай еще не изобрели».
С. Вы защищаете схоластику? В XX веке?
Ф. Нет. Я против обеих крайностей – недумающего эмпирика и схоласта, высасывающего из пальца словесные хитросплетения.
С. Недумающего эмпирика? Я видел, как вчера один думающий философ возился со своим мотороллером. А я, эмпирик, разберу и соберу любую машину с закрытыми глазами.
Ф. И незаметно станете ее рабом.
С. Не преувеличивайте. Я делаю то, что мне нравится.
Ф. Правильно. И неплохо соображаете в этих рамках. А вот задуматься над тем, что получится в результате, когда каждая соображающая машина станет делай то, что ей нравится, вы не хотите.
С. Сороконожка однажды задумалась, как это она ухитряется не перепутать свои конечности при движении. Не думала – двигалась, стала философствовать – и действительно запуталась.
Ф. Человек в отличие от этого симпатичного вам создания довольно часто попадает в ситуации, когда он не может не думать о последствиях своих дел, об их месте в целостной системе его собственной и общественной деятельности. А думающий человек отличается и от сороконожки, и от эмпирика, и от схоласта тем, что этот процесс подлинно человеческого думания не мешает, а помогает ему.
С. «Подлинно человеческое думание»! Может быть, вы разъясните мне, что сие означает?
Ф. С удовольствием.
* * *
Эмпиризм (от греческого – опыт) первоначально обозначал стремление зарождающейся науки нового времени все основывать на опыте. В противовес многовековому словоблудию схоластов-теологов, рассуждавших о каких-то недоступных непосредственному наблюдению сущностях, эмпирики стремились изучать такие явления, которые, по словам зачинателя экспериментальных исследований В. Гильберта, «можно трогать руками и воспринимать чувствами». Эта весьма положительная тенденция создала фактическую основу современной науки, и в этом историческая заслуга эмпиризма.
Но, с одной стороны, размышления и рассуждения (умозрение в прямом смысле слова, то есть рассмотрение «очами разума» того, что не воспринимается ни чувствами, ни приборами: стоимость в политэкономии, элементарная частица в физике, смысл жизни в этике и т. д.) отнюдь не всегда являются схоластическими; они не являются таковыми, если исходят из определенной фактической основы и проверяются фактами. С другой стороны, собирание фактов – необходимое, но еще недостаточное условие существования науки. Как заметил теоретик советской медицины И. В. Давыдовский, перед господином Фактом надо не только уметь снять шляпу, но и вовремя надеть ее.
Игнорирование эмпириками обоих этих: обстоятельств превращает их из людей полезных, хотя и ограниченных, в людей ограниченных, хотя и полезных, или, используя термин Энгельса, в «ползучих эмпириков». Ограниченность ползучего эмпиризма, выражающаяся в его «мыслебоязни» (А. Герцен), в современных условиях становится таким вредом, который основательно перевешивает приносимую им ограниченную пользу.
Сведение науки к коллекционированию фактов – это первая по времени возникновения, но не единственно возможная форма эмпиризма. Современный эмпиризм гораздо сложнее и многообразнее. Познакомимся с его проявлениями на некоторых примерах.
Как разбить парк? Философ Ю. А. Гастев остроумно сравнивает различные подходы к познанию с разными способами разбивки парков: «немецким» и «английским».
Для «немецкого» способа характерны тщательно поставленные исследования, «целью которых является максимально полное выяснение сущности интуитивной системы понятий, известной под расплывчатым именем „парк“, и составление оптимальных рекомендаций к разбивке конкретных парков».
«Английский» способ позволяет людям свободно протаптывать тропинки, а в невытоптанных местах подсеивается и подстригается трава – так образуется парк. Этот способ, иронизирует Ю. А. Гастев, «в силу своей явной беспринципности и прагматизма не может, конечно, удовлетворить настоящего ученого-натурфилософа (не говоря уже о том, что тут мы так и не узнаем, что же такое „парк“)…»
Не правда ли, при таком способе изложения ваши симпатии оказываются на стороне «английского» способа: просто и без бюрократии. Но принцип конкретности истины напоминает нам, что все хорошо на своем месте. При разбивке собственного садика, пожалуйста, применяйте «английский» способ. Однако, если вы примените его в современном большом городе, если вы не сочтете нужным подумать о функциональном значении парка и его. соотношении с другими элементами жизни города, это неизбежно приведет к хаосу и противоречию.
В споре с эмпириком философ занимает менее выгодную позицию, ибо эмпирик снисходительно высмеивает якобы бесплодное «философствование» и тут же демонстрирует собственную плодовитость: взял и сделал. Философ же только обещает что-то в перспективе, требует для чего-то залезать в глубины, да еще и сохраняет объективность по отношению к своему противнику: признает полезность эмпиризма в решении частных задач и отрицает лишь его чрезмерные претензии считать себя единственно достойным способом мышления. Короче говоря, человек, немедленно принимающийся за дело, выглядит привлекательнее стоящего в раздумье, сколько бы тот ни доказывал, что дело надо сначала спланировать.
Сравним в этом отношении:
физиков, один из которых немедленно выдает изобретение, а другой, подобно Эйнштейну, всю жизнь ищет фундаментальные законы мироздания, позволяющие объяснить все физические явления;
врачей, один из которых удаляет раковую опухоль, а другой ищет причины рака, строит общую теорию этой болезни;
биологов, один из которых обещает немедленно повысить жирность коровьего молока, а другой бьется над вопросом, что такое ген и каковы общие закономерности передачи наследственных признаков;
социологов, один из которых изучает читательскую аудиторию какой-либо газеты или причины текучести кадров на каком-то предприятии, а другой пытается открыть принципиальную схему действия любой социальной системы.
Казалось бы, тут нет проблемы: нужны и те и другие. Но проблема есть, и не одна.
Во-первых, отнюдь не очевидна необходимость решения задач второго типа, и не случайно чаще всего именно эмпирики негативно относятся к теоретикам, а не наоборот.
Во-вторых, не очевидны границы, за которыми полезный эмпиризм переходит в эмпиризм ползучий, приносящий большой вред.
В-третьих, ученый, занимающийся теоретическими проблемами своей науки, может оказаться самым настоящим ползучим эмпириком в масштабе человеческого познания и деятельности в целом.
Разберемся в этих вопросах.
Эмпирическое исследование дает нам готовые рецепты, как надо поступать в том или ином случае, но оно не может объяснить, почему надо поступать именно так. Такое объяснение и не требуется до тех пор, пока эти рецепты достаточно просты, действуют безотказно и не вступают в противоречие с рекомендациями эмпириков из других областей деятельности.
Врач-эмпирик может удалить раковую опухоль, может констатировать связь возникновения рака с привычкой к курению или другими факторами. Но ни одна из открытых ныне связей не дает достаточного объяснения причины рака, а умение удалять опухоли не избавляет от их появления. Требуется сопоставить друг с другом влияние канцерогенных веществ, наследственности, вирусов и других факторов и на этом пути создать общую теорию рака. И здесь уже мало одних наблюдений и экспериментов, нужны навыки теоретического мышления.
Химик может изобрести вещества, уничтожающие вредителей сельскохозяйственных растений, но оказывается, что эти вещества уничтожают и животный мир, принося порой больше вреда, чем пользы. Здесь также требуется знание общих закономерностей взаимодействия элементов живой природы, а не стихийное применение отдельных эмпирических рецептов.
Социологи 20-х годов эмпирически установили тот факт, что большинство правонарушений совершали беспризорные подростки, находящиеся в тяжелых материальных условиях. В настоящее время столь же эмпирически установлено отсутствие однозначной связи между материальным положением в семье и поведением подростка. И здесь требуется не простое накопление фактов, но умение сопоставить разные условия, влияющие на поведение подростка, построить общую теорию этого поведения.
А так как в конечном счете все области человеческой деятельности связаны, то чем более широкую и общую теорию мы построим, тем больше будет ее предсказательная сила, тем больше явлений мы сможем увязать друг с другом и объяснить в одной системе.
Однако тут слышится предостерегающий голос эмпирика, который очень боится (и не без основания), как бы «слишком» общая теория не переросла в шизофреническую «общую теорию всего», придуманную прадедом лемовского героя Иона Тихого. Еще в такой респектабельной науке, как физика, такому великому человеку, как Эйнштейн, позволяется строить общие теории. А вот, скажем, в социологии это (с точки зрения эмпирика) явно не то несовременно, не то преждевременно.
«Развитие социологии, – пишет, например, Ю. Левада, – с момента ее появления как отдельной дисциплины в середине прошлого века и до сегодняшнего дня можно в некотором смысле сравнить с движением от алхимии к химии. Известно, что алхимия оперировала очень большими категориями субстанций (земля, вода, огонь, воздух), преследовала чрезвычайно широкие цели, искала философский камень, рассчитывая с его помощью спасти человечество. Примерно с таких широких и претенциозных попыток начинала социология, когда впервые появилось это название. Известно, что химия не нашла философского камня и выбросила все эти четыре субстанции и весь средневековый мусор, зато химия построила полимерные пластмассы, выделила изотопы из урана и сделала много мелких, крупных, иногда опасных, чаще необходимых вещей. Примерно так движется и социология».
Тут явная передержка. «Широкие цели» ставила не только средневековая алхимия, но и научная химия. Только алхимикам не удалось получить «философского камня», а развитие химических теорий привело к открытию периодической системы Менделеева и другим важнейшим теоретическим обобщением. Химия не отказалась от общих теорий по мере своего развития. Просто, как, например, в развитии представлений о природе химического сродства, исследователи перешли от общих построений на уровне фантазии к общим построениям на уровне строгой научной теории. Не станем же мы таким теориям противопоставлять изобретение пластмассы? А почему же тогда должны делать это в социологии?
Я отвечу почему. Потому что объект социологии гораздо сложнее, чем объекты неживой природы, и не по зубам исследователю с навыками чисто эмпирического мышления. Поведение человека действительно труднее объяснить, чем движение планет вокруг солнца; социолог действительно более субъективно относится к своему предмету, чем физик; верно и то, что правильно абстрагировать различные стороны общественной жизни тоже нелегкое дело. «Так надо искать новые методы, надо осознать специфику социальных теорий, проще говоря, думать надо» – такой, казалось бы, напрашивается вывод.
Но эмпирик поступает иначе. Там, где не работают привычные для него методики, он разводит руками и видит какую-то непознаваемую мистику. Однако не всякий признает, что ему легче просто наблюдать и вычислять, чем по-настоящему обдумывать новую ситуацию. Вот тут-то и приходит на помощь спасительная передержка: это, мол, схоласты и натурфилософы строили всякие общие теории, а мы серьезные современные ученые, нам это ни к чему.
Представим себе, что социология ограничится изобретением «социологических пластмасс» (а это действительно имеет место в буржуазной социологии). Мы уже говорили, что даже в химии использование отдельных достижений без учета их влияния на природу в целом приводит к противоречивым и опасным последствиям, А теперь подумайте, что означало бы простое усовершенствование, допустим, способов повышения производительности труда или улучшения психологического климата в коллективе в отрыве от целостного развития общества. Сделаем труд более производительным (неважно для кого и какой ценой), сделаем личность более приспособленной к среде (неважно к какой); дадим, в общем, рецепты, а кто их использует – не наше дело.
Добросовестный эмпирик может возразить, что он не хотел ничего подобного. Но его желания не имеют туг никакого значения. Если у человека нет представления о процессе в целом, а он вмешивается в его отдельные звенья, он не может заранее знать, что из этого получится. А ползучий эмпиризм может привести не только к противоречию, но и к неверному использованию результатов познания, каждый из которых сам по себе является положительным.
Итак, мы показали ограниченность эмпиризма. Но эмпирики и сами, наталкиваясь на обрисованные нами границы, пытаются преодолеть их. Правда, все тем же эмпирическим способом, который в научном фольклоре удачно окрестили «методом тыка». Неверно было бы считать, что эмпирик вообще не мыслит. Он понуждается к этому самим ходом современной науки. Посмотрим, что из этого получается.
Именно потому… Когда И. Эренбург спрашивал скульптора-кубиста, почему у его женщин квадратные лица, тот улыбался и отвечал: «…Гм, Именно потому…» А что еще мог он ответить, если руководствовался в своей деятельности «английским способом разбития парка»? («Делаю то, что мне интересно или что вызывается прихотью момента, а там пусть „схоласты“ обосновывают….»).