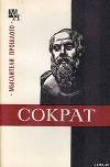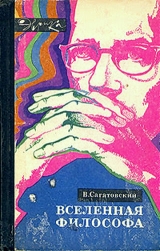
Текст книги "Вселенная философа (с илл.)"
Автор книги: Валерий Сагатовский
Жанры:
Философия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 16 страниц)
ПЕРЕЖИВАНИЕ
ЧУВСТВО БЕЗБРЕЖНОСТИ
Двое идут по заснеженному вечернему городу… Один внимательно примечает все детали окружающего: и как одеты люди, и какова высота новых домов, что есть в витринах магазинов; он точно запоминает маршрут и легко найдет дорогу назад. Другой видит только «черный ветер, белый снег», и ему хочется слиться с ними, раствориться в них. Первый увидел зеленый огонек такси и делится своими впечатлениями о марке этой машины, Второй не отвечает. Его поразило удивительное сочетание красок: зеленый огонек на фоне последней багровой полоски зимнего заката, поглощаемого наступающей тьмой. Не подумайте, что первый трезв, а второй немного выпил. Нет, один из них познает, а другой переживает.

Переживает? Не пустая ли это трата времени в наш век космических скоростей? Прежде чем ответить на этот вопрос, отметим, что, как бы там ни было, люди тратят на переживания очень много времени и сил. Мы не упускаем счастливого случая испытать эмоции в, так сказать, стихийной форме: «Радость у человека, – говорит В. Песков, – может вызвать и большое событие, и незначительный случай, мимолетное слово, звук, тишина, цвет неба, форма резного наличника на окне мелькнувшей по дороге избы…»
Но если цвет неба – это подарок природы, то резной наличник надо сделать. И на создание вещей типа этого резного наличника мы тратим, пожалуй, не меньше времени, чем на создание бесспорно полезных стен и крыш над головой. На это обращал внимание еще Лев Толстой в своей статье «Что такое искусство?»: «…На поддержание искусства… даются миллионные субсидии от правительства на академии, консерватории, театры… В каждом городе строятся огромные здания для музеев, академий, консерваторий, драматических школ, для представлений и концертов. Сотни тысяч рабочих – плотники, каменщики, красильщики, столяры, обойщики, портные, парикмахеры, ювелиры, бронзовщики, наборщики – целые жизни проводят в тяжелом труде для удовлетворения требований искусства, так что едва ли есть какая-нибудь другая деятельность человеческая, кроме военной, которая поглощала бы столько сил, сколько эта… Что же здесь делается и для чего и для кого?»
Начнем с того, что познание и переживание в определенной мере противоположны друг другу. Это отчетливо сознают те, кто занимался и тем и другим. Гёте, например, признавался: «…философия (под философией он имел в виду науку в целом. – В. С.) разрушает у меня поэзию, я думаю потому, что она загоняет меня в объект».
Великолепное объяснение! Действительно, ученый добывает новые знания, чтобы создавать с их помощью вещества, строить дома и машины, выращивать растения. Дает ли аналогичную информацию созерцание цвета неба или резьбы по дереву? Учит ли переживание прекрасного тому, как преодолеть небесные просторы, каков состав атмосферы и каковы секреты мастерства резчика?
Очевидно, что нет. Оно дает нечто совсем другое, нужность которого не так бросается в глаза, как нужность научных знаний.
Знание непосредственно относится к объекту, к миру, а переживание выражает отношение человека к миру (субъекта к объекту). Поскольку первое можно выразить более определенно, постольку дело не обходится без метафизиков, которые начинают преувеличивать противоположность между знанием и переживанием, доводя их до полного разрыва. Если, мол, искусство не дает таких же знаний, как наука, то это никчемное искусство. Эта тенденция очень ярко проявляется, например, в манере «критики» произведений поэзии некоторыми вполне грамотными, но не понимающими сути дела людьми. В статье Марка Соболя «Позвольте не согласиться…» приводится пример такой «критики». Читатель цитирует стихи Игоря Шкляревского:
Нас думать учат города,
но чувство времени живое
нам дарят звездная вода
и одиночество лесное.
Неужели надо доказывать, что это отличные строки? Оказывается, надо. Критически настроенный читатель заявляет: «Мне эти строки представляются несуразицей по трем причинам. Во-первых, „думать учат“ семья, школа, среда (не обязательно городская). Во-вторых, „звездной воды“ нет, есть атмосферная. И в-третьих, одиночество в лесу ли, в степи, на реке, на озере и т. п. не даст полноценного ощущения „живого времени“». Критик глубоко заблуждается. И как обидно, что заблуждение это подается в такой безапелляционно-самоуверенной форме. Он не понимает, что поэтические строки преследуют совсем иную цель, чем, скажем, урок о роли воды в природе и классный час о роли среды в воспитании мышления учащихся. Они не дают таких сведений о перечисленных объектах (думаний, городах, воде, одиночестве и т. д.), которые позволяли бы нам немедленно приступить к планировке города, дистилляции воды или к борьбе с индивидуалистическим одиночеством. Но они дарят нам образ, который закрепляет в душе ощущение различия между деловой жизнью города, дающей нам знание, и единением с природой (конечно же, не обязательно в лесу!), когда звезды смотрятся в ночную (конечно же, атмосферную!) воду. И не умение измерять время, а именно «чувство времени живое» приобретает тогда человек.
Но, простите, измерение времени – это точная и полезная процедура. А что дает какое-то мистическое чувство?
Мистическим оно кажется лишь тому, кто его лишен. Например, в «Четвертом ледниковом периоде» Абэ Кобо, рационалисту-учителю, казалось совершенно ясным, что «считать воздух чем-то большим, нежели простое промышленное сырье, значит впасть в мистицизм». Но его ученик не мог смириться с этим, в движении воздуха, в ветре он почувствовал «нечто большее, чем промышленное сырье. Учитель ошибается. И юноша решил, что он еще раз сам проверит, музыка ветер или нет».
Так для чего же все-таки надо ощущать ветер как музыку, обладать «живым чувством времени» и заниматься прочими «несуразицами»?
Затем, что знание об атмосферной воде вооружает нас средствами, а умение почувствовать звездную воду формирует в нашей душе цели, наше отношение к миру. В частности, такое, что мы не будем смотреть на воду и воздух только как на промышленное сырье и не погубим тем самым планету. Такое, что человек будет ощущать свое единство с миром, свои корни в нем и не станет превращать его в экспериментальный сарай, где можно «занятно» провести время. Такое, что в нашей душе будут зреть доброта, чувство прекрасного, мудрость. А все это несколько отличается от суммы сведений, которые можно записать и в памяти машины.
«Представим роботов, – пишет Вл. Солоухин, – запрограммированных даже и на саморазмножение, но у которых нет связей (то есть проводочков) на человеческие понятия любви, ненависти, дружбы, грусти, тоски, мечтания. Или – еще проще – обыкновенной физической боли. Читая наши книги и встречая в них слова „тоска“, „любовь“, „боль“, они недоумевали бы, что это такое, и в конце концов назвали бы все это очень удобным словечком – „сверхъестественное“». А отсюда уже один шаг до ситуации, описанной Рэем Брэдбери в «451º по Фаренгейту», или, говоря проще, до реализации лозунга «Собрать все книги да и сжечь» (разумеется, только те, которые содержат в себе «сверхъестественное» и прочую «несуразицу»).
При этом надо только учесть, что несуразица есть нечто не соответствующее разуму. А разум, помимо точных сведений рассудка, включает в себя обладание общим отношением к действительности. Это же последнее не может быть сконструировано из одних точных знаний. Оно должно выкристаллизоваться в насыщенном растворе человеческих переживаний. Отсюда следует, что тот, для кого переживания несуразица, обладает лишь машинным рассудком, а не человеческим разумом. И следовательно, ему можно доверить только исполнение по заданной программе, а не принятие решений.
Очевидно далее, что, если человеческая душа не тождественна машинной памяти, то для ее созревания нужно время. Можно (и нужно) ускорять приобретение знаний, но это ускорение не может заменить собой созревание комплекса чувств, делающих человека человеком. И время, необходимое для этого, не уменьшается в век космических скоростей. Пожалуй, даже должно увеличиться, ибо и человек и мир становятся сложнее. В одной из книг писалось: «Интенсивная мозговая деятельность на протяжении очень коротких отрезков времени исключает глубокие и неторопливые размышления, которые необходимы для формирования личности. Длительность – это залог культуры». (Подчеркнуто мной. – В. С.).
Между тем пренебрежение к миру переживаний дает себя знать в наше время в самых различных областях жизни. Остановимся только на одном примере: дискуссии, развернувшейся вокруг педагогического эксперимента в семье Никитиных. Этот эксперимент основывается на убеждении Б. П. Никитина, что для максимальной реализации способностей, заложенных в человеке, необходимо их раннее развитие. И вот кадр из фильма «День в семье Никитиных»: маленькая Аня, повиснув вниз головой на перекладине, читает букварь, который перевернутым держит перед ней старшая сестренка. Антон, раскачиваясь на кольцах, высчитывает, сколько будет 2 в 17-й степени, и выкрикивает вперемежку какие-то английские слова. Хорошо это или плохо?
Бесспорно, что в этом эксперименте есть нечто рациональное: надо искать те возрастные периоды, когда раскрытие тех или иных способностей осуществляется с наибольшим успехом. Но надо ли делать кумир из быстроты усвоения и количества усвоенных знаний и навыков? Ведь при таком подходе все, что мешает достижению этих целей, начинает рассматриваться только как помеха. Заметив, что между тремя и пятью годами осуществление задуманной программы продвигается у его детей медленнее, Борис Павлович Никитин говорит «Вот это простаивание заслуживает целой диссертации» – «С какой точки зрения „простаивание“?» – спрашивает полемизирующая с ним Т. Снегирева. И продолжает: «Сказки?» – «Мистический вздор! – с достаточной твердостью говорил Борис Павлович позже. – Сказки уводят в сторону… Что такое кукла? Совершенно бесполезная игра. И в три года кукла, и в пять та же кукла… У моих детей только „развивающие игры“».

Развивающие знания и навыки. Но груз одних лишь знаний и навыков без одновременного формирования эмоций, созревания чувств очень скоро дает себя знать: обеднение эмоциональной жизни, возможность неврозов, неравномерное развитие личности в целом.
Представим себе двух людей. Один все время чем-то занят, ему некогда задуматься, оглянуться, прочувствовать прошлое, помечтать о будущем. Другой частенько «простаивает», занимаясь этими «ненужными отвлечениями». Кто будет результативнее в конечном счете? Первый (если его не контролировать все время извне) закружится в беличьем колесе «заданной программы», второй выйдет на верный путь и пойдет по нему с человеческим достоинством во имя своих (изнутри выросших) целей и своими (для этих целей найденными) средствами. Игры и сказки ребенка – не такое же ли это «простаивание»: потеря в быстроте, приобретение в основательности и гармонии?
Мысль эту можно хорошо проиллюстрировать миниатюрой Ю. Куранова «Листья»:
«Те самые листья, которые так недавно шумели высоко под облаками, теперь летят ко мне под окно.
– Куда вы летите?
Они толпятся у завалины торопливой золотой стаей. Они силятся поведать мне что-то. Но я не понимаю речей их.
– О чем вы?
Тогда они летят к малышу, который сидит посреди дороги и возводит из пыли какие-то лиловые города. Они окружают его. Они вспархивают ему на локти и на плечи. Он улыбается им, он подбрасывает их, он их ловит. Он ни о чем не спрашивает. Они ничего ему не говорят.
Они поняли друг друга.
Они просто играют».
Просто играют? Да, но в этой «простой игре» формируется великое чувство единения человека с миром, чувство причастности к развивающейся гармонии вселенной. Древние выражали это чувство в образе Антея, припадающего к матери Земле и черпающего от нее новые силы. Михаил Пришвин назвал его чувством родственного внимания. Нет, пожалуй, поэта, который не посвятил бы ему своих строк.
Какая-то непонятная тяга заставляет поэтов писать о своем желании окунуться в природу, слиться с ней, раствориться, затеряться. «Бегство от реальной жизни», – сказал бы, наверное, цитированный выше противник «звездной воды» и «одиночества лесного». Нет, не бегством было для Антея прикосновение к Земле. И не страх перед жизнью, а трепетная любовь к ней звучит в стихах Сергея Есенина:
Край любимый! Сердцу снятся
Скирды солнца в водах лонных,
Я хотел бы затеряться
В зеленях твоих стозвонных.
А вот строчки из стихотворения Евгения Винокурова «Тяга к беспредельности»:
…И ты идешь, велик и одинок.
Тебя вбирают в глубь себя просторы.
И наконец усвоенный совсем
И без остатка растворясь в пейзаже,
Ты станешь вдруг невидим, глух и нем,
Но это ты и не заметишь даже.
Человек, погруженный в беспредельность, становится глух и нем к мелочной суете, невидим для всего ненужного и наносного. Безбрежный мир, которому он доверился, очищает его от приставшей грязи и щедро поит его из своих вечных родников.
Об этом же говорил и М. Пришвин: «А когда явится утренняя бодрость, открываешь окно, слышишь бормотание тетеревов, клики скворцов, видишь напряженные соком шоколадные ветки берез, серые гусеницы зацветающих осин, …чувствуешь себя победителем всего в себе мелкого и по себе понимаешь, почему возрождался Антей, прикасаясь к Земле».
Чувство Антея, чувство своего глубокого родства с миром я называю чувством безбрежности. Его можно назвать прачувством, ибо оно относится к остальным переживаниям так же, как философия к частнонаучным знаниям: философия дает человеку знание о его месте в мире, намечает общие ориентиры в его деятельности, взятой в целом; чувство безбрежности дает ему живое ощущение этого места, настраивает его на связь с миром, на развивающуюся гармонию внутри себя и в своей деятельности.
Знание дает нам в руки программу деятельности, а переживание – ее общий настрой. Машина обладает только программой, а для человека та или иная программа лишь средство ради достижения целей, которые уходят корнями в его общее отношение к миру. И это общее отношение, общий настрой формируется глубокими внутренними переживаниями. «Я думаю, – говорил К. Паустовский, – что мир в равной степени достоин медленного и плодотворного созерцания и разумного мощного действия. Созерцание – одна из основ творчества и любви к земле, в первую очередь к своей, отечественной».
Говоря о взаимодействии науки и искусства (наука – высшая форма знания, искусство – высшая форма переживания), Б. Г. Кузнецов в своей книге «Этюды об Эйнштейне» замечает: «…Поэзия дает науке не элементы знания, а импульсы… Непосредственный эффект влияния поэзии (она здесь представляет искусство в целом) на науку – не научные концепции, а подход ученого к миру, не содержание научной теории, а черты научного темперамента». То же самое можно сказать и о влиянии любого переживания на любое познание.
Если переживания мелки, то глубина знания еще не обеспечивает глубины человеческой личности в целом, ее внутренней культуры.
Животворное ощущение своего единства с природой дает нам обновление, очищение, как бы рождает нас заново. Если человек лишен этого чувства, он не может быть целостной личностью. Пусть у него будет множество знаний, навыков, отдельных наблюдений – все это будет лежать рядом друг с другом, не объединенное в единое целое. И многие смогут воспользоваться этим складом для совершенно разных целей.
Только уловив душой «всеобщую сущность красоты», разлитую в мире, приобретает человек самую глубокую основу для объединения своих чувств и стремлений. Тогда он зажигается ненавистью к безобразному, к хаотическому, к тупому оскалу энтропии, стремящейся поглотить Гармонию жизни и разума. И борьба за превращение мира в ноосферу будет для него не общей фразой и не холодным выводом, а такой же внутренней потребностью, как потребность слушать музыку ветра, жить и дышать на зеленой Земле.
РОБОТЫ И ГУРМАНЫ
У Михаила Пришвина есть миниатюра, названная «Между делом». «По насыпи женщины шли за дровами в лес, а другие уже несли хворост. Женщины устали, но где-то и для них был май и все прекрасное, только не говорили они о мае. „Моя печка все принимает, – говорила одна женщина другой, – в моей печке все горит“. Нет, не осенью по слякоти несли женщины дрова, а в мае, среди начинающих зеленеть деревьев и первых цветов, и они были рады маю. Но если бы они могли заглянуть внутрь меня, идущего в будний день наслаждаться маем, больше! – посвятившего жизнь этому чему-то, что у всех между прочим… просто сказка. Вот оно что значит сказка: это то, что показывается нам „между делом“».
Как мыслитель Пришвин здесь непоследователен: и неловкость он перед женщинами чувствует за свое «между делом», и поверить ему хочется, что «и для них был май и все прекрасное», В другой своей миниатюре, «Сказка», он более прав: «Сказка – это момент устойчивости в равновесии духа и тела. Сказка – это связь с приходящим и уходящим… Мое дело в строительстве – писать свою сказку». Выходит, это его дело, а не «между делом»!
Но как художник он великолепно изобразил те пропасти, между которыми ему, истинному художнику, приходится проходить как по лезвию бритвы. С одной стороны обитают роботы, знающие только дело, для них красота – лишь детская сказка. С другой стороны резвятся духовные гурманы, превратившие наслаждение прекрасным в самоцель.
Что хуже? Рассуждая логически, обе крайности хуже. Но, подходя эмоционально, к роботам я могу испытывать жалость, к гурманам – ничего, кроме открытой неприязни.
Лики робота многообразны. Он может задавленно сгибаться под вязанкой дров, но уверенно повелевать механизмами. Он может даже признавать полезность сказки, но никогда не признает самостоятельной, независимой от узко понимаемого им дела ценности переживания. Английский социолог Э. Дж. Мишен с горечью пишет о типе современного ученого, для которого «…ничто не представляет очень большой важности, кроме одной, действительно жгучей проблемы – как вырвать у вселенной ее тайны. Для него, как и для его союзника-технократа, мир человеческих импульсов и эмоций есть нечто постороннее, к делу не относящееся». Это, так сказать, элементарный робот-интеллектуал. Но вот, например, В, Турбин в своей работе «Товарищ Время и товарищ Искусство» с таким узким пониманием дела, полностью исключающим переживание и искусство, не согласен. Он ругает позитивистов педантами и полагает, что они недооценили возможностей искусства. Но опять-таки на службе у науки: «…искусство ищет методов познания логики теперешнего мира, живущего по новым законам…». «Понадобится мобилизация всех передовых умов на изыскание, на зондирование методов, способных помочь людям освоить и закрепить достижения науки».
Эта позиция непоследовательна. Если искусство преследует абсолютно те же самые цели, что и наука, но только другими методами, это означает его неизбежную гибель или обрекает его на существование в качестве временного вспомогательного средства. В самом деле, методы науки несравненно сильнее в процессе познания, и любая познающая система предпочтет алгоритмы математики метафорам поэзии. Свести же метафору к одному из способов усвоения алгоритма – не знаю, согласится ли на это кто-либо из числа способных к созданию хоть сколько-нибудь стоящих метафор…
А если я скажу, что никаких методов искусство не ищет, что переживание красоты не менее самостоятельное дело, чем поиски истины и создание пользы? Не обвинят ли меня тогда в защите искусства для искусства?
Искусство имеет свою особую ценность, оно не является чем-то второстепенным, подсобным по отношению к познанию или технической деятельности. Но это не значит, что оно не зависит от человеческой деятельности в целом. Сторонники же «искусства для искусства» утверждают его якобы абсолютную независимость от деятельности общества. Робот видит в искусстве только подсобное средство. Гурман превращает его в самоцель.
Проявления духовного гурманства также весьма разнообразны. Наиболее примитивным его выражением является вторая часть известного требования: «Хлеба и зрелищ». Это мещанский взгляд на искусство только как на способ отвлечься и развлечься. Переживание здесь не возвышает человека, не дает общего настроя его деятельности, но лишь ненадолго разряжает тяжелую атмосферу застоявшейся скуки.
Рафинированным проявлением того же самого является взгляд на искусство только как на способ самовыражения. «Того же самого? – предвижу я протестующий вопль. – Как, вы ставите на одну доску пошлого потребителя зрелищ и утонченного создателя неповторимых образов?!»
Да, ставлю. Но не вообще, а в определенном отношении. Ваше дело судить, насколько это отношение, в котором я смею отождествлять примитивного мещанина и утонченного эстета, является существенным.
Примитив изрыгает: «Во дает!» – по поводу чужих трюков. Эстет в основном озабочен оригинальностью собственного самовыражения: «Во как я могу!»
Мне могут возразить, что возможности личности художника выражают здесь меру общечеловеческих возможностей, что художник демонстрирует не просто свои способности, но возможности Человека и гордится ими. Не будем здесь разбирать, как и у кого соотносятся гордость за себя и за Человека. Допустим, что искусство есть демонстрация возможностей Человека, игра этих – пусть очень больших – возможностей.
Я хочу спросить, ради чего эти демонстрации и игра?
Если в этой игре рождается определенный общий настрой, выкристаллизовывается общая направленность человеческой деятельности, я за нее. Если она превращается в самоцель, в самолюбование (собой ли, Человеком ли), – против. Различие же в уровнях квалификации, на которых осуществляется дегустация чужих трюков и любование собственными, представляется мне делом второстепенным. Более того, я рискну сравнить простого любителя зрелищ с начинающим алкоголиком, вылечить которого сравнительно нетрудно. Рафинированный эстет напоминает уже безнадежного наркомана.
Попробуем обосновать столь резкие сравнения. Современная наука находит общие закономерности в самых, на первый взгляд, непохожих явлениях. Поэтому отважусь еще на одну аналогию. В мозгу крысы открыли особый центр удовольствия. Вживили в этот центр электрод так, что, нажимая лапкой на педаль, крыса могла замыкать ток и раздражать этот центр. Животные предпочитали «чистое» наслаждение еде, сну и прочим «несовершенным» нормальным удовольствиям. Они без конца нажимали на педаль и погибали от истощения.
Братья Стругацкие в «Хищных вещах века» представили возможность использования этого открытия самим человеком и описали его как самый ужасный из всех возможных видов наркомании. Так вот, на мой взгляд, зрелище ради зрелища, переживание ради переживания есть ослабленный вариант того же самого.
Чистые деятельность и познание без переживания превращают человека в робота. Роботы могут обладать культурой производства, но полностью лишены культуры потребления. Они будут производить много вещей и не знать, как использовать их, чтобы эти вещи принесли человеку не вред, а благо.
Чистое переживание, оторванное от познания и деятельности, превращает человека в потребителя духовной продукции. Причем потребление это не дает импульса человеческой деятельности в целом и, превращаясь в самоцель, развращает человека, делает его недееспособным. Его уже ничто больше не интересует, кроме поисков еще более сильных ощущений.
Таким образом, мы снова выступаем против раздробления целостного человека, против абсолютизации отдельных моментов его целостной деятельности. «Свобода чувств, – верно замечает Ю. Рюриков, – такой же односторонний лозунг, если он взят сам по себе, как и лозунг свободы долга или свободы норм. Любой из этих лозунгов охватывает только „часть“ человека, он „частичек“. А настоящая свобода человека цельна – это и свобода его мысли, и свобода его чувства, свобода долга и желания, идеала и потребности».
Я выразил свое отношение к обеим метафизическим крайностям, и как философ «я все сказал». Но из опыта знаю, насколько искажаются общие философские положения, как только ими начинают оперировать на практике. И не удивительно. Ведь в этих положениях отражены чрезвычайно общие черты множества разнообразных явлений. В других своих чертах эти явления могут быть друг на друга совершенно непохожи. И поэтому, когда философская оценка распространяется на весь предмет, а не только на ту его часть, которая соответствует данному обобщению, происходят досадные недоразумения. Поэтому, применяя философские положения для анализа конкретных вопросов, надо еще и еще раз вспомнить о том, что тривиальность общих положений философии только кажущаяся. «Подумаешь, заслуга, – может сказать кто-нибудь, – выразил свое отношение к крайностям. Да то, что крайности приводят к нелепостям, знает любой школьник. И знает без всякой философии».
Верно. Но, во-первых, зная, что везде есть крайности, далеко не каждый может успешно обнаружить и правильно истолковать их в той или иной конкретной области. Так далеко не всякий, кто любит и знает искусство, верно понимает соотношение позиций «робота» и «гурмана» и видит причины, из-за которых люди встают на эти позиции.
Во-вторых, крайности, обнаруженные в определенной области, предстоит еще обнаружить в любых ее уголках. Так врач, зная общую картину какой-либо болезни, должен найти эту болезнь именно у данного больного; отыскать общее в разнообразии индивидуальных свойств, которые порой очень хитро маскируют это искомое общее.
Для успешного решения своих задач врач должен знать медицину, искусствовед – искусство. Но и тому и другому в значительной степени поможет владение навыками философского мышления, владение диалектико-материалистическим методом.
Основная трудность заключается в том, чтобы успешно перекинуть мост от кажущихся тривиальными и тощими философских знаний к богатому, но совершенно неупорядоченному миру конкретных фактов. Когда этот мост перекинут, когда философские положения начинают «работать» на специалиста, они чудесным образом перевоплощаются в глазах последнего. То, что казалось «абстрактными фразами», начинает теперь восприниматься как очень полезная абстракция, внутреннее богатство которой – в широте ее применимости, в возможности разобраться с ее помощью в самых различных областях конкретной действительности. «Мышление, восходя от конкретного к абстрактному, – учил В. И. Ленин, – не отходит, – если оно правильное … – от истины, а подходит к ней… все научные (правильные, серьезные, не вздорные) абстракции отражают природу глубже, вернее, полнее».
Правильность и серьезность философских абстракций лучше всего проверять на практике, применяя их для решения конкретных проблем. Вернемся поэтому к философскому анализу природы переживания и, рассматривая различные конкретные случаи, будем помнить о том, что для их успешного понимания философские знания средство хотя и недостаточное, но совершенно необходимое.
Допустим, я увижу в чьем-то творчестве черты духовного гурманства. «Но как же, – возразят мне. – Ведь он же очень талантливый художник!» Ну и что же? Одно другому не мешает. Любая личность, конечно, многогранна. И, конечно, зачеркивать ее целиком, подметив в ней те или иные недостатки, будет неверно. Но так же неверно и не видеть эти недостатки из-за боязни «огульного охаивания». Короче говоря, проследим симптомы духовного гурманства на некоторых примерах и посмотрим, как его (гурманства) общая сущность проявляется в самых разнообразных формах.
В качестве первого примера возьмем изопы Андрея Вознесенского. Сразу же оговорюсь, что вижу у этого поэта много отличных образов. Это и «реторта неона – аэропорт», и «стынет стакан синевы. Без стакана», и многое другое. А вот его новейшее изобретение – изопы – принять не могу.
Изопы – это опыты изобразительной поэзии. Например, увидев людей, идущих по мосту с электрички на закате и отражающихся в воде, поэт это изобразил таким способом: сверху вниз на листе бумаги идут две параллельные линии, образованные повторением букв «и» и «д» – идидиди…; перпендикулярно к каждой из этих линий начертаны слова, причем так, что каждому слову над одной линией соответствует слово над другой линией, состоящее из тех же букв, но написанных в обратном порядке; например:
о к черту утречко
лиду удил
…нину б бунин…
ха, ха ах, ах
Спрашивая друзей, что они видят, поэт получил очень разные ответы. Вот некоторые из них. «Эти люди устали после работы. Сверху то, что они думают, внизу то, что они есть, это их бессознательные ощущения». «Непонятно, но на гребень похоже». «Это хохма…»
Другой изоп: «…а Луна канула». Он одинаково читается слева и справа. Смысл его, согласно автору, таков: «После того как ступня человека коснулась Луны, Луна исчезла как миф, сентиментальная легенда, ирреальность… Читатель как бы следит взглядом за полетом на Луну и обратно».
Читатель, положа руку на сердце, вы чувствуете что-нибудь подобное? Я – нет. Может быть, мы с вами не доросли? А может, и нечто другое…
Сам поэт сначала пытался всерьез обосновать свое новшество. Он утверждал, что изоп – это «метафорический ген стиха» и т. п. Но потом махнул рукой и признался: «Предвижу упреки в несерьезности, забавах, играх со словом. Не думаю, что поэзия обязательно „должна быть глуповатой“, но почему не быть ей иногда легкомысленной?»
Можно, конечно, но не за государственный счет. И не рядом со стихами, претендующими на трагическое мировосприятие. Иначе же меня не оставляет в покое догадка: розыгрыш все это. Чего, например, не проделывал со своими почитателями Велемир Хлебников! А Андрей Вознесенский чем хуже? Во всяком случае, здесь очень уместно вспомнить слова Ильи Эренбурга об одном своем современнике-поэте: «Я искал правду, а он играл в детские игры, и это меня сердило».
Это стремление к оригинальной игре, к оригинальности во что бы то ни стало проглядывает у А. Вознесенского не только в изопах. Спору нет, у него очень цепкий и свежий взгляд на мир. Однако это качество – необходимое, но еще недостаточное условие подлинного искусства. Если у художника нет своего цельного отношения к миру, той правды, которую он непременно должен донести до людей, то способность чувствовать новизну его не спасет. Благодаря этой способности он может подарить нам отдельные образы. А чем их сцементировать в единое целое? И вот тут – если этот «цемент» отсутствует в душе художника – новизна перерастает в неоправданную гиперболу. Художник не объединяет свои образы, но просто усиливает каждый из них, доводит его до крика. Это производит впечатление: на одних людей – трагичности, необычайности мира, в котором живет создатель таких образов, на других – позы. Я принадлежу к последним.