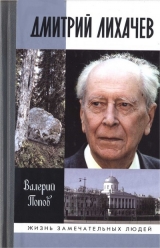
Текст книги "Дмитрий Лихачев"
Автор книги: Валерий Попов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Соловецкий лагерь, хоть и созданный на погибель всего незаурядного, как ни странно, при этом нуждался в умных людях. Какая-то организованность там должна была быть. А от дурака, как известно, результата никакого. Начальству был нужен отчет, «витрина», «результаты перевоспитания», полезная деятельность и даже доход – и никто, кроме людей умных, этого сделать не мог. В лагере были музей, театр, свое хозяйство, культурно-просветительская часть, включающая актеров, музыкантов, администраторов, должная изображать «перевоспитание опасных преступников». Дураки загубили бы все это на корню.
Было в лагере еще одно удивительное заведение – Криминологический кабинет. Там занимались сбором рисунков, интересных писем, картин и стихов заключенных. Умный человек, возглавлявший эту лабораторию, Александр Николаевич Колосов, бывший прежде судьей и прокурором в царской армии, умел поставить себя и перед лагерным начальством, внушить им, что изучение тайн преступной души без их лаборатории невозможно. Для Дмитрия Лихачева, уже чувствовавшего в себе азарт исследователя, работа эта была крайне интересна.
Однажды, еще в 13-й роте, когда он грузил свиной навоз, к нему подошел «очень почтенный и красивый немолодой господин с седой бородой в черном полушубке и с самодельной березовой палочкой в руках. Это был А. Н. Колосов».
После краткого разговора Лихачеву была обещана (не сразу, правда) постоянная работа в Криминологическом кабинете.
Но все затягивалось. Лихачев попал из 13-й в 14-ю роту, тяжело переболел тифом и лишь после этого оказался в Кримкабе (так все они называли Криминологический кабинет). Командир роты, бывший комендант Петропавловской крепости барон Притвиц, поместил Лихачева в комнату к Колосову.
В лагерной судьбе Лихачева произошел важный поворот. После грязной, тяжелой работы он смог заниматься примерно тем, чем потом занимался всю жизнь – анализом текстов. В связи с новой своей работой он оказался и в замечательном Соловецком музее, где занимался составлением описи потрясающих икон, уцелевших здесь словно чудом.
Благодаря чему в этом аду, в угаре воинствующего атеизма сохранился этот уникальный музей церковных ценностей? Лихачев рассказывает удивительный сюжет, который показался бы невероятным в любом романе: «Во главе Соловецкого общества краеведения в середине 20-х годов стоял эстонец Эйхманс. Человек относительно интеллигентный. Получилось так, что из заведующего музеем он стал начальником лагеря и при этом чрезвычайно жестоким. Но к музею он питал уважение, и музей даже после его отъезда сохранял особое положение».
Когда Лихачев оказался в Соловецком музее и был потрясен им (начиналось его увлечение русской стариной), директором музея был некто Николай Николаевич Виноградов, незаурядный авантюрист, сумевший внушить лагерному начальству впечатление полной своей преданности и активной антирелигиозной работы, но при этом оказавшийся тончайшим знатоком искусства и, исключительно благодаря своей «гибкой политике», сохранявший музей от уничтожения. Окажись на его месте идеалист, не идущий ни на какие компромиссы, – музей давно бы погиб. А так музей не только существовал – в нем шла научная работа, в которую сразу же с восторгом включился Лихачев. Именно тут он набирается жизненной мудрости, видит, что и в людях далеко не идеальных есть порой искра Божья, и таких людей тоже надо ценить, использовать их лучшие стороны. Его мягкость, душевное расположение в обращении с самыми разными людьми сделали его главным моральным авторитетом своего времени, и мудрость эта сложилась на Соловках. Именно здесь он сделался знатоком людей, страстным и упорным исследователем…
Как только он получил разрешение покидать территорию кремля, он начал изучать Соловки уже как почти сложившийся ученый. В его бумагах есть план, на котором изображены и охарактеризованы все исторические и современные строения на острове. Лихачев восхищен увиденным:
«Триста озер Большого Соловецкого острова, самые большие из которых соединены между собой, чтобы непрестанно пополнять чистой водой большое Святое озеро, по берегу которого поднимаются главные постройки Соловецкого монастыря, поставленные на перешейке между Святым озером и морем. Разница в уровне, как говорили – 8 метров. Эта разница позволила создать в монастыре водопровод, канализацию, использовать различную технику, построить быстро наполняемые и опорожняемые доки для починки судов, прекрасную хлебопекарню, портомойню, кузницу (исключительную для XVI века!), снабжать водой трапезную и т. д. и т. п. Монастырь мог бы служить наглядным опровержением ложных представлений об отсталости древнерусской техники».
Восхищение стариной, страстное желание изучать ее и рассказывать о ней, все то, что потом составило его жизнь, явилось ему здесь. В страшном Соловецком лагере особого назначения он сумел найти свое любимое дело, свою стезю, которая затем привела его к славе, сделала одним из знаменитых ученых мира.
Он сошелся здесь с замечательными людьми, в том числе с племянником писателя Короленко. Имея пропуск на выход из крепости, они довольно много ходили по Соловкам, переходили по дамбе на соседний остров, много говорили. Соловки окружены со всех сторон ледниковыми валунами, много их и в тайге внутри острова – и будучи в самом высоком расположении духа, Лихачев и Короленко решили оставить память о себе: выбить свои фамилии на камне. Но в тот раз сделать этого не успели. Потом каторжная жизнь разлучила их. Много десятилетий спустя Лихачев вспомнил об этом – и одна из самоотверженных работниц Соловецкого музея долго искала и, наконец, нашла в тайге камень, на которым было выбито – «Короленко, Лихачев». Верный друг не забыл их клятвы – выбил на камне фамилии, и вскоре после этого его расстреляли. Но камень этот стал знаменит – его много потом снимали, показывали по телевизору, он фигурирует и в фильме про Лихачева. Соловецкие страдания легли «краеугольным камнем» в основу лихачевской жизни, в основу его характера мученика и мыслителя, и в страданиях проявившего высоту духа. Это и сделало потом Лихачева столь знаменитым.
И эти «воспарения души» происходили на фоне ужасов лагерной жизни, которая становилась все страшнее.
Кроме театра и музея, на Соловках были и 11-я рота-карцер, и знаменитая Секирка – страшный штрафной изолятор на горе, к которому вела крутая лестница с множеством ступенек, и известная всем маленькая комнатка под колокольней, где казнили выстрелом в затылок одиночных заключенных – так, между делом, на ходу, без тех хлопот, которыми сопровождался большой расстрел.
Знал ли обо всем этом Горький, побывавший на Соловках? Во всяком случае, «мировую общественность» он успокоил: ничего чрезвычайного на Соловках не происходит, спасают заблудших! Мальчика, с которым Горький беседовал особенно долго и задушевно и который рассказал писателю все, после отъезда писателя расстреляли.
А самый большой расстрел произошел 28 октября 1929 года. В камере 3-й роты, где жил Лихачев, вдруг все услышали, как завыл пес Блек – это значило, что выводили партию на расстрел через Пожарные (Святые) ворота: пес никогда не ошибался.
Сам Лихачев лишь благодаря чуду (или характеру?) избежал расстрела. Ему повезло: когда за ним пришли в казарму, его там не было. Он был в комнате, которую сняли его родители, приехавшие к нему на свидание, и друзья нашли его там и успели предупредить.
Сказав родителям, что его срочно вызвали на работу, он пошел на дровяной двор и спрятался между поленниц. «Что я натерпелся там, слыша выстрелы и глядя на звезды неба!» – вспоминает Лихачев.
Страшная «расстрельная норма» в 300 человек в ночь 29-го была выполнена. Лихачев уцелел и вернулся к родителям. Осталась фотография: Лихачев после той ночи сфотографировался с родителями. На фото они пытаются улыбаться, но глаза их полны страдания, особенно почему-то у Сергея Михайловича.
Лихачев очень переживал это событие, говорил – «кого-то ведь расстреляли вместо меня!», повторял – «теперь я должен жить и за этого человека, и сделать как можно больше!».
Пройден самый страшный момент лагерной жизни. Лихачев начинает работать в Криминологическом кабинете. Он увлечен теперь делом – важным и весьма полезным. Его начальник Александр Николаевич Колосов оказывается человеком умным и деятельным. Он выдвигает идею, которая увлекла и Лихачева и при этом понравилась и начальству. Он создал на Соловках детскую колонию – для несовершеннолетних преступников – и спас сотни бывших беспризорников, которые без всякого учета были растворены в общей массе заключенных и погибали в этих условиях, а для детской колонии были построены специальные бараки, были выданы бушлаты, обувь, а главное – все были поставлены на учет и питание. Когда разошелся слух о хороших условиях в колонии, дети сами начали приходить туда, но до этого Лихачеву пришлось долго мучиться, разыскивая их в бараках под нарами, вести с ними беседы, распутывать постоянное их вранье, находить слова, действующие на них. О работе этой Лихачев вспоминал с удовлетворением и в конце своей жизни.
Когда многих «соловчан» стали переводить на материк, на строительство Беломорканала, прошел слух и о переезде Колосова. На прощальном вечере Лихачев стал говорить тост со стаканом компота в руке и расплакался: Александр Николаевич Колосов избавил его от самого страшного – от бессмыслицы существования, сделал жизнь его интересной и полезной, спас душу.
Многие знакомые, в том числе и друзья по «Космической академии», уже были переведены на материк, на строительство Беломорско-Балтийского канала и сообщали оттуда, что жизнь там гораздо терпимее, а работа интереснее. Его «подельник» по «Космической академии» Федя Розенберг на Беломорканале, на Медвежьей Горе оказался на хорошей счетной должности и прислал вызов Лихачеву «как выдающемуся бухгалтеру». Но того долго не отпускали. Однажды симпатизирующий ему канцелярист показал ему его дело. Там стояла запись: «Имел связь с повстанцами на Соловках». Лихачев понял, что причиной записи послужил случай, когда он столкнулся с группой заключенных, которых конвой гнал на расстрел, и, увидев среди смертников своего знакомого, снял фуражку и низко поклонился. Такие вещи тут не прощались.
Дважды Лихачеву объявляли о выезде – и дважды в последний момент не выпускали. И только в третий раз – уже без слез и речей, с которыми его провожали первые два раза, – Лихачев, наконец, покинул Соловки на том самом пароходе «Глеб Бокий», который когда-то его сюда привез, названном, что удивительно, именем живого начальника лагеря, отличавшегося жестокостью и хитростью, лично сопровождавшего Максима Горького.
Главный итог – Лихачев прошел каторжные испытания достойно, ни в чем себе не изменив. Наоборот – он вышел оттуда закаленным испытаниями. В одном из интервью, уже много лет спустя, он сказал о моральном уроке лагерей: «Главное – чтобы „моральная порча“ не проникала в тебя, даже в самых малых дозах – после этого неизбежно начинается разложение».
«Медвежья Гора, – вспоминает Лихачев, – встретила нас солнцем, которого мы давно уже (с лета) не видели на Соловках, и чистым, только что выпавшим первым снегом. Я был в счастливейшем настроении. Именно в этот день я пережил ощущение освобождения. Оно не повторилось, когда в 1932 году 8 августа я был действительно освобожден». Он научился здесь ценить жизнь, находить высокое среди грязи и уже оценивал Соловки не только лишь как ужасный лагерь – но и как замечательный исторический объект, великий центр христианства и культуры. Лихачев прошел еще один «университет», и прошел блестяще, встретил замечательных людей, которые и его оценили высоко. Лихачев узнал себе цену. Каждый встречает равных себе.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
Последние месяцы заключения Лихачев проработал на строительстве Беломорканала (куда его вызвал Федя Розенберг) – на железнодорожных станциях Медвежья Гора, Званка и в Тихвине. Он вполне успешно справлялся с должностью диспетчера грузовых поездов и даже получил удостоверение «Ударник Беломорстроя». В начале августа 1932 года пришло распоряжение ехать на Медвежью Гору за документами на досрочное освобождение. Незадолго перед этим приехали в Тихвин родители Лихачева и его младший брат Юра, который замечательно плавал и нырял. Им так понравилось в Тихвине, что они уговаривали остаться там на весь август. Но Лихачеву этого совсем не хотелось. Он подсчитал: «Я провел девять месяцев на Шпалерной, три года на острове, и девять месяцев на Беломорско-Балтийском канале: на Медвежьей Горе, на Званке и в Тихвине».
И уже в первой половине августа они приехали в Ленинград. Впечатление было не радостное. Как писал Лихачев: «С 1917 по 1950 год дома были тусклые, редко красились, орнамент не выделялся – сойдет и так. Люди ходили оборванные: не приняли бы за буржуев… Единственное яркое пятно, которое запомнилось за эти десятилетия – синяя бекеша Шаляпина. Когда рассказали, что за границей цветные авто – не поверил… Перед самым арестом заказывал костюм (за 40 рублей, большие деньги). Заказывал темно-синий – но он все равно оказался черным. Пока я сидел, его носил младший брат Юра. По возвращении из лагеря родители купили черный грубошерстный костюм, в котором я проходил до конца войны. Темно-коричневая толстовка, все остальное черное. И бритвы не было, а стриг я бороду машинкой».
Никакие радости его тут не ждали. Жизнь его семьи сильно ухудшилась. Отец потерял прежнюю должность, а вместе с этим и хорошую казенную квартиру на Ораниенбаумской, и они теперь жили неподалеку от прежнего дома, на Лахтинской улице, но уже в коммунальной квартире вместе с семьей инженера Кесарева, друга старшего лихачевского брата Михаила.
И если с пропиской (что было очень не просто) вдруг получилось, то с работой все обстояло плохо. Известно было, что сам Сталин, всячески пропагандируя успехи «перековки» людских кадров на Беломорье, велел всячески поддерживать «перековавшихся», разрешил им жить в больших городах и не велел чинить им преград при устройстве на работу. Но на самом деле начальство не слишком верило в эти «прекрасные порывы» вождя (глядишь, им же придется и отвечать), и «каналармейцев», даже с отличиями, брали на работу весьма неохотно. Кроме того, из-за неожиданного ареста Лихачев не успел получить университетский диплом, хотя прослушал почти полный курс требуемых наук и подготовил две отчетные работы: одну для романо-германской секции – о книгах Шекспира в России в конце XVIII – начале XIX века, а другую для славяно-русской секции – о «Повестях о патриархе Никоне». Но свидетельство об окончании университета удалось получить лишь позже, а устраиваться, вписываться в жизнь надо было немедленно. И тут его спас отец. Роль отца в жизни Лихачева была определяющей. В свое время приезд родителей на Соловки «отвел» Лихачева от расстрела, и другие их посещения поддерживали его материально и духовно. Теперь Сергей Михайлович, сохранивший свои связи в книжном мире, смог помочь сыну устроиться на работу, которая хоть как-то соответствовала его интересам и способностям. В свое время, будучи инженером «Печатного двора», Сергей Михайлович (когда еще Дмитрий был студентом) работал по совместительству в Доме книги (в Доме под глобусом, который многие знают как Дом Зингера), где помещалось и местное отделение Госиздата. И Дмитрий Лихачев, студент, мог по отцовскому абонементу заниматься в огромной библиотеке Госиздата, составленной из реквизированных редчайших книг. И теперь они обратились сюда – здесь хорошо знали их обоих, – и Дмитрия Сергеевича приняли на должность литературного редактора.
Он только успел приступить к работе, как у него начались жесточайшие язвенные боли. Соловецкие ужасы даром не прошли. Впрочем, ужасы и не ушли. Все вокруг жили в ожидании ареста. Волна репрессий и не думала утихать, наоборот – поднималась. Страдания сказывались на здоровье: по пути на работу в трамвае Лихачев потерял сознание, горлом хлынула кровь. В больнице родителям сказали: надежд на спасение мало, потеря крови слишком большая. Его спас хирург Абрамсон, который как раз тогда, на свой страх и риск, делал первые опыты переливания крови. Затянувшееся пребывание в больнице спасло Лихачева от высылки из города (в издательстве как раз «составлялись списки» на высылку, и Лихачев в эти списки попал). И второй раз судьба спасла его! Потом он долго лечился в Институте питания – и спасался от болей и тревог чтением – читал книги по искусству, по истории культуры. Читал и потом, когда лежал после больницы дома. Работы за время болезни он лишился. Отец устроил его в типографию «Коминтерн» корректором по иностранным языкам. Помимо страданий самого Дмитрия Лихачева – сколько страданий перенесли его родители!
В 1934 году он был переведен ученым корректором в Издательство Академии наук, расположенное в классическом здании академии на набережной Невы, и страшное утомление глаз от корректорской читки не останавливало его от запойного чтения после работы – количество книг, которые он считал необходимым прочесть, не уменьшалось, а увеличивалось. Великого ученого сопровождает всегда великая страсть.
При этом добросовестный Лихачев весьма увлекся и корректорским делом (тем более это как бы продолжало и работу отца, отдавшего значительную часть своей жизни изданию книг). С другими сотрудниками он выпускает справочник-инструкцию для корректоров, и одно время казалось, как признается сам Лихачев, что корректорское дело станет его профессией навсегда. Главное, что удерживало Лихачева здесь, – незаметность. Высунешься – попадешься! Даже среди корректоров, его коллег, многие были арестованы. Он вспоминает, как опустели улицы после убийства Кирова: люди старались нигде не появляться, не попадаться на глаза. Лихачев «затаился» в корректорах… Но страстное желание писать самому, заниматься научной деятельностью не оставляло его.
Поначалу, как признается сам Лихачев, писать не получалось. Почему-то все замечательные школы, которые он посещал, давая широкое образование и приучая мыслить, не учили писать. А последние годы в школе, как вспоминает Лихачев, писать вообще было трудно, поскольку от холода в классе пальцы не гнулись.
Его дипломные труды в университете – о Шекспире в России и о «Повестях о патриархе Никоне», может быть, и содержат интересные мысли, однако написаны, как признается Лихачев, по-детски беспомощно. Особенно не давались ему логические связи между фразами – связный текст не складывался никак.
Люди заурядные смиряются со своими недостатками (да чего уж там!), однако и многие выдающиеся люди, добившись главного, в остальном снисходительны к себе. Их недостатки как бы еще контрастнее подчеркивают их достоинства. Характер Лихачева другой. Всю жизнь он старательно, скрупулезно, даже, как считали некоторые его завистники, занудно стремился к совершенству во всем – даже в том, что не относилось непосредственно к его деятельности, но попадало в поле его зрения. Поэтому хороших ученых много – а Лихачев один.
Он начинает учиться писать. Теперь в отношении к знаменитому Лихачеву эта фраза звучит дико!.. Но такое было.
Большинство людей заурядных уверены, что они и так пишут неплохо. «А лучше – зачем?» Лихачев, однако, находит и читает книги, написанные, с его точки зрения, блестяще – прежде всего литературу искусствоведческую – Алпатова, Дживелегова, Муратова, Грабаря, Врангеля (искусствоведа), и пытается в своих писаниях подражать им. И вот – у него стало получаться!
Первый его серьезный письменный труд, появившийся после возвращения, – статья «Черты первобытного примитивизма воровской речи», напечатанная в сборнике «Язык и мышление» и сразу же отмеченная разгромной рецензией Михаила Шахновича «Вредная галиматья». Но видные лингвисты того времени – Абаев, Быховская, Башинджагян – отзывались о работе одобрительно. Первая же его статья сделала Лихачеву имя среди лингвистов. Старый лихачевский знакомый Оксман, бывший в тот момент заместителем директора Института русской литературы, пригласил Лихачева работать у них. Лихачев был человеком сдержанным, осторожным – особенно после каторги. Понимал, что после рецензий, подобных статье Шахновича, обычно следует арест. Он понимал, что пострадать может не только он. Но «зов науки» оказался сильнее страха. Главная, определяющая страсть его жизни уже определилась. Вторая его статья уже тоже готовилась к изданию в сборнике «Язык и мышление».
В 1935 году он женится. Зинаида Александровна Макарова, спутница всей его жизни, главная помощница и вдохновительница, приехала в Ленинград из Новороссийска, но к моменту их встречи стала уже настоящей ленинградкой. Даже южнорусский акцент в ее речи почти не чувствовался, а затем и вовсе исчез.
Наиболее любовно и подробно Зинаида Александровна отображена в воспоминаниях ее внучки и тезки – Зины Курбатовой. Часто так бывает, что особая близость устанавливается между бабушкой и внучкой.
Две Зины вместе разглядывали альбомы с фотографиями, привезенными Зинаидой Александровной из Новороссийска, с еще юношескими ее фотографиями.
– А! Это мы с Нинкой Урвачевой! – восклицала Зинаида Александровна и сразу молодела. Выросла она в многодетной семье. Все ее предки и родственники на фотографиях – черноволосые, широкоскулые, как и сама Зина. В молодости она была веселой, энергичной, запросто переплывала широкую новороссийскую бухту.
Даже на фотографиях голодных двадцатых годов Зинаида Александровна нарядная и веселая, в центре компании. «Бабушка в молодости была тусовщицей!» – так определила внучка Зина. Действительно, как вспоминает Зинаида Александровна, собирались они с друзьями часто, веселились – но пили лишь чай с булкой.
При всей той бурной молодой жизни ни в какую общественную жизнь, а тем более в «комсомолию», Зинаида Александровна не пошла. И хотя семья была не дворянская, отец был простой труженик, красных они не любили. Все ростовские родственники семьи на фотографиях – в форме белой армии. Зинаида Александровна вспоминает, как при вступлении белой армии в Новороссийск кто-то из ее родных воскликнул: «Наши пришли!» Что все страдания идут от большевиков, от революции и гражданской войны, было слишком очевидно.
Зина мечтала выучиться на врача, но не получилось. Когда ей было всего двадцать, от тифа умерла мать. Ее отец после этого не женился, остался вдовцом, и на Зину целиком легла забота о доме. Макаровы всей семьей переехали в Ленинград, когда Зине было 27. Она выучилась на бухгалтера, поступила на работу в издательство – и здесь увидела Дмитрия Лихачева. Зина воспитала трех младших братьев, спасла их от голода, холода и нищеты – и что-то похожее она ощутила, когда увидела Митю Лихачева. Первым чувством Зинаиды Александровны было вовсе не восхищение юным красавцем, а наоборот – сострадание к нему. Лихачев, измученный болями в желудке, бытовыми неурядицами, производил впечатление самое трагическое. «Бедный! – поделилась своими первыми ощущениями Зина со своими коллегами. – Уже холодно, а он в тапочках!» Этот, говоря по-научному, артефакт и решил их судьбу. Сперва – сочувствие, желание помочь, благодарность в ответ, и – любовь! Теперь Лихачев имел самую лучшую спутницу жизни – и своим взлетом он во многом обязан ей.
…На самом деле, как с улыбкой рассказывал Лихачев своей внучке Зине, он ходил тогда в тапочках не от бедности – просто после многолетнего таскания лагерных сапог хотелось иметь на ногах что-то легкое. В любом случае – тапочкам спасибо!
В папке, случайно найденной среди нагромождения других уже после его кончины, вдруг обнаружились неожиданно откровенные записи его семейной жизни… раньше он словно стеснялся этого, главным считая науку. И вот…
«…Ожидали ребенка в Новгороде. Ходили пешком в Волотово, Нередицу… Вернулись на Лахтинскую улицу, дом 9, кв. 12 к себе на 5-й этаж. Там три комнаты в коммунальной квартире вместе с Мишиным приятелем инженером Кесаревым… По настоянию отца нам с Зиной была отдана самая большая комната в два окна. Короткую занял отец: у него стояла оттоманка и наш семейный буфет. Дедушка читал на ночь. Длинная комната в одно окно стала бабушкиной. Комната была „роскошной“: зимний пейзаж художника Массена, гобелен. В эту комнату переехал и Юра, когда развелся с первой женой Ниночкой. В нашей двухоконной комнате стояли остатки кожаного кабинета конца века, купленного С. М. на карточный выигрыш во Владимирском клубе. Раньше стоял рояль „Дидерикс“, но его пришлось убрать. Складную кровать прятали за оттоманку.
…Пошли в родильный дом на Малом проспекте. Утром позвонила акушерка, сообщила: родились две девочки!
Бабушка Вера Семеновна ахнула: „Как мы сможем поднять двух детей?“ Барманский сказал в издательстве мне: „На детей всегда Бог посылает!“ …Плакали взапуски, хворали вдвойне, шалили вдвойне. Но и радости было вдвойне больше. Родившуюся первой назвали Верой, чтобы бабушка Вера помогала, вторую – Милой, чтобы именины были рядом, и отмечать вместе. Детское приданое купил местком: две деревянные кроватки. Приехали на машине, доставили домой, с торжеством. Верина кроватка ставилась ближе к раскладушке Зины, так как Вера плакала больше, тут же подхватывала и вторая. Вера ровно в 12 ночи с закрытыми глазами переваливалась в кровать к маме и спала с ней. Я приходил из издательства и лежал с язвенными болями. Зина ушла с работы в издательстве – брали рукописи на монтировку, после аналогичной работы в издательстве. Со знакомыми и друзьями не виделись, что, может быть, спасло от вторичного ареста».
Молодые надеялись на счастье, они заслужили его… и не могли предвидеть тех драм, которые преподнесет жизнь.
Эту семью многие считали безупречной, и никто не помнит у них значительных ссор. Лихачеву было свойственно скорее скрывать эмоции, чем делиться ими, но все, кто знали их семью, говорят о нежности и доверительности их отношений – о самом тяжелом они всегда говорили вдвоем с супругой, уединившись, и вместе принимали самые важные решения. Зинаида Александровна сразу проявила хватку и деловой подход к проблемам, мучившим тогда Дмитрия Сергеевича.




Великий Новгород. Рисунки Д. С. Лихачева. 1938 г.
Главным, конечно, был страх ареста. Дмитрий Сергеевич вспоминает, что страшно была по утрам смотреть на список жильцов на лестнице – всех арестованных тут же вымарывали: не дай бог, останется фамилия «врага народа»! – и таких замаранных строчек с каждым днем прибавлялось. Дмитрий Сергеевич уже проходил через все это и представлял себе все очень ясно.
Он работал корректором вплоть до 1937 года, и, конечно, не раз приходила мысль: неужели это вершина его карьеры? Но, с другой стороны, эта работа позволяла быть «невидимкой», не высказываться ни по каким острым вопросам, из-за которых мгновенно может «нарисоваться» арест. В одном из интервью он говорит: «Главное было – не прийти ни на одно собрание – и я перед каждым брал бюллетень. Да у меня и действительно начинались язвенные колики. Проголосовать против (против очередного „единогласного“ осуждения врагов народа. – В. П.)означало немедленную гибель! Но я не проголосовал ни за одну смертную казнь!»
По тем временам это было, конечно, подвигом. «Уклонение от голосования» конечно же бралось на заметку, и опасность все приближалась. Однажды, когда он лежал в больнице с язвой желудка в очередной раз, в городе началась паспортизация – событие это было довольно грозное. Всем, кто имел «неправильное происхождение» или судимость, новых паспортов не давали, а это означало высылку из города (в лучшем случае). Уже отказали в паспортах его «подельникам» – Сухову и Тереховко.
И тут молодая жена Лихачева энергично принялась за его спасение. Она узнала, что ученый корректор издательства, где работал Лихачев, Екатерина Михайловна Мастыко, детство провела в одной компании с нынешним грозным наркомом юстиции Крыленко. Нелегко было уговорить Екатерину Михайловну поехать к Крыленко – страшно женщине показываться тому, кто знал ее молодой, да и просто страшно предстать перед грозным наркомом, да еще с такой просьбой: это могло плохо кончиться! Однако Зина уговорила ее и даже дала ей свою нарядную кофточку. И спасла мужа. С подругой детства Крыленко был любезен, обещал помощь, но когда приехал к нему Лихачев, Крыленко еще в приемной, при большом скоплении народа, наорал на него, как было и положено наркому юстиции при встрече с таким «просителем». Знающие люди потом объясняли, что Крыленко сам был «под топором» и такая публичная демонстрация «революционной бдительности», как он надеялся, могла его спасти. Но на самом деле – он внял просьбе подруги детства, и несколько месяцев спустя пришло письмо из Наркомюста о снятии с Лихачева судимости!
Приободрившись (с такой женой можно добиться всего!), Лихачев решается выйти из корректорского «подполья» и начать заниматься наукой, о чем давно страстно мечтал.
Его первая, наделавшая шуму статья «Черты первобытного примитивизма воровской речи» была лингвистической, при этом – дерзкой, рассчитанной на шок, и Лихачев (выходит уже и вторая его статья) решает поступать в аспирантуру главного центра изучения лингвистики – Института речевой культуры. Там работал весь цвет академической филологии – Жирмунский, Мещанинов, Шишмарев.
Заявление от него приняли. Он приложил удостоверение «Ударник Беломорстроя». Милости Сталина к ударникам стройки знаменитого Беломорканала были широко известны.
Однако бдительным товарищам почему-то казалось, что Лихачев так и не «перековался» в этой «великой кузнице» и «настоящим советским человеком» так и не стал. В аспирантуру его не приняли. Сперва, на экзамене по истории, придрались к тому, что Лихачев упомянул в ответе книгу Бухарина, а это, оказывается, уже делать было нельзя… за этими партийцами, непрерывно арестовывающими друг друга, разве уследишь? Так ни на что другое времени не хватит. Экзамен был провален.
На втором экзамене – по специальности – был задан внешне простой вопрос, ответ на который, однако, должен был занять около получаса, и состоял из длительного перечисления трудно выговариваемых терминов. Лихачев (уже поняв, что его нарочно заваливают) обиделся и отвечать на этот вопрос не стал. Задал этот вопрос, что интересно, знаменитый лингвист, который впоследствии ни в каких подлостях не был замечен, поэтому Лихачев не называет его фамилии.
Нам остается теперь только гадать, чем был продиктован этот «вопрос на засыпку»: политическим нажимом или «чисто научной» ревностью? Могло, кстати, сочетаться одно с другим. Но не будем слишком пессимистично думать о людях науки. Возможно, там случается и «подсиживание», но лучше запоминаются моменты солидарности.








