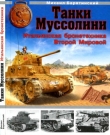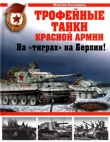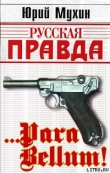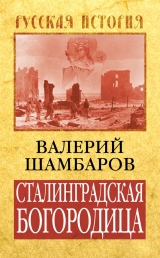
Текст книги "Сталинградская Богородица"
Автор книги: Валерий Шамбаров
Жанры:
Cпецслужбы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 45 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
7. Катастрофа под Киевом
22 июля германская авиация совершила первый налет на Москву. Ущерб был незначительным, но нацистская пропаганда раструбила – люфтваффе крушит русскую столицу! В Кремле задумались, нельзя ли ответить адекватно. Но фронт уже сдвинулся далеко на запад. Оценили возможности наших бомбардировщиков, и оказалось, что достать до Берлина можно только с Моонзундских островов – на Балтике, у берегов Эстонии. На самом большом из них, о. Эзель (Сааремаа), спешно оборудовали аэродром, сюда направили полк морских бомбардировщиков.
7 августа 1941 г. 15 машин ТБ-3 под командованием полковника Преображенского взяли курс на Берлин. Немцы не ожидали налетов с русской стороны. Светомаскировки не было. ПВО принимала самолеты за свои, заблудившиеся. Прожекторами подсказывала аэродромы для посадки. Самолеты беспрепятственно сбросили бомбы, и только после этого в Берлине погасло освещение, взбесились зенитки. Домой вернулись без потерь. А германское радио известило: «В ночь с 7 на 8 августа крупные силы английской авиации в количестве 150 самолетов пытались бомбить нашу столицу. Из прорвавшихся к городу 15 самолетов 9 сбито». Откликнулась радиостанция «Би-би-си»: «Германское сообщение о бомбежке Берлина интересно и загадочно, так как 7–8 августа английская авиация над Берлином не летала».
Внесло ясность советское информбюро: бомбили русские. Немецкое руководство даже не хотело поверить в это, но удары повторялись. К морской авиации добавился полк армейских дальних бомбардировщиков. Теперь враг был уже настороже, наши летчики несли потери. К тому же самолеты были старыми, изношенными. Несколько машин погибли на старте, попытавшись взлететь с нагрузкой в 1000 кг бомб (хотя теоретически могли поднять ее). Нагрузку пришлось снизить. Но важен был сам факт бомбежек. О них сообщало радио, советские граждане ободрялись – не только немцы долбят нас! Мы тоже можем! А в Германии, да и по всему миру люди убеждались: нацистская пропаганда врет, Советский Союз отнюдь не сломлен.
Правда, налетов на Берлин удалось осуществить всего девять. Германская группа армий «Север», отразив контрудар на фланге, возобновила наступление. Пали Новгород, Чудово. А в Эстонии немцы вышли к Финскому заливу. Отрезали от своих советскую группировку в Таллине и Моонзундские острова. Самолеты пришлось перенацеливать против надвигающихся гитлеровских войск.
На противоположной оконечности советско-германского фронта, на юге, положение казалось относительно благополучным. Но именно отсюда Верховное командование забирало дивизию за дивизией, чтобы затыкать дыры на центральном участке. Боевые порядки ослаблялись. Пытаясь улучшить управление войсками, Ставка создала еще одну командную инстанцию, «направления», для координаций действий нескольких фронтов. Юго-Западное направление было поручено маршалу Буденному. В сложившихся условиях он и командующий Юго-Западным фронтом Кирпонос нашли разумное решение. Подступы к Киеву прикрывали укрепрайоны старой «линии Сталина». Если отвести армии на эти позиции, врага можно было остановить.
Но командующий группой армий «Юг» фон Рундштедт догадался о подобных замыслах. Отход в укрепрайоны требовалось сорвать. Рундштедт притормозил подчиненных, чтобы не подгонять русских. Быстро сосредоточил два кулака, и 1-я танковая группа фон Клейста ринулась на прорыв под Бердичевом. А южнее в советскую оборону врезались 17-я германская армия и отборный венгерский корпус. Буденный и Кирпонос сочли, что враг хочет захватить Киев. Собирали все резервы, выщипывали подразделения с других участков, перекрывали дороги к столице Украины. Однако немцы обманули, на Киев не пошли. Оба клина вдруг повернули навстречу друг другу и сомкнулись. Две армии, 6-я и 12-я, очутились в кольце возле Умани. Выйти было вполне возможно, и 11 тыс. бойцов вышло. Но добавились разброд, паника, а оба командующих армиями предпочли сдаться. Вместе с ними подняли руки 50 тыс. солдат и командиров [114].
Выручить окруженных мешали другие удары. Если румынам так и не удавалось одолеть советские боевые порядки в Молдавии, то им помогли. С территории Румынии развивала наступление 11-я германская армия Манштейна. Продавливала и обходила с фланга Южный фронт. Ему тоже пришлось пятиться. Неприятель вступил в Кишинев, а 5 августа авангарды немцев и румын вырвались к Черному морю. В Одессе оказалась отрезанной от основных сил Приморская армия. Она была маленькой, всего из трех дивизий. Но эта армия сумела опереться на ресурсы большого портового города, на помощь подошли корабли Черноморского флота. 4-я румынская армия под Одессой крепко застряла [55].
Впрочем, неудачи воспринимались интервентами всего лишь как досадные случайности. Серьезных причин огорчаться не было. Даже советские контрудары в лучшем случае задерживали врага, а потом оборачивались новыми бедствиями. В прошлых главах упоминалось, как погибла 34-я армия Качалова, вклинившаяся между группами армий «Север» и «Центр». Аналогичным образом между группами армий «Центр» и «Юг» вклинился Центральный фронт. Освободил ряд городов, занял чрезвычайно выгодное положение. Но подкрепить его было нечем, и фронт застопорился прямо между двух жерновов! Когда неприятели завершили операции под Уманью и Смоленском, они подтянули войска к образовавшемуся глубокому выступу. Навалились с двух сторон – и завязали еще один мешок, добавили сотни трофейных пушек, танков, многотысячные вереницы пленных.
Сталин и его военачальники лихорадочно искали, как же переломить ситуацию. Линия фронта все более явно выгибалась к Москве, и единственным выходом выглядело повторение ударов по флангам. Только подготовить их получше, сил собрать побольше. А на Украине начальник Генштаба Жуков предложил отвести армии за Днепр, закрепить оборону по линии полноводной реки. Но это означало сдать Киев, третий по значению и один из красивейших городов Советского Союза! Даже обсуждение такого варианта возмутило Сталина, он обругал Жукова. Тот вспылил, подал в отставку. Его отстранили от руководства Генштабом и назначили командовать Резервным фронтом [54]. Поручили готовить контрнаступление на «верхушку» дуги, нацелившейся на Москву. Еще две группировки сосредотачивались на флангах. На северо-западе, под Великими Луками должен был ударить Западный фронт, а на юге формировался новый, Брянский фронт генерала Еременко.
Но на фланги обратили внимание не только русские. 21 августа Гитлер издал директиву – приостановить наступление на Москву, провести операции вправо и влево, на Ленинград и Донбасс. Впоследствии германские генералы породили теорию, будто война была проиграна только из-за «роковых ошибок» фюрера, и одной из них дружно признавалась эта самая директива. Кстати, сразу оговоримся, генералы силились всего лишь перевалить вину с собственных персон. Сами по себе теории «ошибок» недорого стоят. В войне действуют массы людей, непредсказуемых факторов, поэтому ошибки неизбежны. А военное искусство именно в том и состоит, чтобы заметить промашки противника и воспользоваться ими. Допустим, если бы не «роковые ошибки» советского руководства, то немцы вообще не очутились бы под Москвой.
Что же касается данного решения Гитлера, то большинство исследователей сходится – оно было совершенно оправданным [43, 149]. Грубо просчитались сами генералы, составлявшие план «Барбаросса». Незыблемые правила военного искусства требуют концентрации сил, сходящихся ударов. А направления групп армий «Север», «Центр» и «Юг» расходились широким веером. Военная наука допускает подобные действия лишь в единственном случае. Если неприятель полностью разгромлен и необходимо побыстрее занимать территорию, пока он не сорганизовал новые силы. На это, собственно, и рассчитывалось. Уничтожить Красную армию возле границ – и вперед! А после разгрома армии рухнет и государство, как было в западных странах.
Однако Советский Союз оказался гораздо прочнее, чем прогнозировали в Берлине. И гораздо прочнее, чем демократические правительства Европы, валившиеся от первых же потрясений. Наша страна устояла, неимоверными усилиями реанимировала уничтоженные фронты и армии. Дальнейшее продвижение германских лавин становилось не легче, а труднее. Разведка доносила, что на флангах накапливаются крупные силы. Если развивать рывок на Москву, тут-то они вступят в дело. Натиск сорвется, придется снова отвлекаться, поворачивать танковые кулаки. Гораздо правильнее выглядело зачистить фланги, а уже потом, без помех, идти на Москву.
Танковую группу Гота фюрер на три недели «одолжил» группе армий «Север», а танковую группу Гудериана и 2-ю полевую армию – группе армий «Юг». Трех недель должно было хватить для уничтожения советских фланговых группировок. Однако три русских фронта, Западный, Резервный и Брянский, начали раньше, чем прогнозировало немецкое командование, – в тот же день, когда фюрер подписывал директиву, 21 августа. На центральном участке, под Ельней, две армии Резервного фронта нацеливались срезать выступ линии фронта, окружить стоявшие здесь четыре германских дивизии. Сюда было стянуто значительное количество артиллерии, танков. Войска Жукова смяли боевые порядки врага, освободили городок Ельню. Хотя ожидаемых результатов они не достигли. Окружение не удалось, немцы выскользнули из клещей. А наступающие части потеряли убитыми и ранеными треть личного состава, 30 тыс. бойцов.
На фланговых участках дело обернулось еще хуже. Ведь сюда разворачивались германские танковые группы. Брянский фронт как раз готовился к прорыву, обходить и окружать ядро группы армий «Центр». Но навстречу ему хлынули бронированные корпуса Гудериана, за ними выдвигалась 2-я германская армия. Советское командование не сразу сообразило, что происходит. Восприняло этот маневр как начало операции по взятию Москвы. Рассуждали, что немцы хотят обойти укрепления, построенные на Смоленском направлении, а потом повернут на север. Сюда начали спешно перебрасывать резервы.
Но лавина Гудериана неожиданно повернула не на север, а на юг! В глубокие тылы Юго-Западного фронта, все еще удерживающего Киев. И в это же время преподнесла сюрприз 1-я танковая группа фон Клейста. Она находилась гораздо южнее Киева, в низовьях Днепра. На левом берегу реки у немцев было захвачено несколько плацдармов. На одном из них, возле Кременчуга, саперы скрытно и быстро навели большой понтонный мост. Ночью, под проливным дождем, к Кременчугу подошли колонны фон Клейста. Сразу ринулись через Днепр и обнаружились там, где их никто не ждал. Устремились навстречу Гудериану!
На Юго-Западном фронте находился представитель Ставки маршал Тимошенко. Он понял, что назревает бедствие. Стал бить тревогу, докладывал в Москву – надо срочно отходить, оставить Киев. Но командующий фронтом Кирпонос помнил, что Сталин не хотел бросать столицу Украины, снял Жукова за такое предложение. Опасаясь прогневить Иосифа Виссарионовича, он принялся уверять, что отстоит Киев. Получая противоположные донесения, был сбит с толку и сам Верховный! Один военачальник убеждает, что все в порядке, а другой призывает спасаться!
Когда Сталин разобрался, что происходит на самом деле, он все-таки согласился, Киев надо эвакуировать. Но было слишком поздно. Клинья Клейста и Гудериана встретились, и очередной котел стал рекордным для всех войн до нынешнего времени. Возле Киева в кольцо попали четыре армии и управление Юго-Западного фронта – около 600 тыс. человек! А внутри кольца случилось самое худшее. Были потеряны управление и связь, покатилась неразбериха, армии превращались в толпы.
Кто-то выбирался к своим. Но вокруг лежали не леса, а открытые степи. Немцы расстреливали спасающихся с воздуха, рассылали на перехват подвижные отряды. Десятки тысяч бойцов погибли, в том числе командующий фронтом Кирпонос. 400 тыс. человек понуро потекли по дорогам в лагеря для пленных. И еще одна трагическая цифра. Среди трофеев, захваченных немцами, значилось всего… 50 танков! В летних сражениях была потеряна львиная доля боевой техники. Восполнить ее оказалось уже невозможно. Заводы в западных областях были захвачены врагом или эвакуировались на восток – на Урал, в Сибирь, Среднюю Азию. Им еще предстояло как-то устроиться на новых местах, налаживать производство. Да и как налаживать? Рабочие надевали шинели, брали в руки винтовки. Вместо них набирали женщин, подростков.
Перед немцами подобных проблем не стояло. Их обслуживали чехи, французы, бельгийцы, голландцы, датчане. Они вовсе не считали себя сторонниками Гитлера, коллаборационистами. Они всего лишь честно и добросовестно трудились. Они это умели, они так привыкли. А за это Гитлер позволил им жить, как они привыкли. Они получали неплохую зарплату. Могли зайти вечерком в любимое кафе. Поболтать с приятелями, выпить винца или пива. Могли прокормить семью, побаловать жену и детишек обновками, сводить в кино. Разве это плохо? С июня до конца 1941 г. германская армия одних лишь танков получила 5,5 тыс. – больше, чем у нее было к началу войны…
8. Схватка за Ленинград
Обилие техники и накопленный опыт позволили немцам выработать очень выигрышные тактические приемы. Сперва передний край неприятеля обрабатывала авиация. Пикирующие бомбардировщики Ю-87 с ревом устремлялись к земле, клали бомбы с довольно большой точностью, потом выстраивались в «карусель». По очереди проносились над позициями с воем сирен, сыпали мелкие бомбы, обстреливали из пулеметов. «Карусель» могла кружить целый час, и иногда этого бывало достаточно. Уцелевшие защитники разбегались или сдавались.
После самолетов вступала в действие артиллерия, шли танки. Обычно они строились клином, буквой V. Но к противнику было направлено не острие, а широкая сторона клина. Он был очень вытянут в глубину, и такое построение позволяло сосредоточить на километре фронта 50–60 машин! Советская артиллерия распределялась равномерно, и получалось, что бронированной массе противостоят 1–2 орудия. В основном, легкие «сорокапятки». Танки проламывали оборону на узком участке и расходились в стороны, давили позиции по соседству.
В эти же дни, когда Гудериан повернула на юг, 3-я танковая группа Гота совершила резкий разворот на запад. А здесь советское командование собрало второй кулак для контрнаступления. Под Великими Луками 22-я армия уже поднялась в атаки, в жестоких схватках овладела германскими позициями и углубляла прорыв. В Москву понеслись доклады об освобожденных деревнях. Но танковые клинья Гота вдруг врезались во фланг армии. Рассекли ее в двух местах, охватывая в кольцо. 34 тыс. человек угодили в плен, остальные кое-как выбирались в полном беспорядке. Части Гота прогрохотали по улицам Великих Лук и соединились с группой армий «Север».
Советский Северный фронт в августе был разделен на два. Сражения в Заполярье и Карелии продолжал Карельский фронт генерал-полковника Фролова, а оборона города на Неве возлагалась на отдельный фронт, Ленинградский. Однако этот фронт с самого момента своего образования оказался расчлененным – как уже отмечалось, немцы отсекли от основных сил Таллин. Здесь располагалась главная база Балтийского флота, но армейских частей было мало, и к обороне с суши город никогда не готовили – никто не предполагал, что враг может дойти так далеко! Теперь спешно формировались бригады морской пехоты, ее поддержали орудия береговой обороны, крейсеров и эсминцев. Балтийцы дрались жестоко, умирали героями. В одной из контратак отбили останки своего товарища матроса Никонова – он попал в плен, отказался отвечать на допросах, и после нечеловеческих пыток немцы заживо сожгли его. С осажденным Таллином поддерживали связь гарнизоны на Моонзундских островах, на полуострове Ханко.
Ну а немцы, проскочив к берегу Финского залива, повернули свои танковые колонны не на Таллин, а в противоположном направлении – решили нахрапом промчаться до Ленинграда. Чтобы их остановить, перебросили курсантов пограничного училища. Точнее, остатки училища, оно уже несколько недель держало оборону под Лугой. Для подкрепления курсантов нашлось лишь несколько танков и орудий. Но командиры пограничников правильно оценили: бронированный поток сметет их и даже не заметит. Приняли другое решение, отошли в лес, замаскировались. Пропустили танки и машины мимо себя и набросились на вторые эшелоны. Немцы оказались в замешательстве, стали разворачиваться назад, отряд с боями откатился обратно в лес. Но задачу он выполнил, выиграл время – командование успело наскрести резервы, перекрыть шоссе на Ленинград.
Таллин продержался три недели. Но подходили свежие германские контингенты. Из донесений разведки стало известно, что немцы стягивают сюда всю 18-ю армию, намечают штурм. Отразить его надежды не было. Флот и защитников было приказано эвакуировать. Хотя выбраться стало уже сложно. Неприятель завалил Финский залив минами, выставил по берегам артиллерию. Однако иного выхода не было. На корабли удалось взять 28 тыс. военных и 13 тыс. гражданских лиц. 28 августа флот отчалил.
Взрывы загрохотали сразу же. Погибали тральщики, пытаясь расчистить фарватер в минных полях. В темноте напарывались на мины транспортные суда, боевые корабли. Наблюдатели пялили глаза, высматривая, что чернеется в волнах – мина или обломки судна, взлетевшего на воздух раньше. Когда рассвело, обнаружить угрозу стало легче. Смертоносные рогатые шары аккуратно отталкивали баграми, не позволяя соприкоснуться с бортом. Но появились вражеские самолеты, заговорили береговые батареи. Кренились и раскалывались корабли, волны покрывались россыпями плавающих людей, взывающих о помощи. Оказать ее могли далеко не всем. Останавливаться было нельзя. Под бомбами, под огнем орудий это означало погубить другие суда, увеличить количество жертв. За время перехода затонуло 15 боевых кораблей, 43 транспорта и вспомогательных судна. В водах Финского залива оборвались и захлебнулись последними криками 10–12 тыс. жизней. До Кронштадта дошли 145 кораблей и судов.
А у немцев высвободилась целая армия. На картах стрелы с нескольких сторон протянулись к Ленинграду. Финский президент Рюти провел особые переговоры с германским посланником в Хельсинки. Согласился с идеей Гитлера, что Ленинград должен быть уничтожен. Сошлись, что на месте города останется небольшая немецкая крепость, а границей Германии и Финляндии станет Нева. Впрочем, финны схитрили. Их очень уж крепко ошпарили советские доты и батареи на старой границе. Поэтому финское командование не проявляло активности под Ленинградом. Предоставило штурмовать его немцам, а само развивало наступление в Карелии – там занимать чужие земли оказывалось полегче.
Однако германское руководство не придавало значения таким виляниям союзников. Ведь Ленинград все равно считался обреченным. Сталинская Ставка изыскивала любые меры, чтобы его спасти. Город готовили к боям. Жители от мала до велика рыли окопы, противотанковые рвы. Оборудовалось несколько рубежей даже внутри Ленинграда. Самый мощный проходил по Обводному каналу. Командовать Ленинградским фронтом назначили маршала Ворошилова – в войсках его очень любили, надеялись, что он воодушевит бойцов. Он и попробовал воодушевить, как в годы Гражданской войны. Выхватил шашку, с криком «ура» позвал за собой бригаду моряков. Увидев маршала с шашкой, матросы удивились, но дружно обогнали его, заслонили собой и отбросили врага штыками.
А к западу от Ленинграда, под Ораниенбаумом, откатывались поредевшие остатки советской 8-й армии. На берегу Финского залива здесь располагался форт Красная Горка. Он предназначался для обороны с моря, прикрывал Кронштадт. Немцы почти беспрепятственно текли по дорогам, и гарнизон был уверен – Красную Горку придется бросить, орудия взорвать. Но перед этим решили расстрелять снаряды по врагу. Открыли шквальный огонь. Орудия были морскими, крупнокалиберными. Если снаряд даже не попадал в танк, а рвался поблизости, танк переворачивало, как спичечную коробку. Германские части отхлынули в ужасе. К форту стали стекаться ошметки фронтовых отрядов, укреплялись. И на том участке, который прикрывали орудия форта, удержался Ораниенбаумский плацдарм – 65 км в длину и 25 км в глубину. Немцы обтекли его, отрезали. Сообщение с Ленинградом осталось только по морю. Но и немцы не смогли ликвидировать этот пятачок.
Правда, неприятель не слишком переживал. Падет Ленинград, и куда денется Ораниенбаум? А его падение представлялось очевидным. После того, как оборона на подступах к Ленинграду была взломана, Гитлер даже счел целесообразным забрать из группы армий «Север» оба бронированных кулака – и 3-ю танковую группу Гота, и «родную» 4-ю группу Гепнера. В большом городе использовать массы танков было опасно: пожгут в уличных боях. Теперь их передавали под Москву, но у фон Лееба хватало сил, чтобы добить Ленинград. Финская армия продвигалась севернее Ладожского озера, перерезала Кировскую железную дорогу. А немцы вышли к Ладожскому озеру с юга, в районе Синявина. 8 сентября они овладели Шлиссельбургом. Таким образом, Ленинград отсекли от остальной России. В этот же день, 8 сентября, отряд немецких мотоциклистов под Стрельной ворвался на южные окраины города, изрешетил пулями городской трамвай с пассажирами.
Баррикады и огневые точки, оборудованные на питерских улицах, грозили остаться невостребованными. Отступления и поражения уже воспринимались как нечто нормальное, естественное. Когда покатились слухи о немецких мотоциклистах, городское руководство переполошилось. Все вопросы обороны сразу были отброшены, как бы уже за ненадобностью. Закрутилась лихорадка по подготовке к уничтожению заводов. В войсках узнавали – Ленинград минируют. Чего же сражаться, если все кончено? В такой обстановке Ворошилов пал духом, сам попросил у Сталина сменить его.
Иосиф Виссарионович остановился на кандидатуре Жукова. Приказ о его назначении командующим Ленинградским фронтом был подписан 11 сентября, но в Ленинград об этом не сообщали. Попасть в окруженный город можно было только самолетом. Поэтому приказ должен был привезти сам Жуков – если не собьют, если долетит. Он долетел. Явился в Смольный на заседание военного совета, где обсуждалось уничтожение кораблей Балтфлота. Объявил, что повестку дня он отменяет: если корабли погибнут, то в бою, стреляя по врагу [54]. Жуков взялся налаживать оборону самыми энергичными мерами. Отступать без приказа категорически запретил. За самовольное оставление позиций предписывал расстрел. Наводился порядок, пресекались паника и пораженческие настроения. Но именно это оказалось главным! Врага остановили.
Как выяснилось, к 14–15 сентября немцы сами стали склоняться к отказу от штурма. Гитлер и раньше ставил задачу стереть Ленинград с лица земли. А если так, зачем его вообще брать, нести потери? Возникнут трудности с массами жителей, пленных… После того, как у Ладоги замкнулось кольцо блокады, у фюрера вызрело иное решение. Он запретил фон Леебу принимать капитуляцию Ленинграда, даже если таковая последует. Предписывалось запереть город в кольце, разрушить артиллерией и бомбежками, выморить голодом. Линия фронта замерла в 4–7 км от жилых кварталов и предприятий. Но вместо атак волна за волной накатывались воздушные налеты. Самым болезненным стало попадание бомб в Бадаевские продовольственные склады. Их охватило море огня. Полыхали хлеб, макароны, мука, расплавленный сахар растекался по улице горящими ручьями.
Но вскоре ведомство Геринга забило тревогу. Соединения люфтваффе несли слишком высокие потери. Оказалось, что германская разведка кое-что не заметила. Ленинград располагался совсем рядом с враждебной Финляндией, противовоздушную оборону тут отлаживали давно и серьезно. Она была сильнее, чем даже ПВО Москвы или Лондона! Вражеские стаи попадали в штормы зенитного огня, на перехват взмывали и истребители ПВО, и армейская, и флотская авиация. По ночам в небо поднимались махины аэростатов, перегораживали воздушное пространство джунглями тросов. Ночные бомбардировщики задевали о них, разбивались вдребезги. Зажигались букеты прожекторов, выхватывая цели для зенитчиков…
Командование люфтваффе прикинуло, что десяток-другой разрушенных домов и тысяча-другая убитых ленинградцев вовсе не окупают погибших самолетов и летчиков. Выделяло свои силы все реже, в меньших количествах. Но авиацию компенсировала тяжелая артиллерия. Ее в германской армии хватало, вплоть до шестидюймовых гаубиц. А из Германии специально выслали сверхтяжелые осадные орудия. Снаряды рвались послабее авиабомб. Зато падали неожиданно. О воздушных налетах оповещали посты наблюдения, звучали сирены, у людей имелись шансы добежать до бомбоубежища. Артиллерийские обстрелы гремели внезапно. Иногда по определенным целям, а то и по площадям, наугад. В большом городе куда-нибудь попадет!
Население Ленинграда в начале войны уменьшилось. Кто-то уходил в армию, уезжал с эвакуируемыми предприятиями. Но добавилось 300 тыс. беженцев из оккупированных районов. А многие горожане отказывались уезжать, бросать квартиры, менять устроенный быт на неизвестность. В блокаде очутилось 1,5 миллиона человек. Правда, окружение все-таки не было сплошным. Немцев и финнов не допустили встретиться, между ними лежало Ладожское озеро. По нему курсировали катера, баржи, возможность уехать еще была. Но за беззащитными речными суденышками гонялись немецкие, финские самолеты, расстреливая из пулеметов и пушек. А пропускная способность у них была низкой. Вывозили раненых, больных, детишек.
Подсчет продовольствия показывал, что положение катастрофическое. Степень надвигающейся угрозы пока представляют немногие, но Верховное главнокомандование оценивало ее верно. Первую попытку прорвать блокаду оно предприняло немедленно. Свежая, только что сформированная 54-я армия перевозилась к Ленинграду для подкрепления его обороны. Она опоздала, и ей изменили задачу. Поручили срезать Синявинский выступ линии фронта – тот самый выступ, занятый немцами, который протянулся до Ладожского озера. Навстречу, из кольца, должна была пробиваться Невская оперативная группа. Возглавил операцию маршал Кулик, но организовывал удар в страшной спешке, усугублял ее грубыми ошибками.
Эшелоны 54-й армии растянулись по перегруженным железным дорогам, прибывали по очереди. Кулик торопил наступать, пока немцы не закрепились. Как только выгрузилась и выдвинулась к фронту одна дивизия, ее сразу бросили в атаку. Но немцы знали от воздушной разведки, что к русским идут резервы. Дивизию ждали и отшвырнули. Лишь после этого к операции подключились еще две дивизии 54-й армии. Самоотверженными атаками потеснили врага на 6-10 км, их страшно повыбили, и они застряли, не в силах наступать дальше.
Между тем далеко на западе от осажденного Ленинграда удерживались еще две советских группировки – на Моонзундских островах и на полуострове Ханко. В обеих насчитывалось по одной стрелковой бригаде, моряки, артиллеристы. После падения Таллина они очутились за сотни километров за линией фронта. Бомбардировщики, летавшие на Берлин, получили приказ улетать. Пилоты увозили кого смогли из техников, механиков – впихивали как могли в кабины, бомболюки. Кто не поместился, вливались в число защитников Моонзундского архипелага. Ждать спасения им было неоткуда. А немцы выделили две дивизии, крупные соединения флота. Захватывать острова они наметили по очереди. Сперва сосредоточили все силы на острове Осмуссар, потом Вормси, Муху, Эзель (Сааремаа)…
Маленькие гарнизоны береговых батарей с жиденьким прикрытием пехоты упорно отбивались полтора месяца! Последним держался остров Даго (Хиумаа). Сюда собрались по дамбам и на лодках остатки защитников с других островов. Командование Ленинградского фронта и Балтфлота пыталось спасти хотя бы часть героев. Но немцы господствовали и на море, и в воздухе, их артиллерия простреливала подходы к острову. Проскочить ночью к Даго смогли только торпедные катера, вывезли около 500 человек на Ханко. А враг катера заметил, окончательно перекрыл подходы к острову. Вторым рейсом приблизиться к нему уже не получилось. Большинство наших воинов, дравшихся на Моонзундах, 23 тыс. человек, погибли или попали в плен. Хотя и неприятелям досталось. Немцы потеряли 26 тыс. убитых и раненых, 20 потопленных кораблей, 41 сбитый самолет.
Вторая база, на Ханко, выстояла больше пяти месяцев. После того, как финнов потрепали в первых боях, они прекратили атаки. Боевые действия ограничивались перестрелками, артиллерийскими и воздушными налетами, схватками десантных отрядов. Финны рассудили, что лишних жертв можно избежать, нужно лишь подождать зимы. Финский залив замерзнет, морское сообщение базы с родиной пресечется, а оборону можно будет обойти по льду. Это понимало и советское руководство. В конце октября было решено эвакуировать Ханко. Личный состав и имущество вывозили постепенно. Сперва тыловые части, потом стали снимать подразделения с позиций. Осеннее море штормило, появились льдины. Волны носили множество мин, сорванных штормами с якорей – и вражеских, и советских. А финны обнаружили эвакуацию, высылали свои корабли, обстреливали.
Невзирая на чрезвычайно тяжелые условия, операция протекала успешно. 2 декабря последние части покинули Ханко. Хотя напоследок не обошлось без трагедии. Турбоэлектроход «Иосиф Сталин», взяв на борт 5 тыс. человек, налетел на мины. Его тут же засекла финская береговая артиллерия, накрыла снарядами. 1740 человек удалось снять с корабля и вытащить из воды, но полузатопленный турбоэлектроход унесло к неприятельским берегам, и 3 тыс. человек попали в плен. В эпопее обороны Ханко эти потери были самыми серьезными. Гарнизон ушел непобежденным, в Кронштадт прибыли 22 тыс. человек, пополнив ряды защитников Ленинграда. Вывезли и богатейшие склады Ханко – продовольствие, горючее, боеприпасы. Для Ленинграда они стали поистине драгоценным подспорьем.