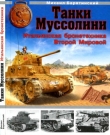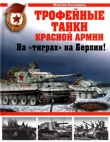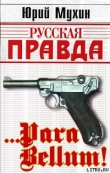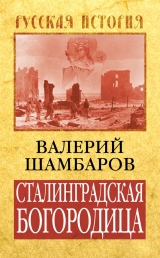
Текст книги "Сталинградская Богородица"
Автор книги: Валерий Шамбаров
Жанры:
Cпецслужбы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 45 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
20. В полярных морях
Западные поставки стратегических товаров были для СССР чрезвычайно важными. Хотя переоценивать их не стоит. Британский министр Эрнест Бевин откровенно признавался: «Вся помощь, которую мы были в состоянии оказать, была незначительной по сравнению с громадными усилиями советских людей». Разумеется, поставки не могли «компенсировать» русскую кровь, льющуюся на фронтах. А количество их составило лишь 4 % от вооружения и техники, произведенных самим Советским Союзом [112, 141]. Кстати, зарубежные авторы, силящиеся доказать решающее значение ленд-лиза в наших победах, допускают несколько натяжек. Они оперируют только суммарными цифрами. Но если разложить их по времени, то окажется – основной поток грузов стал нарастать с 1943 г., когда исход войны был уже ясен, отечественная промышленность наращивала производство, а западным державам требовалось доказать, что они тоже вносят значительный вклад в победу. Но в самый трудный период войны, когда на счету был каждый танк и самолет, объемы поставок оставались крайне незначительными.
Да и термин «ленд-лиз» в современных трудах о войне применяется некорректно. Напомню, он относился к бесплатной помощи, оружие и технику давали как бы в долг. Англия начала бесплатные поставки с сентября 1941 г. – она была непосредственно заинтересована поддержать боеспособность СССР, немцев отделял от нее только Ла-Манш. Был согласован первый союзный протокол о поставках до июля 1942 г. Но США распространили на нашу страну закон о ленд-лизе только в ноябре 1941 г., и даже после этого бесплатными были далеко не все товары. В 1941 г. они составили лишь 0,1 % от общего объема американских поставок. Остальное оплачивалось золотом – тем золотом, за которое гробились заключенные на Колыме. Тем золотом, которое собирали на нужды обороны семьи фронтовиков, сдавали обручальные кольца, серьги…
Одна дорога для перевозок в Советский Союз пролегла через Иран и Азербайджан. Но она была долгой, неудобной, пропускная способность низкой. Американские суда везли грузы во Владивосток, но война с Японией пресекла этот путь. А самая удобная дорога вела через северные моря, в Мурманск и Архангельск – нужно было миновать берега Дании и Норвегии с германскими морскими базами, аэродромами. Бороться с подобной опасностью уже научились, при перевозках через Атлантику была выработана система конвоев. Транспортные суда шли большими группами под охраной военных кораблей.
Конвои в Советский Союз получили обозначение PQ. Они формировались у берегов Исландии. Суда сопровождали крейсера и эсминцы, отражали вражеские самолеты и подводные лодки. На время прохождения конвоев в море выходили на дежурство сильные эскадры – на случай, если немцы вышлют на перехват крейсера или линкоры. На подступах к Мурманску конвои встречали советские корабли, прикрывала авиация Северного флота. В обратную сторону, из Советского Союза, следовали конвои QP. Система охранения оказалась довольно эффективной. Первые конвои проследовали вообще без потерь.
Англичане прислали в Мурманск и свою авиационную часть из двух эскадрилий. Воевала она неплохо, ее показывали журналистам как иллюстрацию «боевого братства» [115]. Хотя такое «братство» выглядело слишком уж символическим, как бы напоказ, ради галочки. А поступающих грузов было мало. При согласовании протоколов о поставках Англия и США уполовинили заявки Москвы. Объясняли, что в 1942 г. они откроют второй фронт в Европе, для этого нужно накопить ресурсы. Но союзники заведомо лгали. В их планах никакой второй фронт не значился [10, 70]. Зимой 1941/42 гг.
Черчилль составил меморандум для начальников штабов, где прямо указывал: «Главным фактором в ходе войны в настоящее время являются поражения и потери Гитлера в России… Ни Великобритания, ни Соединенные Штаты не должны принимать никакого участия в этих событиях, за исключением того, что мы обязаны с пунктуальной точностью обеспечить поставки снабжения, которые мы обещали».
Советский посол в Лондоне И. М. Майский приходил к выводу, что англичане, конечно, не желали поражения России. Но и не хотели ее победы. «Идеальным, с точки зрения Черчилля, было бы, если бы и Германия, и СССР вышли из войны сильно потрепанными, обескровленными и на протяжении по крайней мере целого поколения бродили бы на костылях, в то время как Англия пришла бы к выигрышу с минимумом потерь и в доброй форме европейского боксера» [72]. А представитель Рузвельта в Москве А. Гарриман в последующих интервью не скрывал, что он «делал в России важный бизнес» – пусть Советский Союз «разобьет силы Гитлера, и нам не придется самим выполнять эту грязную работу. Рузвельт не хотел допустить, чтобы войска США снова, как в Первой мировой войне, подверглись кровопусканию».
Впрочем, у американцев слово «бизнес» по отношению к войне выглядело оправданным и вполне допустимым. В правящей верхушке это были почти синонимы. Как только США вступили в войну, на советников и покровителей Рузвельта хлынули выгоднейшие назначения и приобретения. Барух стал экономическим диктатором, получил под контроль всю американскую промышленность и внешнюю торговлю. Точно такие же полномочия он получил от Вильсона в Первую мировую, за несколько лет стал одним из богатейших людей планеты. Теперь получил возможность повторить.
Начальником штаба армии США стал Маршалл – родственник банкиров (и сионистов) Маршаллов. Финансовые советники Рузвельта Варбурги унаследовали «семейную традицию». Их дядюшка Макс Варбург был не только банкиром, но и одним из руководителей разведки кайзеровской Германии, их отцы Пол и Джеймс Варбурги были связаны со спецслужбами Англии и США, участвовали в операциях по разрушению России. Теперь и их потомки Пол Феликс Варбург, Эрик Варбург заняли важные посты в военной разведке, Джеймс Пол Варбург стал заместителем директора Управления военной информации.
При таких руководителях спецслужб стоило ли удивляться, что некоторые стороны «бизнеса» никогда не открывались, а только гуще покрывались тенью? Американские фирмы и банки даже после вступления в войну не прервали своих связей с родственными предприятиями в Германии, Италии. Как раз теперь деньги, вложенные в этих странах в 1920-30-х гг., приносили основную прибыль, и финансисты США через швейцарские банки исправно получали свою долю. Иногда скандальная информация прорывалась наружу. Так, в 1943 г. официальный доклад межминистерского комитета по вопросам связи указывал на нечистые дела концерна «Интернешнл телефон энд телеграф корпорейшн», которому переводились солидные прибыли от дочерних структур в странах фашистской оси [9]. Но такие доклады и донесения слишком бдительных контрразведчиков оставлялись без внимания.
Ну а с другой стороны, после вступления в войну американская «закулиса» смогла приступить к реализации своих глобальных геополитических планов. Весной 1942 г. вместо мертворожденной вильсоновской Лиги Наций Рузвельт провозгласил новую систему, Объединенных Наций. Кому же, как не Америке, предстояло стать лидером в этой системе? Англия постепенно втягивалась в зависимость от США. А Советскому Союзу были позарез нужны вооружение и техника, и ему предложили закрепить союз, тоже вступить в Объединенные Нации. В ходе войны русские совсем ослабеют, тут-то и пригодится заготовка «мирового правительства», начнет регулировать и контролировать объединившиеся нации.
Поставки по ленд-лизу американцы обещали расширить. Однако стали сказываться другие факторы. Немцы разобрались, какое значение имеет дорога в полярных морях. В Норвегию перебрасывались подводные лодки, авиация, отрабатывались более эффективные методы нападений. Конвои начиная с PQ-8 стали нести потери. К тому же кончалась полярная ночь. Выслеживать и атаковать суда в светлое время было гораздо проще. В конвое PQ-13 насчитывалось 17 транспортов, из них враг потопил 5. А обратным рейсом из Мурманска на крейсер «Эдинбург» было погружено золото. Оплата за поставки, которую союзники содрали с нашей страны. Но немцы отправили «Эдинбург» на дно.
Эти потери (и особенно золота) переполошили англичан. Черчилль настаивал, что морские перевозки надо вообще прекратить до следующей полярной ночи! Предложил вместо этого увеличить поставки через Иран. Сталин протестовал. Ручеек грузов через Иран никак не мог сравниться с морским. На советских фронтах разгорались самые жаркие сражения, а поток военных грузов оборвется на целых полгода! Иосиф Виссарионович указывал, что потери в войне неизбежны и наша страна несет гораздо больший урон в сражениях [94]. В данном вопросе Сталина поддержал Рузвельт. Уж его-то потери английского флота совершенно не смущали. Кое-как договорились продолжать перевозки.
Но отношения в антигитлеровской коалиции оставались очень далекими от искренности. В тяжелейшей обстановке начала войны наша страна была рада любым друзьям. В частности, естественной союзницей выглядела Польша. Эмигрантское правительство, сидевшее в Лондоне, числилось в состоянии войны с Германией. В английских вооруженных силах были части из поляков. Правда, и с русскими сохранялось состояние войны – с тех пор, как СССР занял Западную Украину и Белоруссию. Многие польские солдаты и офицеры попали в советские лагеря военнопленных. В присоединенных областях прошли и политические «чистки». Те, кого признали врагами Советского Союза, угодили в ГУЛАГ. Но от немцев в нашу страну хлынули сотни тысяч беженцев. Их распределили по многочисленным «спецпоселениям» и «спецколхозам» на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке (это не были места заключения, поселенцам давали жилье, работу, но разъезжаться куда бы то ни было не дозволялось). Да и из пленных большую часть перевели в «спецпоселения», а солдат с Западной Украины и из Белоруссии распустили по домам.
Еще до войны Берия выступил с идеей – на случай столкновения с Германией создать армию из поляков. Для этого подобрали ряд генералов и офицеров, вели подготовительную работу. А в июле 1941 г. советский посол в Лондоне Майский провел переговоры с премьер-министром Польши Сикорским, подписали соглашение о мире и союзе [72].
Начиналось формирование армии. Командующим польское правительство определило генерала Андерса. Из «спецпоселений» было освобождено более 260 тыс. человек, из мест заключения 50 тыс., из лагерей военнопленных 26 тыс. Как ни трудно приходилось Советскому Союзу, он выделил свыше 400 млн руб., продовольствие, оружие, боеприпасы, обмундирование. В Оренбургской и Саратовской областях развернулось обучение воинских частей.
Предполагалось, что будут сформированы 2 дивизии и запасной полк, выступят на фронт. Но… сразу начались интриги. Уже в августе 1941 г. Черчилль говорил с Сикорским – полякам нежелательно воевать плечом к плечу с русскими. Стали исподволь составляться планы о выводе армии в районы, контролируемые англичанами. Андерсу поступили инструкции не допускать среди подчиненных «советской пропаганды», искать любые предлоги для эвакуации с советской территории. В декабре в Москву приехал Сикорский, подписал декларацию о дружбе и взаимопомощи, подтвердил обязательство «воевать рука об руку с советскими войсками». Но вместо того, чтобы послать свою армию на фронт, выпросил разрешение довести ее до 7 дивизий, 96 тыс. человек. А район дислокации переместили в Узбекистан – поляки убеждали, что там будет проще прокормить армию.
В 1942 г. разыгрались тяжелейшие сражения. Войск не хватало. Верховное командование обратилось к полякам – пора бы отправить на передовую хотя бы готовые части. Сикорский и Андерс наотрез отказались. Заявили, что армия выйдет на фронт только в полном составе. В общем, масса солдат сидела в тылах, потребляла дефицитное продовольствие, получала оружие, но от фронта уклонялась. Органы госбезопасности отмечали, что в войсках Андерса нагнетаются антисоветские настроения, говорят о нежелании подчиняться советскому командованию. Вопрос был поставлен ребром – кормить дармоедов Советскому Союзу трудно, люди в тылу голодали. Тут-то поляки и западные союзники использовали предлог: если трудно кормить, можно отправить к англичанам.
В марте 1942 г. на переговорах Сталина и Андерса договорились – для поляков оставляют 44 тыс. пайков, остальных эвакуируют в Иран (в армии насчитывалось 73 тыс. военных и 30 тыс. гражданских лиц). Иосиф Виссарионович видел, к чему идет дело, выразился откровенно: «Если поляки не хотят здесь воевать, то пусть прямо и скажут: да или нет… Обойдемся без вас. Можем всех отдать. Сами справимся. Отвоюем Польшу и тогда вам ее отдадим. Но что на это люди скажут…» Нет, Андерс и Сикорский заверили – они остаются союзниками. Просили продолжать формирование. Обещали завершить подготовку армии в июне.
Но и в последующие месяцы направлять своих подчиненных на фронт Сикорский и Андерс отказались. В июне русским приходилось совсем жарко, но вместо исполнения обязательств последовало обращение к советскому правительству – вывести в Иран всю польскую армию. Андерс объяснял это расплывчато – «стратегический центр тяжести войны передвигается в настоящее время на Ближний и Средний Восток». Видимо, не мог придумать ничего более толкового. Из донесений разведки Сталин знал, что инициатива принадлежит не только польским политикам и военным, манипулирует ими Черчилль. Да и американцы прозрачно намекали, что вывод поляков в Иран был бы полезен. Препятствовать не стали. Целая армия, сформированная на русский счет, ушла к англичанам. Хотя добрым отношениям с Польшей это никак не способствовало. Москва расценила данный шаг однозначно, как нарушение союзного договора.
И в это же время оборвались поставки союзников. Германские адмиралы правильно оценили, что англичане крайне встревожены высокими потерями при перевозках в СССР. Разработали операцию «Ход конем». Выбрать один из конвоев, целиком уничтожить его, и Англия скиснет, прекратит отправку грузов. Из германских портов в Норвегию были переведены линкор «Тирпиц», «карманные линкоры» «Адмирал Шеер» и «Адмирал Хиппер», несколько крейсеров.
В качестве жертвы наметили конвой PQ-17. Он был огромным – 34 транспорта и 2 вспомогательных судна. Но и защиту ему выделили сильную. Отряд охранения адмирала Гамильтона насчитывал 4 крейсера и 3 эсминца, отряд непосредственного прикрытия – 6 эсминцев, 2 корабля ПВО, 4 корвета, 7 тральщиков. А против тяжелых кораблей врага в море была выслана эскадра адмирала Тови – авианосец, 2 линкора, 2 крейсера и 14 эсминцев. Вдоль норвежских берегов развернулась завеса из 13 подводных лодок, перехватывать германский флот. Вышли на позиции и советские подводные лодки. Плавание PQ-17 началось благополучно. Появившиеся германские самолеты отгоняли зенитками. При подозрении, что близко германские субмарины, море обрабатывали глубинными бомбами.
Однако 4 июля британская воздушная разведка доложила: «Тирпица» нет в гавани. Казалось бы, опасаться нечего. Ведь силы британцев превосходили, и они предназначались именно на случай нападения крупных неприятельских кораблей. Но первый лорд адмиралтейства Паунд созвал экстренное совещание и радировал отряду охранения Гамильтона – оставить конвой и уходить к эскадре Тови. А транспортам рассеяться, добираться до портов назначения поодиночке. Чем было вызвано такое решение, историки спорят до сих пор. Боязнью сразиться с «Тирпицем»? Глупостью? Или политическим заказом? Приказ Тови очень уж хорошо подыграл желанию определенных кругов приостановить поставки Советскому Союзу.
Адмирал Гамильтон, получив этот приказ, еще и перевыполнил его. Он не только увел к Тови свои крейсера и эсминцы, а по собственной инициативе забрал с собой отряд, предназначенный для непосредственного прикрытия транспортов! Беззащитные грузовые суда были брошены на произвол судьбы. Хотя «Тирпиц» так и не появился. Донесение о его выходе в море оказалось ошибочным. Самый большой германский линкор просто перебрался на другую базу. О движении конвоя PQ-17 немцы узнали с запозданием. «Тирпиц» промешкал, готовясь к рейду на перехват. Отчалил, но его подстерегла советская подводная лодка К-21 капитана Лунина. Позицию она занимала не слишком удобную. Выпустила две торпеды и, видимо, не попала. Тем не менее линкор поспешил отползти обратно в гавань. А потом немцы обнаружили, что в море дежурит эскадра Тови, передали приказ всем своим надводным кораблям укрыться на базах.
Однако конвой PQ-17 уже рассредоточился. Суда разбредались кто куда. Вот тут-то над ними загудели германские самолеты, в волнах мелькнули перископы подводных лодок. Истребляли легко и безнаказанно. Взрывались и уходили под воду то один, то другой транспорт. Узнав о бедствии, из Мурманска вышли советские боевые корабли. Кого-то подбирали, кого-то спасали. Но до цели добрались немногие – погибло 24 судна. По сути, замысел германских адмиралов исполнился даже без участия тяжелых кораблей! Англичан трагедия потрясла. Они начали расследование и прекратили дальнейшую отправку конвоев.
А немцев успех настолько воодушевил, что они решили заодно перекрыть Северный морской путь. Внутреннюю дорогу России вдоль берегов Северного Ледовитого океана. В летнюю навигацию этим путем перевозились грузы из Сибири, с Дальнего Востока. Здесь суда тоже собирались большими конвоями, но этого требовали климатические условия – отряды ледоколов проводили караваны через ледяные поля. Советское командование Северного флота и Северного морского пути понимало, что вражеские корабли способны напасть на Заполярье. Вооружались гражданские пароходы и ледоколы, строились береговые батареи. Но орудий не хватало, оборонительные работы оставались незавершенными.
Между тем неприятель разработал операцию «Вундерланд» – «Страна чудес».
Намечалось разгромить советские полярные порты, метеостанции, потопить пароходы и ледоколы, действующие на здешних трассах. 16 августа 1942 г. из Норвегии вышел «карманный линкор» «Адмирал Шеер» в сопровождении стаи подводных лодок. Скрытно, в режиме полного радиомолчания, он миновал Баренцево море, проник в Карское. По данным германской разведки, навстречу шел конвой из 19 советских судов и 4 ледоколов. «Шеер» стал поджидать их возле полуострова Таймыр.
Но первым на врага наткнулся старенький ледокольный пароход «Сибиряков». Он направлялся на Северную Землю, вез смену персонала и грузы для полярной станции. На борту находилось 104 человека, коровы, собаки, топливо. На «Сибирякове» стояли две пушки калибра 76 мм, две 45 мм и два зенитных пулемета. 25 августа был замечен огромный военный корабль. «Шеер» попытался обмануть. Поднял американский флаг, стал запрашивать о ледовой обстановке. Заподозрив неладное, капитан Качарава попытался свернуть, уйти к о. Белуха. Рассылал радиограммы, оповещая о неожиданной встрече. Тогда немцы потребовали сдаться и прекратить радиопередачи. Но советский кораблик повел себя смелее, чем британские линкоры и крейсера, бросившие PQ-17. Он открыл огонь.
«Шеер» имел шесть орудий калибра 283 мм, восемь 150 мм и шесть по 106 мм. Шквал снарядов разбил русские пушки, разнес машинное отделение. Взорвались 300 бочек с бензином, судно охватил пожар. «Сибиряков» стал тонуть. Комиссар корабля Элимелах и механик Бочурко открыли кингстоны, ушли на дно вместе с судном. Большинство пассажиров и команды тоже погибли. На воду сумели спустить две шлюпки. В одной неприятели нашли 28 человек. Матрос Матвеев пробовал драться и был расстрелян, несколько человек выскочили из шлюпки, предпочли смерть в воде, 19 попали в плен. Другую шлюпку немцы изрешетили пулями и сочли уничтоженной. Но она дрейфовала полузатопленной, на ней спасся кочегар Вавилов. Он добрался до острова Белуха. Кое-как устроился на полярном берегу и без припасов, без какого-либо снаряжения прожил 32 дня. Подавал сигналы, Вавилова заметили с парохода «Сакко», и за ним был выслан самолет.
Подвиг «Сибирякова» оказался не напрасным. Его радиограммы были услышаны. Советские суда, находившиеся в опасной зоне, спешно укрывались в бухтах и портах. Немцы поняли, что подкараулить конвой уже не получится. Тогда они решили высадить десант на острове Диксон и уничтожить ключевую полярную базу в здешних краях. «Шеер» подкрался к ней в утреннем тумане 27 августа. Грохнули крупнокалиберные орудия. Море и берег вздыбили разрывы. В гавани находились сторожевик «Дежнев», пароходы «Кара» и «Революционер». Вооруженным был лишь «Дежнев» – он имел две 76-миллиметровки и четыре 45-миллиметровки. Ответил огнем, хотя бой оказывался таким же неравным, как с «Сибиряковым».
На Диксоне была и береговая батарея, но как раз перед нападением ее демонтировали. Сочли, что немцам куда сподручнее нанести удары по Новой Земле. За нехваткой орудий на Диксоне сняли две шестидюймовых пушки (152 мм). Но отправить еще не успели, они стояли на причале в ожидании погрузки. Старший лейтенант Корняков собрал нескольких матросов, развернул одно из орудий и начал стрелять по линкору. Стрелял метко, были попадания. А такой оборот неприятелям совсем не понравился. Они прикрылись дымовой завесой, отошли в море. Повторили атаку, но опять получили точные снаряды. На высадку десанта не отважились, повернули прочь. С советской стороны погибло 6 матросов, «Дежнев» с пробитым бортом сел на грунт. В поселке Диксон снаряды разнесли один жилой дом, баню и подожгли бочки с отработанным машинным маслом. Операция «Страна чудес» фактически провалилась [69].
Но и полярные конвои из Англии и Америки не приходили. Союзники ссылались на трагедию PQ-17 и откладывали отправку до глубокой осени. Впрочем, к опасениям потерь добавились иные сложности. Срок первого протокола о поставках истек в июне 1942 г. Он остался невыполненным. Например, США, выполнили свои обязательства по поставкам танков и самолетов на 30 %, автомашин – на 19 %. Завязались переговоры о подписании нового протокола. Но США и Англия сократили объемы поставок даже по сравнению с первым протоколом. Снова сослались на собственное обязательство открыть второй фронт, а для этого им нужны и вооружение, и боеприпасы. В самые критические месяцы 1942 г. русских оставили почти без поддержки…