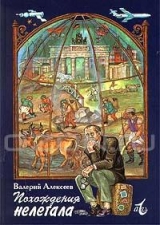
Текст книги "Похождения нелегала"
Автор книги: Валерий Алексеев
Жанр:
Боевая фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 13 страниц)
Глава девятая. Керстин
87
И вот, когда я дошел до предела безысходности, судьба улыбнулась мне очень славной улыбкой.
Я встретил симпатичную молоденькую немку, и она вызвалась стать моей подругой.
То есть, симпатичных немок вокруг навалом, некоторые даже непрочь были завести со мной дружбу, но, наткнувшись на недостаточность моего немецкого, смущались и отступали.
Керстин не смутилась, скорее наоборот.
Познакомились мы в поезде. Ехали вдвоем в купе на шестерых, поглядывали друг на друга и улыбались.
Я улыбался потому, что уж очень она была чистенькая и миниатюрная: рыжеволосая, голубоглазая, коротко подстриженная, с розовым носиком, розовыми губками и розовыми ушами. В мочке левого уха у Керстин был голубой топаз.
Как позднее оказалось, в пупке – еще один такой же.
Короче, я улыбался потому, что она мне нравилась.
А Керстин – Бог знает почему. Ей виднее.
Впрочем, улыбаются здесь все, кто умеет: только посмотри – в ответ тебе улыбка. А кто не умеет – строит забавную дружелюбную гримаску. Лягушачью либо мартышечью. Чисто механически.
В смысле: привет-привет – и проходи мимо.
Но Керстин улыбалась мне такой целевой, такою адресной улыбкой, что попутчики, заглядывавшие в наше купе, тут же расшаркивались и исчезали.
Наконец она сказала – по-русски, но с прелестным грассирующим "эр":
– Вы из России, наверно?
Еще бы не наверно, если у человека в руках "Комсомольская правда": угадай с трех попыток.
Тем не менее мой утвердительный кивок привел ее в восторг, выражение которого несколько меня смутило:
– Во пруха, ё-моё! – воскликнула она. – Ухэзаться можно!
В первый момент я решил, что у меня начались галлюцинации: так, знаете ли, бывает в фильмах ужасов, когда юная женщина вдруг начинает говорить сатанинским басом, и лицо ее, исказившись, покрывается жутким могильным киселем.
Но ничего подобного не случилось: собеседница моя смотрела на меня с веселым простодушием ребенка, ожидающего похвалы. Смачная фраза слетела с ее прелестных уст легко и естественно, как лепесток китайской розы.
Впрочем, моя реакция несколько ее смутила.
– Я что-нибудь не так ляпнула? – спросила она, покраснев. – Вы меня поправляйте, пожалуйста. Русские балдеют, когда я так говорю, но никто не корректирует мои ошибки. Просто слушают и забавляются. Тут на днях я двух хмырей из вашего мин-юста обслуживала, так они от кайфа просто ссали кипятком.
– От кайфа это делать невозможно, – заметил я. – Причиной могут быть лишь бурные отрицательные эмоции: например, злость, ярость, гнев.
– Ой, как вы здорово объясняете! – воскликнула моя собеседница. – Подождите, я должна это записать.
И достала из сумки блокнотик.
Работала Керстин в городской тюрьме, где томились в заточении десятки моих соотечественников.
Занималась устным переводом (на допросах) и письменным: через нее проходили все малявы, которые русскоязычные заключенные посылали на волю и получали по адресу Blok Methusalem, Psf 666 или что-то в этом роде.
– Я, конечно, могу говорить нормально. Но ведь мне практика нужна, чтобы форму не потерять. Мои клиенты сплошь по фене ботают, а для меня это еще один иностранный язык. Если я не буду практиковаться, перестану понимать.
Поговорили о Москве, где Керстин была раз, наверное, десять, обнаружили общих знакомых в университетских кругах. По этому поводу перешли на "ты".
В общем, приятная получилась беседа. Вся усыпанная блатным говорком, под который и мне пришлось подстраиваться, хотя сквернословить я с детства не люблю.
В конце концов Керстин спросила меня:
– А ты куда, собственно, гребешь?
Я ответил, что, собственно, никуда: шлындаю по стране.
– На следующей станции я линяю, – застенчиво сказала Керстин. – Хера ли нам срок мотать? Канай ко мне.
– Когда?
– А прямо сейчас. Я живу одна.
Подумала – и прибавила:
– Мать мою так.
И через час я оказался в ее маленькой беленькой квартирке, где вся мебель была из светлых сосновых досок, будто бы на турбазе.
Последний раз я спал по-человечески сто восемьдесят восемь ночей назад, в Ларискином будуаре. Чуть не заплакал, когда, ложась у Керстин спать, вдохнул давно забытый запах свежего постельного белья.
88
Надо ли говорить, что вечера мы с подружкой проводили в долгих поучительных беседах?
Керстин приносила с собой ксерокопии арестантских писем и прилежно переводила их на немецкий, нередко засиживаясь за компьютером до середины ночи.
Я, как мог, помогал ей, разбирая каракули автоугонщиков и контрабандистов.
"А за Лялькой, мама, строго следи, чтоб она, мокрохвостка, с кем попало не нюхалась, принесет в подоле выблядка – и ее удавлю, и тебе не прощу".
Керстин была влюблена в свой языковой и человеческий материал. В первый же день нашей дружбы она призналась мне:
– Не могу слушать ваши блатные песни: сразу, блин, начинаю плакать.
И, как бы в подтверждение этих слов, тут же заплакала легкими светлыми слезами.
Ее пытливые вопросы порою ставили меня в тупик.
– Анатолий, что такое полуперденчик? Я поняла так, что это рабочий фартук официантки. Но разве его носят сзади?
Моей неприязни к использованию в русской бранной речи слова "мать" Керстин не разделяла.
– Ну, и что тут особенного? – защищала она мой великий и могучий язык. – В Италии страшное ругательство – "порка Мадонна". А ты знаешь, что для итальянцев Мадонна? Святая святых. У них у самих глаза на жопу лезут от этих слов.
Училась Керстин круглосуточно.
– А что это ты сейчас со мной делаешь? – спрашивала среди ночи в самый неподходящий момент. – А как это будет по-русски?
В общем, славная мне попалась подружка.
89
Возможно, вы спросите: а как же Ниночка? Как же моя вечная любовь и великая боль?
Хороший вопрос.
В одном советском фильме есть такой эпизод: на вокзальной платформе стоит офицер в длинной шинели и ест эскимо. Настроение у него – хуже некуда: час назад ему отказала любимая девушка. Но за этот час она передумала и примчалась на вокзал. Издали увидала своего офицера с мороженым в руках, развернулась – и гордо уплыла прочь.
Дескать, как он мог в такой момент?
Между прочим, мороженое в те времена – это был дешевый и быстрый перекус. Офицер просто не хотел помирать.
Вот это красотке и не понравилось.
Ей было бы приятнее увидеть его болтающимся в веревочной петле.
Мужику, считай, повезло, что на вокзале торговали мороженым. Иначе петли ему было бы не миновать.
Не уподобляйтесь, ради Бога, глупой героине глупого фильма. И не будем больше об этом.
До знакомства со мной Керстин давно уже не была девственницей. Впрочем, больше года она жила одна: предыдущий друг ее оказался "швуль", в смысле голубой, и она мирилась с этим, пока тот не стал приводить в дом любовников.
О замужестве Керстин даже не помышляла: зачем?
Дом содержала в стерильной чистоте, кухня у нее просто блестела – по той простой причине, что хозяйка не желала (да и не умела) готовить.
В маленьком холодильничке у нее содержались лишь йогурты, тортики и прохладительные напитки.
Впрочем, это было даже к лучшему.
Как-то раз в воскресенье где-то в Баварии, должно быть, сдох медведь: Керстин приготовила салат типа "оливье", но заправленный вареными макаронами. И, сияя, поставила на стол передо мною: зельбстгемахт.
В смысле: не покупное, сама сделала.
Своими лилейными ручками.
Я как увидел эти холодные толстые белые макаронины под майонезом – чуть не сблюнул.
Но, чтобы не обижать подругу, ел и нахваливал.
Кстати, ничего, кроме салата, и не было: собиралась еще супчик сварить, да передумала.
Вот такой домострой.
Мать моей подружки проживала в доме престарелых. Раз в две недели, чередуясь с братом, Керстин ее навещала.
– Маркус свою очередь знает. Четные недели мои, нечетные – его. На праздники приезжаем вместе.
Когда я начинал допытываться, не болит ли у нее душа за родную матушку, Керстин меня совершенно не понимала.
– Да пошел ты, у нее там клёво! Не шарага какая-нибудь, очень дорогой дом престарелых. Папа, когда жив был, прилично загребал, бабки на счету есть, всё оплачивается регулярно. У мамы там полно корешей, сервис, блин, офигенный.
Впрочем, надо отдать ей должное, свою эмоциональную недостаточность Керстин смутно сознавала.
– Вот вы, русские, сердцем живете, – говорит как-то раз, подбривая перед зеркалом подмышки, – а мы, немцы, разумом. Рассказал бы ты мне о жизни твоего сердца.
С ума сойти можно. Мать мою так.
90
Про свои приключения я ей ничего не рассказывал. Выстроил более или менее гладкую версию: зарплату не платят, в награду за долготерпение послали сюда на годичную стажировку, но это чистая формальность, поскольку ни к какому конкретному вузу я не прикреплен.
Этого ей было более чем достаточно.
О дисминуизации с нею – ни слова.
Тем более о контактной. Дудки.
Как в старой песне поется: "Не доверяли мы ему своих секретов важных..“.
Правда, месяца через три Керстин стала тяготиться неопределенностью моего положения.
Не в смысле оформления наших отношений (эту тему мы с ней вообще не обсуждали), а в смысле анмельдунга.
– Анатолий, ты прописан в Берлине, а живешь здесь. В Германии так делать нельзя. Я понимаю, что ты вольная птица, но всё равно надо сходить в ратхауз прописаться. Это нарушение закона об иностранцах. Я никому не говорю, что ты живешь у меня, ни маме, ни брату. Это наше личное дело. Но власти должны знать, где ты проживаешь. А вдруг тебя надо будет вызвать в какую-нибудь инстанцию?
– Да никаким инстанциям до меня дела нет.
– Это сейчас. А ты прикинь: переходишь улицу на красный свет – и тебя прижопили. Куда посылать счет?
Чтобы отбояриться, я выдал себя за принципиального диссидента, противника паспортного режима как такового, и Керстин отступилась.
Диссидентство – это графа, признанная на государственном уровне. Почти официальный статус пребывания.
Представляю себе, как переполошилась бы рыжая матерщинница, узнав, что у меня не только визы, но и паспорта настоящего нет.
Стала бы подбивать меня на явку с повинной: "Знаешь, какое у Германии пенитенциарное право? Самое гуманное в мире. Пальчики оближешь".
Первое время я опасался, что она попросит меня предъявить документы. Но потом понял, что поступить так ей не позволяет воспитание.
Не деликатность, нет, только глубокое убеждение, что на это у нее нет права: она же не официальная инстанция.
А вот донести на меня за проживание без прописки Керстин имела право.
Более того, была обязана это сделать (не как работник пенитенциарной системы, а как законопослушная гражданка) – и страдала оттого, что до сих пор этого не сделала.
91
Что Керстин, помимо работы, ценила – так это личную свободу, свою собственную и мою.
Уважение к моей личной свободе простиралось у нее так далеко, что подружка моя ни разу не спросила, есть ли у меня хотя бы пять марок на сигареты.
Питался я исключительно йогуртами и тортиками, запивая их минеральной водой: запасы этих продуктов Керстин регулярно пополняла.
Правда, всякий раз, заглядывая в опустевший холодильник, искренне удивлялась:
– Вот блин, опять всё кончилось.
Иногда, словно спохватившись, приносила мне с работы завернутый в фольгу кебаб.
– Анатолий, это очень вкусно. Я уже схавала такой же по дороге.
Ем остывшую лепешку со строганой бараниной, давлюсь, сыплю крошками, а Керстин сидит напротив и смотрит на меня с умилением, как мамаша на известной русской картине "Свидание". Или даже точнее: как Мадонна Литта на своего малыша.
Так она меня кормила.
Добрая, веселая, ласковая, но скупая до посинения.
Машину не покупала – вроде бы из экологических соображений, а на самом деле боясь расходов на бензин ("Полторы марки за литр, офигенеть можно!).
Это при шести тысячах месячного заработка (включая переводческие гонорары: за письма арестантов, которые мы с нею вместе переводили, заказчик платил очень даже неплохо).
В свою тюрягу Керстин ездила на задрипанном велосипеде с сиротским рюкзачком за спиной.
Телевизора не держала вроде бы из врожденного чувства независимости: чтоб не превращаться в марионетку рекламы. Хотя у арестантов смотрела телевизор с удовольствием – и сама же об этом рассказывала.
А мне, чтобы посмотреть программу новостей, приходилось ездить на вокзал.
Газетами в доме Керстин даже не пахло – тоже из экономии: чего макулатуру разводить?
Выбрасываю тюбик из-под зубной пасты, выжатый до конца, а подружка моя ужасается: как можно? Его надо взрезать ножничками, хватит еще на неделю.
Ополаскиваю чашечки после мороженого – она прибегает на кухню вся в тревоге:
– Анатолий, ты много расходуешь воды!
Я понимал, что Керстин не виновата. Ей с детства вбивали в голову, что бережливость – это высшая добродетель.
К Рождеству я подарил подруге фаянсовую хрюшку-копилку, на боку которой по моему заказу было написано:
"Прима шпарен унд штербен".
В смысле "Славно – жить экономя и помереть".
Приемщица в мастерской три раза меня переспросила, а потом потребовала, чтобы я написал это на бумажке собственной рукой.
Не потому, что ей не понравился мой немецкий язык: нет, она желала иметь документальное подтверждение, что я хочу именно эту гравировку, а не какую-нибудь другую.
И Керстин мою шутку тоже не поняла.
Посмотрела на надпись безмятежными голубыми глазами, поцеловала меня – и заговорила о другом.
92
Наконец, устав от безденежной иждивенческой жизни, я решил подыскать себе какую-нибудь работу. Черную, естественно: в смысле, без официального оформления.
Вопреки моему ожиданию, Керстин в этом плане не нашла ничего предосудительного:
– Ты же не сидишь на шее у немецкого государства. И что у тебя нет официального разрешения на работу – это не твоя вина. Все так делают. Главное – не зашухариться.
Иными словами, я получил от своей подруги индульгенцию на правонарушение, остановка была только за работой.
Впрочем, это легко сказать: "Остановка за работой".
Я бы не побрезговал мыть посуду в кафе или пивнушке, но на этом поприще подвизаются студенты и школьники.
На бензоколонках охотнее берут турок или поляков. Такая сложилась традиция.
Убирать квартиры я не годился: это женская работа.
Стричь газоны и зеленые изгороди? Епархия бывших деревенских жителей – поздних переселенцев.
Разносить газеты? На эту работу охотно идут столичные интеллектуалы с непризнанными дипломами – еврейские контингентные беженцы из Москвы, Риги и Петербурга. Пошел бы и я, но почта оформляет не по-черному, а строго официально.
После долгих пристрелок я нашел наконец подходящее для физика-теоретика дело – ремонт крыш.
Собственно, я его не искал, оно мне само подвернулось.
Стоял на улице и смотрел, как ремонтируют дом. Дивной красоты зрелище: легкие алюминиевые леса, такие же блестящие лесенки, а мостки из ярко-красных досок. Полкрыши окутано белой вуалью: там как раз и укладывали черепицу.
Пока я любовался, подошел пожилой человек, хорошо одетый, с красивой сединой, улыбнулся фарфоровыми зубами:
– Хочешь поработать?
Я ответил утвердительно.
– Иностранец? Откуда?
– Из Казахстана.
– А, поздний переселенец. Что, в роду твоем на самом деле были немцы – или только овчарка немецкая? – спросил он – и, не дожидаясь ответа, хлопнул меня по плечу и со вкусом расхохотался.
Старик очень торопился сказать эти слова. Видно, долго носил их в себе – и случай наконец подвернулся.
– На социале сидишь? – поинтересовался он, отсмеявшись.
В смысле: "Получаешь пособие от собеса?"
Причастность к социалу я категорически отверг, чему хозяин не очень-то поверил.
– Ладно, приходи завтра, – сказал он. – Двенадцать марок в час, больше не обещаю.
Когда я рассказал о немецкой овчарке своей подруге, она возмутилась:
– Бывают же мрази! Но ты тоже хорош: почему стерпел? Он хорошо подставился. Ты должен был… как это по-русски? Дем хэттест ду ин ди фрессе шлаген золлен, дамит эр кайнен шайс мер лаберт… А, вспомнила: надо было вмазать ему по ебальнику, чтоб не пиздил. И потребовать через суд компенсации за моральный ущерб.
93
Так я влился в ряды черного германского пролетариата.
Кровельщиком меня, разумеется, не назначили: кровельщик у хозяина был. Подмастерьем или там учеником я тоже не стал: в учениках кровельщик не нуждался.
Я стал подавалой, подносчиком, разнорабочим. Делал что скажут и мысленно подсчитывал заработки: восемь часов в день, сорок в неделю, по двенадцать марок – четыреста восемьдесят, почти две тысячи в месяц – ничего, жить можно.
Но работал я недолго, всего три недели.
В один прекрасный день чуть не сорвался со стремянки. Ногу подвернул, щиколотка распухла.
Кровельщик очень мне сочувствовал.
А наутро, когда я приковылял на работу, на моем месте уже трудился другой подавала.
– Хозяин просил передать, что платить за тебя больницам не станет, – так сказал мне кровельщик.
Нисколько не конфузясь, что это он же меня и заложил.
А когда я заикнулся насчет заработанных денег, кровельщик очень удивился:
– Разве это я тебя нанимал?
Погулял я по кварталу, дождался хозяина.
Завидев меня, старик сделался весь красный. Но опять же не от стыда, а от возмущения.
– Какие еще деньги? – заорал он. – Деньги ты от социала получаешь, от германского государства. Вот сейчас полицию вызову! Шварцарбайтер проклятый.
И ушел я несолоно хлебавши.
Подруге своей я не стал об этом рассказывать.
Ее юридические советы мне не вполне подходили.
94
Это был, конечно, положительный опыт: теперь я знал, как в Германии работу искать и чего можно ждать от хозяев.
На следующий день я стал ходить от стройки к стройке и внаглую предлагать свои услуги.
С третьей попытки меня взяли. На сей раз обещали десять марок в час, но зато ежедневно. За ночную работу (стройка была срочная) – пятнадцать марок.
Само собой разумеется, я выбрал ночную работу. И вкалывал через ночь при свете прожекторов.
Впрочем, свет прожекторов – это литературный образ: работа у меня была под крышей, в помещении складского типа. Туда ежедневно подвозили всевозможные строительно-отделочные материалы, которые за ночь нужно было распаковать и разложить по стендам.
На этом складе хозяин держал троих. Я вызвался работать один – за тройную, естественно, плату. Хозяин рассудил, что для шварцарбайтера это слишком жирно, и согласился платить мне по двадцать пять марок в час – после двухнедельного испытательного срока.
Шельмовал, конечно. Мне было известно, что через две недели необходимость в складе вообще отпадет и меня перебросят на другую работу.
Но мне было выгоднее трудиться без свидетелей.
Оставшись один, я дисминуизировал грузы, перемещал их куда надо в пять минут – словом, вкалывал по-стахановски.
Один раз чуть не застукали: явился разнорабочий-африканец и стал требовать какие-то кронштейны.
Кронштейны эти чертовы лежали в ящиках, а ящики, дисминуизированные до размеров спичечного коробка, я уже разложил по стеллажам, но еще не успел увеличить.
К счастью, африканец лопотал на каком-то смешанном англо-немецко-зулусском наречии, и я выпроводил его со склада:
– Не понимаю тебя, брат, извини. Дер шеф золль йеманд андерс шикен. Пусть мастер пришлет кого-нибудь другого.
Среди рабочих были там и курды, и румыны, и турки. Были и русскоговорящие. Все как один шварцарбайтеры – кроме, пожалуй, поляка-крановщика.
С соотечественниками я не общался из осторожности, хотя они меня сразу вычислили:
– Этот, кладовщик-то? Да русак он, такой же, как мы, русак. Только по-немецки говорить наловчился, вот и нос задрал, своих не признаёт.
Насчет немецкого – что правда, то правда: язык лучше всего учить в постели, и наша дружба с Керстин шла на пользу нам обоим.
А у этих мужичков такой возможности не было: своих жен они привезли с собой. Да и университетским образованием ни один из них не мог похвастаться: дай бог четыре класса сельской школы.
Их русская речь была обильно пересыпана всякими "абер" и "дох", но правильно выговаривать жизненно важное слово "арбайтсамт" (биржа труда) ни один из них так и не научился: все дружно говорили на казахский манер "арбайзам".
– Дох, я только что с арбайзаму.
95
Зимней ночью накануне Рождества я трудился на стройке, то есть стоял у забора в уголке для курения, любовался звездным небом и слушал разговоры других курильщиков-русаков: не знаю, как у них, а моя ночная норма была уже выполнена.
Зима в тех краях – понятие скорее астрономическое, чем климатическое. В небесах Орион, на календаре – декабрь, но снега нет и в помине. Так, холодный дождик с порывами ветра. Значит, завтра утром жди гололеда.
Соотечественники мои притерпелись к тому, что я по-русски не говорю, и, не обращая на меня внимания, делились друг с другом своими печалями.
Один купил на привезенные с родины денежки подержанный автомобиль, а соседи донесли, и собес перестал выплачивать пособие: имеешь средства – на них и живи.
Другого агент уговорил застраховать жизнь на грабительских условиях, а расторгнуть договор никак не получается.
Третьему продали за две тысячи марок набор кастрюль, которые якобы не надо мыть, а они через месяц позеленели.
Четвертый съездил к родне в Казахстан, а за это время его вызвали в "арбайзам": ты находишься в распоряжении германского рынка труда, а значит должен быть постоянно досягаем. Не явился в срок – прощай, пособие: отлучаться без уведомления не имеешь права.
Пятый собачку завел, а собачка шустрая оказалась, кинулась под колеса проезжавшей машины. Водитель думал, что собачка застрахована, и предпочел тюкнуться в фонарный столб: иначе хлопот не оберешься. А собачка оказалась незастрахованной, и за ремонт машины суд насчитал двенадцать тысяч.
– Я говорю: абер как я буду выплачивать такую уйму денег, у меня пособие четыреста марок в месяц, три года не пить, не есть, что ли? Дас ист квач, говорю, это ж бессмыслица. А он мне: найн, нихьт квач. В общем, золотая получилась собачка.
96
Слушая эти разговоры, я заметил, что вдоль забора едет зеленый полицейский фургон. За ним второй, третий, целая колонна: двенадцать машин.
Двигались они медленно и почти беззвучно.
Такое увидишь не часто: разве что во время скандальных футбольных матчей либо массовых манифестаций.
Но матчи и манифестации по ночам не проводят. Куда это в середине ночи перебрасывают крупные полицейские подразделения? А вдруг переворот?
Едва я успел задуматься над этим вопросом, как фургоны слаженно развернулись, захлопали автомобильные дверцы, и из машин высыпали полицаи.
Ни разу я не видел такого количества зеленых мундиров: человек двести, никак не меньше.
Волосы у меня встали дыбом. В своей гордыне я возомнил, что приехали брать меня, нелегала номер один Федеративной Германии.
Однако русаки, более опытные в шварцарбайтерских делах, оценили ситуацию более трезво.
– Полундра, мужики! – сказал хозяин золотой собачки. – Под раццию попали, айда огородами!
И курильщики побежали в разные стороны, петляя и прячась за желтыми передвижными времянками.
Но бежать было поздно.
Фургоны врубили дальний свет, и стройплощадка оказалась в огненном кольце.
– Кайнер рюрт зихь фом флек! Всем оставаться на своих местах! – скомандовал гортанный мегафонный голос.
В окнах строящегося здания тоже заметались, забегали.
В вагончике конторы началась паника.
Я не стал терять время: залез в ящик и, моментально обратившись в существо пятисантиметрового роста, глубоко зарылся в смешанный с пеплом песок.
Вообще-то это было рискованно: любой земляной жучок мог серьезно меня покалечить. Но я знал, что никаких жучков здесь в земле не водится: Германия эту живность давным-давно извела.
О рацциях, то есть о полицейских облавах, мои коллеги, пугая друг друга, рассказывали всякие ужасы: кого-то выслали в двадцать четыре часа, кого-то в тюрьму упекли.
Интересно, думал я, как поступят со мною. Если что, буду проситься в тюрьму: Керстин говорит, что там очень даже неплохо.
Между тем полицаи деловито прочесывали территорию.
Пришли и в уголок для курильщиков.
Я слышал, как они перебрасываются репликами обо мне:
– Тут еще один на складе работал, невысокий такой славянин, куда он девался?
– Сбежал, наверно. По ночам они быстро бегают.
К счастью, собак у них не было. Должно быть, какая-то инструкция запрещала брать на подобные дела собак.
Постепенно ходьба вокруг склада прекратилась, шум сконцентрировался в районе конторы. Я осторожно высунул из ящика голову.
Из конторы одного за другим выводили моих понурых коллег, сажали в машину и увозили.
Проверка документов продолжалась часа полтора.
Наконец зеленые фургоны разъехались.
Последним из вагончика вышел хозяин, он был в смокинге с бабочкой: должно быть, вызвали с какого-нибудь великосветского мероприятия.
Хозяин самолично вырубил прожектора, постоял руки в брюки, оглядывая свою меченую стройку, смачно выругался:
– Шайс булленшвайне!
В смысле "менты поганые".
После чего отбыл на своем серебристом "вольво", увозя в кармане недоплаченные мне сто двадцать марок.
Я простил ему этот маленький должок: его неприятности, в отличие от моих, только начинались.
Керстин я, разумеется, ничего не стал об этом происшествии рассказывать: зачем волновать нежное пенитенциарное существо?







