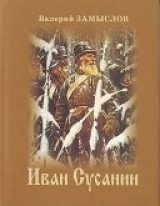
Текст книги "Иван Сусанин"
Автор книги: Валерий Замыслов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Девушка выпорхнула за жбаном, а Иванка невольно молвил:
– Залюбень твоя дочка, Пятуня.
Пятуня смущенно крякнул и признался:
– Не родная она мне.
– Не родная?
– Долго сказывать, детинушка.
Придвинул скамью[130]130
В Древней Руси к столам приставляли только скамьи. Лавки же, стоявшие вдоль стен, были накрепко приделаны к полу. На них спали или сидели за каким-нибудь издельем.
[Закрыть] к столу.
– Присаживайся, дорогой гостенек. Чем богаты, тем и рады.
На столе появились наваристые щи, гречневая каша, пареная репа, моченая брусника, рыжики на конопляном масле, душистый мед в сотах, корчага с бражкой.
Полинка поставила на стол жбан с квасом и ушла в свою горенку.
«А Пятуня-то не бедствует. Почему ж тогда на правеже стоял?» – подумалось Иванке. Помышлял о том спросить бортника, но опомнился: и впрямь нельзя обычай рушить; допрежь надо всего вкусить и уж затем приступать к беседе.
Осенил себя крестным знамением и сел на скамью. Отпил прохладного ядреного квасу и принялся за снедь. Отобедал, вновь перекрестился, поблагодарил хозяев за пития и яства, и наконец-то высказал:
– Сам-то я с малых лет крестьянствовал. А тут как-то меня владыка увидел. Чем-то поглянулся ему, к себе в служки взял, дабы оберегал его от лихих людей.
– Еще бы такого детину не взять. Плечами-то едва через дверные косяки пролазишь… Теперь нового владыку будешь поджидать?
– Пока и сам не ведаю, – неопределенно отозвался Иванка, и, наконец, задал свой вопрос:
– Почему на правеже очутился, Пятуня?
– И не чаял, Иванка, но сколь дней у Бога впереди, столь и напастей. Еще на Федула[131]131
День святого Федула отмечают 5 апреля.
[Закрыть], растворяй оконницу, заявился ко мне Земский староста Демьян Курепа и медку заказал. Много. Мне-де на Покров дочь выдавать, пудов пять на медовуху понадобиться. Добудь! Я плечами пожал. Не каждое лето добрый взяток идет. Иной раз и пудишку радешенек. А Курепа: добудь! И полтину серебром в руку сунул. Задаток-де, дабы усердствовал. И черт дернул меня взять. Лето же выдалось для пчелы доброе. Четыре месяца медом промышлял. Избенка у меня на курьих ножках в лесу. Соты вырезал, растопил и целых три бочонка нацедил. Помышлял в Ростов отправиться за подводой, но тут лихие люди как из-под земли выросли. Меня поколотили, полтину за иконкой нашарили. И надо же мне было, дуралею, полтину с собой взять. Нет бы, дома припрятать. Но самое худое то, что и весь мой мед лихие прихватили. Осталась самая малость в сотах.
– Уж не этот ли, кой я пробовал?
– Тот самый… Пришел с повинной к Курепе. О разбое ему поведал. Он не поверил. Чужим-де людям медок втридорога продал. Как я не божился, не клялся всеми святыми, ничего слушать не желает. На правеж меня поставил.
– А зять что?
– Я уже тебе сказывал. Черствый человек и скряга. За полушку удавится. Кабы не ты, стоять бы мне на правеже еще трое дён.
– А что потом?
– Полинка бы выручила.
– Но как, Пятуня?
– А вот послушай, детинушка.
* * *
Когда-то Полинка жила в Гончарной слободке, что на Подозерке. Были у нее два брата, отец и мать. Жили, как и весь ремесленный люд, бедновато, но и лютого голода не ведали. Кормились не только от продажи глиняной посуды, кою добротно выделывал отец, Луконя Вешняк, но и добычей рыбы. Неро под боком, лови – не ленись! Всякой доброй рыбы вдоволь. Правда, Земская изба наложила немалую пошлину, но и себе оставалось.
Полинка была «меньшенькой», но уже с восьми лет мать Дорофея усадила ее за прялку.
– Пора, доченька, – сердобольно молвила мать. – Всякая одежа страсть как дорогая, никаких денег не хватит. Сами ткать будем, как и все тяглые люди. И тебя приучу.
Маленькая Полинка и сама ведала, что все черные люди щеголяют в домотканых сермягах, портках и рубахах.
К двенадцати годам она уже ни в чем не уступала матери. Дорофея довольно говаривала:
– Искусные руки у тебя, доченька. Была бы у боярина в сенных девках, златошвейкой[132]132
Золотошвейка – мастерица по шитью, вышиванию золотом, золотыми нитями, мишурой. Мишура – медные, посеребренные или позолоченные нити, а также канитель (очень тонкая витая позолоченная или посеребренная, проволока, употребляемая в золотошвейном деле), блестки, необходимые для изготовления парчовых тканей, галунов, вышивок и т. п.
[Закрыть] бы стала.
Как в воду глядела Дорофея. Но допрежь навалилось на избу Лукони Вешняка горе-трегорькое. Грозный царь Иван Васильевич отправил на Ливонскую войну сыновей, кои так и не вернулись в Ростов Великий. Дорофея и раньше прихварывала, а тут и вовсе занедужила, да так и померла в один из мозглых осенних месяцев.
А в апреле, на следующий год, погиб и отец. Заядлый рыбак пошел на озеро, но весенний лед оказался чересчур тонок. Четверо рыбаков в тот день не возвратились в свои избы.
Осталась шестнадцатилетняя Полинка одна-одинешенька. Горько тужила, плакала, собиралась в Девичий монастырь податься, но тут как-то в избу сам земский староста Курепа заглянул.
– Чу, вконец осиротела, девонька?
– Так, знать, Богу было угодно, Демьян Фролович.
– Вестимо. Бог долго ждет, да метко бьет… Луконя сам виноват. Сколь раз людишкам сказывал: не рыбальте весной перед ледоломом. Озеро коварно. Лезут, неслухи! Ну да не о том речь. Прослышал я, что ты добрая рукодельница. Не пойдешь ко мне в сенные девки?
Полинка отозвалась не вдруг. Она-то в черницы собралась, и вдруг – в услуженье к земскому старосте?
– Чего призадумалась? Не обижу, любую мою девку спроси.
Полинка сама слышала, что староста своих девок в наложниц не обращает, не как другие богатеи, с супругой живет в любви и согласии. Правда, сказывают, скуповат, но дворовые люди его голодом не сидят.
– Я тебя торопить не буду, девонька. Коль надумаешь, приходи.
Всю длинную ночь думала Полинка. Она сроду не была истовой молельщицей. Ходила с матерью раз в неделю в храм пресвятой Богородицы, в посты, как и все люди на Руси говела[133]133
Говеть – не только поститься и посещать церковные службы, но и приготовляться к исповеди и причастию в установленные церковью сроки.
[Закрыть], но чтобы целиком посвятить себя служению Богу, о том никогда не думала. Лишь когда осталась сиротинкой, решила пойти в обитель.
«Но смогу ли я навсегда заточить себя в темную монашескую келью, когда я люблю жизни радоваться?» – сомневалась Полинка.
Она и в самом деле росла веселой и жизнерадостной.
«Славная ты у меня, – как-то молвил отец. – Доброй женой кому-то станешь. Вот погожу еще годок, да и жениха тебе пригляжу».
Но приглядеть отец так и не успел…
На другое утро Полинка пришла к земскому старосте. А вскоре она и впрямь стала златошвейкой. Её дивные изделия приказчик продавал втридорога.
Как-то, выйдя из храма Успения, Полинка увидела неподалеку «торговую» казнь Пятуни и сердце ее заныло: бортник был добрым знакомцем отца, зимой нередко заходил в избу и всегда приносил Полинке медовый пряник.
Девушка, несмотря на строгий взгляд жены старосты, прибежала к месту казни.
– За что тебя бьют, дядя Пятуня?
– Демьяну Курепе полтину задолжал, – только и успел сказать бортник.
Полинку тотчас подхватила под руку тучная старостиха и увела в свои хоромы. Девушка украдкой проникла в покои Курепы и тотчас возбужденно заговорила:
– Прости меня, Демьян Фролович, но мне нужна полтина серебром. Весьма нужна!
– Что это на тебя нашло, девонька? Аль, какая нужда приспичила? Так скажи, сделай милость.
Полинка лгать не умела, а посему честно выпалила:
– Дядю Пятуню батогами бьют. Он добрый человек, с малых лет меня ведает.
– Пятуню?.. За дело бьют. Он мне полтину не вернул. Деньги не малые. И не проси! Пусть сродники за него позаботятся.
– Тогда я вышивать не буду! – вгорячах высказала Полинка и убежала в светелку.
Утром Курепа проверил: к шитью и в самом деле не дотронулась. Ишь, какая строптивая! Надо бы наказать, дабы впредь дурью не маялась. Однако, передумал. Полинка может и вовсе удила закусить, а ее издельям цены нет. Добрая денежка течет в кошель Курепы.
Пришел в светелку и хмуро высказал:
– Я, чай, не Змей Горыныч. Завтра повелю отвязать твоего дядьку.
– Правда, Демьян Фролович? – возрадовалась Полинка.
– Словами на ветер не кидаюсь.
Полинка, дождавшись, когда Курепа удалится в свою Земскую избу, выскочила из хором и прибежала на Вечевую площадь. Молвила бортнику:
– Завтра тебя приказано высвободить от правежа, дядя Пятуня. Слово мне староста дал.
– Спасибо тебе дочка… Не забывай нас. В любой день заходи.
– Непременно, дядя Пятуня.
– Токмо отпустит ли тебя Курепа?
– Шить не буду! – озорно рассмеялась Полинка. – Отпустит! Я теперь всего добьюсь.
И добилась-таки. Зело ценил Курепа свою златошвейку.
* * *
– Вот так-то, детинушка. Ты на день раньше подвернулся. Полюбили мы Полинушку. Она-то в тереме Курепы ласки не ведает. Мы ей теперь вместо отца и матери. Славная девушка. Руки у нее и впрямь золотые.
– Ты сказывал: прихворнула.
– Всё у оконца вышивает, вот ветерком и продуло. Горло малость застудила. Но теперь уже все, слава Богу. Медок любой недуг исцеляет.
– А как же Курепа?
– В убытке не будет, – хмыкнул Пятуня. – Полинушка и в нашей горенке рукодельничает. Курепа ей и мишуры и канители доставил, дабы без дела не сидела. Но Полинушку и понукать не надо. Шьет да всё песенку напевает. Легкое у нее сердце.
– Дай Бог ей счастье, – молвил Иванка и вышел из-за стола. Поклонился хозяевам. – Спасибо вам, люди добрые. Пойду я.
– Заходи к нам. Теперь избу ведаешь. Мало ли чего, – провожая Иванку до ворот, сказал Пятуня.
– Всё может статься.
Иванка пошел по улице, мощенной дубовыми плахами, к Детинцу и вдруг увидел перед собой молодцеватого нарядного вершника в вишневом полукафтане и в алой шапке, отороченной собольим мехом. Да то ж воевода Сеитов с послужильцами!
Иванка сошел на обочину, поклонился.
Воевода тотчас признал бывшего узника Губной избы, остановил коня.
– Жив, здоров, Ивашка?
– Твоими молитвами[134]134
Выражение «твоими молитвами» означало: твоими заботами.
[Закрыть], воевода.
– А скажи мне, молодец, порядную грамоту владыке Давыду подписывал?
– Рядился к владыке только на словах.
– Добро, – почему-то оживился Сеитов. – Слово к делу не пришьешь. Новому архиепископу служить станешь?
– Не хотелось бы, – откровенно признался Иванка.
– Чего ж так?
– Сердце не лежит. Я ж не попов сын.
– Так… А может, ко мне пойдешь?
Иванка промолчал. Воевода же, понимая, что детинушка озадачен, продолжал:
– Вольным послужильцем тебя возьму. Можно сказать – ратным человеком. В старину таких людей дружинниками называли. Никакой кабальной грамотки. По нраву будет – служи, не по нраву – ступай, куда сердце подскажет.
– А мать с женой?
– И про них не забуду. Жалованье тебе дам. Купишь избу – и живите с Богом. Голодом твоя семья сидеть не будет. По рукам, молодец?
Сеитов пружинисто спрыгнул с коня и протянул Иванке руку.
– По рукам, воевода.
Глава 24
ЦАРЕВ ДОГЛЯДЧИК
Васька Грязной ведал: Ростов Великий издревле богат князьями и боярами. Первый ростовский князь Ярослав сидел в городе на озере Неро целых 22 года! Его прозвали «Мудрым» за его грандиозные новины.
Ныне же многих князей поизвели. Нечего им было за свои привилегии бороться, ногу царю подставлять. Ростовские князья стали самыми ярыми противниками великого государя, даже на прямую измену пошли.
Еще в 1554 году пытался бежать в Литву Никита Ростовский. Но сыскные люди не дремали: изловили изменщика в Торопце, привезли в железах на Москву и на дыбу вздернули. Когда ребра начали ломать, князек не стерпел и выдал немало князей в челе с боярином – князем Семеном Ростовским. Зело погулял топор по шеям изменщиков!
Но сущей бедой для царя оказалось бегство в Литву князя Андрея Курбского. И кто бежал? Любимец из любимцев! Царя даже удар хватил.
И все же Иван Васильевич не до конца довел свое дело. На Ярославской земле сохранились крупные вотчины князей Троекуровых, Жировых-Засекиных, Прозоровских, Шехонских и других княжеских родов. Надо бы всем башки отрубить, дабы дворяне по всей Руси властвовали. Они-то горой за царя стоят.
Васька Грязной ненавидел бояр и князей, видя в них угрозу великому государю. Сколь их еще по городам сидит! Чванливые люди. Вот и ростовский боярин Юрий Ошанин[135]135
Дворянский род Ошаниных действительно существовал в Ростовском уделе, а потом и в уезде.
[Закрыть], поди, тот еще гусь. По правде сказать, он не из бояр, а из дворян, но коль к владыке на службу перешел, то ныне и называется «владычным боярином». Теплое местечко нашел, Юрий Петрович. Доходное! Владыка занимается церковными делами, а его селами и деревеньками – «боярин» Ошанин. Наверняка, минуя архиепископа, большую деньгу в свою мошну отстегивает. Ну да от него, Василия Грязнова, ни одна полушка меж пальцев не проскочит. Троих подьячих с собой везет, – тертых, видавших виды. Великую мзду Ошанин отстегнет, дабы не угодить в опалу Ивана Грозного. Деньги сгодятся, они лишними не бывают. После Бога – деньги первые. Богатей, Василь Григорич!
На удивление Грязнова, владычный боярин встретил появление подручного Малюты без всякого страха и уничижения. Был спокоен, степенен, не суетлив. А ведь перед Грязным трепетали самые знатные сановники Москвы.
– Что за дело ко мне привело, Василь Григорич? Мню, по пустякам великий государь ко мне стольного дворянина не пришлет.
Грязной не любил ходить вдоль да поперек, а посему высказал напрямик:
– Архиепископ Давыд в опалу угодил. Велено мне владычные земли обозреть, нет ли на них какого изъяну.
Лицо Ошанина по-прежнему оставалось безмятежным.
– Изволь, коль на то есть царская воля.
– Есть, Юрий Петрович. И грамотка, и подьячие из Поместного приказа. Всё оглядим и опишем.
– Милости прошу, Василь Григорич. Когда по селам и деревням поедем?
– А с утра и поедем. А ныне я подустал с дороги. Потрапезую, да и ко сну отойду.
– Как тебе будет угодно, Василь Григорич.
Грязной любил сытные столы, уставленные изысканными блюдами. Если он приходил к кому-нибудь в хоромы, то хозяин с ног сбивался, дабы угодить влиятельному гостю. Сам Василий Грязной заявился! Первый подручный Малюты.
Юрий же Петрович и в данном случае не проявил должного рвения. Никаких особых изысканных яств на столе не оказалось.
«То ли скуп, то ли гостем пренебрегает, – не понял Грязной. – Но того быть не должно. Грязнова вся Русь страшится».
Царев доглядчик вылез из-за стола и высказал:
– Сделай милость. Прикажи в повалуше постельку застелить… Да вот еще чего… Пусть пригожая сенная девка застелет.
Юрий Петрович не выразил удивления. С древних времен на Руси существовал неписаный закон: коль гость пожелает сенную девку, отказа быть не должно. Должна прийти к нему самая пригожая, в богатом облачении и с чаркой вина на подносе.
Грязной остался девкой доволен. В повалушу и впрямь явилась красна-девица. Рослая, гибкая, с высокими грудями. В легком атласном летнике, червчатого[136]136
Червчатого – красного.
[Закрыть] цвета с длинными рукавами, украшенными серебряным шитьем и жемчугом. На голове девушки – изящный венец, к коему прикреплены жемчужные подвески; на прямую спину спускались густые, распущенные волосы, с вплетенными в них алыми лентами.
Молвила с поклоном:
– Откушай, государь.
Глаза лукавые, озорные.
Василь Григорич осушил чарку и приказал:
– Разбери, постель… Да и сама разоблачайся.
Молодая, щедротелая девка в постели была зело горяча.
– Тебя как кличут?
– Варькой.
Грязной что-то прикинул про себя и молвил:
– Усладная ты… Барин твой, небось, частенько к себе зовет?
– Да ну его, – махнула рукой Варька. – Живем как монашки. Барин наш ни одной девки не тронул. Токмо и ведает свою супружницу. А мы в самой поре.
– Так-так, Варька… Хочешь большие деньги заиметь?
– Да кто денег не желает, барин?
– Заимеешь, коль дурой не будешь.
– Чего делать-то?
– Позже поведаю. Жди. А пока ступай.
– А может, и завтра в постельку позовешь, барин? – бесстыдно повела глазами Варька.
– Ненасытная ты. То и добро… Лезь под одеяло, хе-хе…
* * *
Всю неделю объезжал села и деревни Василий Грязной, выискивая «изъяны» владычного боярина. Но по порядным и кабальным книжицам всё сходилось. Вел Ошанин строжайший учет, за каждого архиерейского трудника мог отчитаться, за каждый оброк и подать. Как ни въедливы были московские подьячие, но уличить Ошанина в «воровстве» не удалось.
– Да неужели он ни единой полушки себе не заграбастал? – дивился Грязной.
Подьячие разводили руками.
– Всё до алтына сдано во владычную казну. На том стоят росписи Давыда.
– Неуж бессребреник? – ахал Грязной.
– Боярин бессребреник, а вот владыка, почитай, половину казны в свою мошну забирал.
– И мужиков зело прижимал. Ох, и лютовал владыка! – Грязной даже головой крутанул.
Тяжко жилось трудникам на владычных землях!
Англичанин Ричард Ченслер, проезжая от Ярославля к Москве (через Ростовский и Переяславский уезды), писал, что «сия область усеяна деревушками, замечательно переполнена народом», и что «земля эта изобилует хлебом». Однако эти деревушки были, как правило, невелики. Село состояло из четырех-восьми дворов. К селу тянулись небольшие деревни из двух-трех изб.
Бывал Васька Грязной в этих избах. Все они топились по черному, еда была скудная: ржаной хлеб да жесткая овсяная каша. Пшеничного хлеба Васька и не видывал.
«Зато, поди, приказчик Ошанина зело разбогател», – подумалось Грязному. Поведал о том владычному боярину, на что Юрий Петрович ответил:
– Не разбогател, Василь Григорич. Он у меня второй. Первый норовил нещадно воровать, так я его в железа посадил. Новому же – каждую деньгу повелел в книжицу заносить. У кого взял, по какому случаю, в какой день? Не единожды проверял приказчика. Честно трудится, ни одна полушка владычной казны не миновала.
На восьмой день к Грязнову пришли пронырливые приказные крючки и доложили:
– Не сыскали вины на боярине Ошанине. Вся казна, Василь Григорич, должна быть у Давыда.
Грязнова оторопь взяла. Что ни живет на свете, но такого беспорочного боярина он не ведал. Мужиков в три погибели ярмит (да и где их не ярмят?), но кормится одним жалованьем владыки. То-то он его, Грязнова, не испугался, то-то все дни покоен. А ведь помышлял Ошанина изрядно уличить, и дабы о том царя не извещать, мыслил с боярина большой куш сорвать. Не выгорело! Чист Ошанин, ключ родниковый. Ай да Юрий Петрович!.. Но не всё еще потеряно. Надо владыку Никандра тряхнуть: казна-то к нему перешла. Громадная казна! Царь Иван Васильевич на Ливонскую войну денег просил, а Давыд всё прибеднялся, малым отделывался. В гневе будет великий государь. Надо с Никандром хитроумно потолковать. Коль тот захочет владычную казну у себя оставить, пусть раскошелится. Он, Грязной, не дурак, чтоб от больших денег уходить. Никандр же – не Давыд. Мыслит новые храмы и монастыри в Ростове Великом возвести. Немало денег понадобится.
Разговор с архиепископом состоялся на другой же день. Никандр встретил царева опричника прохладно:
– Никто не волен проверять казну епархии, опричь самого архиерея.
– Даже по указу царя?
– Никогда того не было, сын мой, чтобы государь покушался на церковные деньги. Покажи грамоту, где бы о том было указано.
Но Васька – тертый калач. Решил взять Никандра на испуг:
– Царю с грамотами возиться недосуг. На словах передал, дабы я воровство антихриста Давыда уличил. И я его уличил. Огромадные богатства ростовский архиерей имел. На Ливонскую же войну малую толику кидал, как голую кость собаке. Не тебе сказывать, владыка, что государь наш зело грозен, когда его обманывают. Так недолго и в опалу угодить.
На угрозливые Васькины слова владыка ответил сурово:
– Не тебе, сын мой, архиереев судить. Ныне Давыд свои грехи в монастыре замаливает, но так Богу было угодно… Царю же поведай: Ростовская епархия, коль Отечеству иноверец угрожает, казны своей не пожалеет. Ступай, сыне!
Глаза владыки были строги и повелительны, от них веяло такой внушительной силой, что Васька отступил. Уже в сенях опомнился:
«А казну-то я так и не оглядел».
Но вернуться под хмурые очи Никандра ему не пожелалось. Этот суровый поп и под саблей ничего ему не покажет. Да и бес с ним! Свое дело он, Грязной, исполнил. Владычный боярин чист, не жульничал, все пошлины Давыду вручал, а вот куда девал деньги сам архимандрит – дело темное. То ли половину себе присвоил, то ли в епаршей казне оставил. Разберись тут! Он, Васька, и в самом деле не имел права пересчитывать рубли Давыда. Царь его крепко наказал, а новый архиепископ ныне от пожертвований на Ливонскую войну не отмахнется. Сей поп не дурак. Он-то хорошо уразумел, что царю станет известно о несметных богатствах епархии, тотчас немалый куш отвалит.
Васька успокоился. Одно худо: не погрел руки. Но не все еще потеряно. Будет в его калите зело весомая денежка. Только надо похитрее дельце обстряпать.
Глава 25
НОВОСЕЛЬЕ
На службе у воеводы Сеитова было куда повадней. У архиепископа Иванка чуял себя скованно: не привык он среди церковных людей жить. Дело ли – денно и нощно Давыда караулить и всюду за ним мотаться? Маята! Владыке Никандру Иванка никак не понадобился. Не ищет. Вот и, слава Богу.
Третьяк Федорович не обманул: и жалованье наперед выдал и с избой помог. Позвал Иванку, спросил:
– Где желаешь двор ставить?
– Да мне бы в слободе, воевода. И хорошо бы огородишко был, дабы мать моя и жена на грядках копошились. Докука им без земли.
Сеитов головой покачал.
– Охота тебе в тягло залезать. Я ж тебя в послужильцы беру. Поставил бы тебе обельный двор, и никакого тягла. На посаде же дармовой земли не бывает. Придется тебе за огородишко подати и пошлины платить.
– С жалованья твоего, воевода. Нельзя нам без землицы.
– А ты и впрямь странный. Ну да ладно. Будет твоей семье огородишко. С Земским старостой потолкую, выделит. Сам же – лишь мою службу ведай. У меня всяких дел невпроворот. А дабы избу долго не рубить, кликну плотничью артель. За два дня добрый двор поставят.
– Одним махом?
– Аль в диковинку, Иванка? В Москве не бывал. Там и не перечесть сколь было пожаров. Все улицы выгорали. Отстройся-ка заново! Вот плотники издавна и смекнули: стали изготовлять готовые сборные дома на Трубе.
– На трубе?
– Не о том подумал, Иванка, – улыбнулся Сеитов. – В глухой башне Белого города Москвы есть широкое отверстие, перегороженное железной решеткой. Через отверстие же протекает река Неглинная. Вот сие место москвитяне и прозвали «Трубой» или Трубной площадью. И Ростов Великий горазд на пожары. Местные плотники решили от Москвы не отставать. На Чудском конце срубы готовят. Там и сосновый лес под боком. Бревна для стен – в обхват до аршина. Добрая изба получается, кою легко быстро собрать и разобрать. И печника тебе толкового подберу. Зазорно воеводскому послужильцу в черной избе жить. Будет у тебя белая изба. Так что, готовь новоселье!
– Благодарствую, воевода, – поклонился Иванка. – Не ведаю, как с тобой расплачиваться стану.
– Доброй службой, детинушка.
Вскоре появилась у Иванки и новая белая изба с повалушей, и дворик для коня, и колодезь с журавлем, и баня-мыленка, и землица за двором.
Сусанна и Настенка не могли нарадоваться. Иванка же особой отрады не выказывал. Нет, нет, да и почнет его грызть невеселая думка. За последнюю пору манна с небес сыплется. То владыка Давыд на сытые харчи к себе позвал, то вдруг воеводе изрядно поглянулся. Ишь, какой добрый двор отгрохал! И кому? Беглому оратаю, о коем на селе думают, что тот сбежал в Дикое Поле. Как по сказке всё навалилось. Шел за сохой мужик и вдруг на скатерть-самобранку набрел. Но такого в жизни не бывает, а потому и смутная тревога на сердце. Ранее кусок хлеба своим горбом доставался, а ныне уж слишком легко, из господских рук, к чему он, Иванка, никогда и свыкнуться не сможет. Так что же? На село, к приказчику Бориса Годунова возвращаться?.. Никак не годится. Беглому одна участь – ременная плеть, коя всю кожу до костей сдерет, либо – студеный поруб[137]137
Поруб – сруб, врытый в землю, служащий для тюремного заточения.
[Закрыть], где и околеть недолго. Баре беглых не жалуют, до смерти могут извести, дабы другие мужики о бегстве не помышляли… Вспять ходу нет, но и безделье не слишком тешит.
Иванка, привыкший к бесконечной мужичьей работе, господскую службу окрестил праздным «бездельем». Поехал воевода город осматривать – и ты с ним, приказал кого-то в Приказную избу доставить – доставь, отправился зайцев травить – и ты становись в охотники… Да ужели то работа? Ничегонеделание! Но воевода без послужильцев не может: чин того требует. Свыкаться надо, Иванка.
Но душа тянула к земле…
Обычно на новоселье звали друзей и добрых знакомых, но ни тех, ни других Иванка пока не обрел. Вспомнился бортника Пятуню, но тот, поди, в лесах пропадает. Зашел на всякий случай. И вот судьба – Пятуня в избе! Сидит на лавке, что-то тихонько напевает и сеть плетет. Увидел Иванку, встрепенулся:
– Вот так гость. Авдотья! Мечи, что есть в печи. Вдругорядь в новом кафтане. Никак жалуют тебя святые отцы… Полинушка! Ты глянь на доброго молодца.
Иванка смущенно кашлянул в русую бородку.
– Не суетись, Пятуня. Не в гости пришел, а с позывом. Правда, не чаял тебя застать дома.
– А наш пострел везде успел. Искал в лесу новые пчелиные дупла, да на речонку набрел, а в речонке рыба косяками ходит. Вот и прибежал домой, дабы бредешок сладить.
Полинка вышла из горенки и поклонилась гостю в пояс. Иванка же в другой раз отметил яркую красоту молодой девушки.
Полинка вновь удалилась к себе, а хозяин пояснил:
– Ныне дочка каждый воскресный день навещает. Настояла на своем. Смирился Демьян Курепа. А куды денется? По воскресеньям царь никому работать не велел, вот Полинушка и проведывает нас.
Иванка и сам уже убедился: город – не деревня. Мужики по воскресным дням на полатях и лавках не отлеживаются. Идешь за сошенькой – на солнышко поглядывай, да моли Бога, как бы непогодица не навалилось: весенний день год кормит. А в пору сенокосную, хлебную страду?
Царь и попы хоть и указали в воскресенье на изделье не ходить и всем шествовать в храм Божий, но мужику не до храма: надо вовремя управиться, дабы семью в голоде не оставить.
Город же строго придерживается царского повеленья. И упаси Бог его преступить! Ни князь, ни боярин, ни купец не заставит холопа заниматься издельем. За тем зорко присматривают объезжие головы из Земской избы. Ослушников ждет суровое наказание.
Иванка посмеивался на городской побыт. Тихо в воскресный день в Ростове Великом. Примолкли кузни, не месят глину гончары, отложили сыромятные кожи сапожных дел мастера… Даже пекари спозаранку не замешивают тесто: хлеб для воскресного дня выпечен еще в субботу.
– Ты на мой кафтан не дивись. В другой пришлось облачиться.
Иванка коротко поведал о своей новой службе, отчего у Пятуни борода на шестую пуговицу вытянулось.
– Чудеса-а, – протянул он. – Мужик не живет богат, а живет горбат, а тебе богатство само в руки подвалило. Нет, ты слышь, Авдотья? Давно ли я видел этого молодца в сирых лаптишках?
Авдотья не знала, что и сказать, а Пятуня знай словами, как горохом сыплет, знай, ахает. Наконец, он вспомнил Иванкины слова:
– С позывом, говоришь? Аль, помочь какая понадобилась? Всегда готов тебе посодействовать.
– Прошу милость оказать. Новоселье у меня. Буду рад, коль с хозяйкой пожалуешь.
Пятуня прошелся по избе гоголем, лицо довольное.
– Слышь, Авдотья? Сидеть нам в гостях у воеводского послужильца, за одним столом с самим Третьяком Сеитовым. Ты когда-нибудь ведала такого почета?
– Не ведала, но…
Хозяйка почему-то оробела:
– Да токмо гоже ли будет воеводе сидеть с мужиком, коего у Спаса на Торгу батогами били?
– А кто не грешен да царю не виноват? Да и вины моей не было. То Земский староста на правеж меня поставил. Его грех.
Дверь в горенку была открыта. Полинка, слыша разговор, вновь выпорхнула из своей комнаты.
– Его грех, дядя Пятуня. Я всё ведаю! Пусть гость ничего худого про тебя не думает.
– Молодец, Полинушка. Заступница!
– Да у меня и в мыслях не было. Честен Пятуня, а потому и на новоселье кличу, – молвил Иванка и добавил:
– А коль и ты, Полинка, хочешь мне милость оказать, то и тебя к себе зову. Жена моя и мать рады будут.
Полинка вопрошающе кинула взор на Авдотью и Пятуню.
– Понимаю, дочка. Как на то Демьян Курепа глянет. Ну, да я сам до него добегу. Упрошу.
– И не вздумай, дядя Пятуня. Сама отпрошусь. Он у меня шелковый, – с задорным блеском в лучистых глазах высказала Полинка.
Новоселье справляли по старому русскому побыту: и трижды с иконой поп вокруг двора обошел, и двор святой водой окропил и… кошку вперед пустили. Батюшка неодобрительно глянул на домашнюю животину, но смолчал: древнее язычество давно уже перемешалось с христовой верой.
Не забыл Иванка пригласить к столу и плотников – тоже стародавний обычай. Все гости (по тому же побыту) пришли не с пустыми руками. Пятуня преподнес липовый бочонок меда, Полинка – вытканную узорами скатерть браную и по красивому убрусу Сусанне и Настенке, плотники – две искусно изготовленные лавки и набор плотничьего сручья, сосед, кожевенных дел мастер, упряжь для коня. Всё – по толку, всё в хозяйстве сгодится.
Воевода к новоселью припоздал, но Иванка тому лишь утешился: никак забыл о своем посуле, не к боярину на пиры шествовать. Да то и к лучшему: никого стеснять не будет. С простолюдинами гулять веселей, лишь бы питий и яств хватило. Но о том Иванка изрядно позаботился, не поскупился, благо жалованье вперед получил.
И Настенка и Сусанна были довольны сыном. Такой добрый двор заимел! Да и служить будет у самого воеводы. По слухам Третьяк Федорович хоть и строг, но человек праведный, ни дворовых, ни вольных слуг своих не обижает. Сказывают, плеткой ни на кого не замахивался. Дай-то Бог, чтобы у сына все было урядливо, тогда и семья покойно заживет. А покой нужен: скоро Настенка чадо принесет. Иванка ждет сына. Каждый мужик такой прибавы жаждет. Помощник! Годы птицей летят, не заметишь, как и внук в доброго молодца вымахнет.
Едва подняли первую чару, как в избу вбежал послужилец.
– Открывай ворота, хозяева! Воевода в дом жалует!
Гости и не ведали (Иванка промолчал, да и Пятуню предупредил, дабы помалкивал), что к ним заявится такой высокий гость. Все вышли из избы, а Иванка распахнул ворота.
Третьяк Федорович и трое послужильцев ехали на конях, а впереди их шел молодой слуга в лазоревом кафтане и вел за узду нарядно облаченного, вороного коня.
– Принимай в подарок, Иванка. Двор без доброго коня – сирота.
Гости ахнули, а Иванка земно поклонился воеводе. Конь для мужика – дороже всего на свете, не зря его на селе «кормильцем» зовут. (Иванка продолжал жить деревенскими понятиями).
– По нраву ли? – весело спросил Третьяк Федорович.
– Еще как по нраву, воевода… Милости прошу в дом пожаловать да нашего хлеба откушать.
– И хлеба откушаю и чару выпью. Стоять твоему двору незыблемо. От бури не рухнуть, и в огне не сгореть.
И загулял пир в новехонькой избе!








