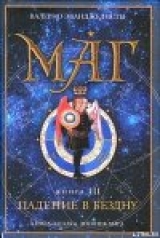
Текст книги "Падение в бездну"
Автор книги: Валерио Эванджелисти
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 23 страниц)
СЕМЕЙНАЯ ДРАМА
Старый капитан Сюфрен, по назначению бальи исполнявший обязанности сутенера в борделе у Когосских ворот, волнуясь, закончил читать вслух.
– Прекрасно написано, – сказал он, ставя на место канделябр, который держал над книгой. – Одна из фрейлин маркизы Мантуанской стыдится плотской любви и принимает монашество. В этой истории содержится глубокая мораль.
У пятерых девушек, живших и работавших в борделе, глаза были полны слез. Одна из них, брюнетка с детскими чертами лица, вытерла слезы платочком и шмыгнула носом:
– Да, мораль есть, но не та, о которой вы говорите. Девушка через плотскую любовь познает любовь духовную. Когда ей становится мало земной любви, она открывает для себя всю полноту любви Господней.
Сюфрен поднял указательный палец.
– Бланш, не пытайтесь найти на этих страницах оправдание вашей жизни.
Девушка вскинулась:
– Я не согласна! Смысл именно такой, как сказала я!.. А вы, доктор Нотрдам, что об этом думаете?
Мишель, сидевший на диване рядом с самым известным хирургом Салона Жерве Бераром, отечески кивнул:
– Я больше согласен с тобой, чем с нашим приятелем Сюфреном. Маргарита Наваррская вовсе не собиралась обесценить физическую любовь. И фрейлина, и ее возлюбленный занялись бы ею без тени стыда, если бы маркиза не чинила препятствий. И фрейлина открыла для себя, что тело – всего лишь весьма посредственное вместилище души, которая вечно норовит из него ускользнуть, чтобы достичь высших сфер бытия… Что вы об этом думаете, Жерве? Я вижу, вы в замешательстве.
Хирург, человек средних лет, с уже седеющими волосами и круглым, полным лицом, встрепенулся:
– Я думал о другом. Как называется книга?
– «История счастливых влюбленных», – ответил Сюфрен, поглядев на титульный лист.
– На самом деле счастливее всех оказалась Маргарита Наваррская, умершая десять лет назад. Останься она жива, она бы увидела, что ее дочь Жанна д'Альбре вместе со своим мужем Антуаном Бурбонским стала гугеноткой. Наваррское королевство во Франции сравнялось с кальвинистской Женевой: настоящее змеиное гнездо.
От этой жесткой дефиниции Мишеля передернуло. Он сдержат гневные слова и постарался говорить спокойно:
Маргарита отличалась толерантностью ко всем.
– Даже слишком. И ее новелла дает понять почему. Она ни католичка, ни гугенотка, а руководствуется скорее идеями Плотина или Гермеса Трисмегиста. Это бы очень понравилось моему брату Франсуа, который тратит время на алхимию.
Мишель почувствовал, как гнев переполняет его. К счастью, все пятеро девушек запротестовали хором, а Бланш высказалась за всех сразу:
– Что за скучные и непонятные разговоры! По мне, так важно одно: вы, мужчины, презираете женщин, а потом оказывается, что одна из них – великая писательница. А вам не приходит в голову, что вы ошибаетесь?
Жерве Берар цинично ухмыльнулся.
– Нет, малышка. Известно, что между ног королевы холодны, как ледники или как святые. Возьми хоть Екатерину Медичи. Бывают мужчины-евнухи, но женщин-евнухов не бывает. Женщины отказываются от самоистязания, они хрупки и непостоянны и счастливы только тогда, когда подчиняются самцу.
Грубость этого выпада сразу же обнажила сущность борделя, завуалированную чтением редкостной новеллы. В таком маленьком городке, как Салон, не существовало иерархии среди проституток, как в Париже, Лионе или Бордо. Здесь не было куртизанок высокого полета, которых посещали бы дворяне и прелаты, но зато не попадалось и несчастных беспризорниц, вынужденных по ночам выходить на улицы. Если иерархия и существовала, то минимальная. Были девушки в тавернах, чьими клиентами становились грузчики и прочий рабочий люд, и имелся один официально разрешенный бордель под началом мадам Катрин Галин, в управлении которым принимали участие городские власти.
Бордель располагался на краю квартала буржуа, и буржуа были его основными клиентами. Круг довольно изысканный, и ни о каких меркантильных отношениях тут не могло быть речи. Дорогие ковры, мебель с претензией на элегантность, несколько картин и множество зеркал заставляли думать, что здесь разворачиваются вполне невинные события. Отчасти это было верно. Многие посетители, в том числе и Мишель, приходили сюда скорее, чтобы поболтать с друзьями в пенном облаке хорошеньких девушек, чем ради удовлетворения животных страстей.
Это не мешало борделю становиться первой ступенькой деградаций для девушек, живших там на положении затворниц. Второй ступенькой к падению была таверна, третьей – нищета и последней – возвращение к той голодной жизни, от которой они спасались в борделе. Неизбежным следствием такого существования был стремительный физический упадок, как правило, сопровождавшийся болезнями, которые не только никто не умел лечить, но даже не думал изучать. Впрочем, все это рассматривалось как естественная расплата за путь греха.
В этот вечер у Мишеля разболелись ноги, и его выводила из себя вульгарность Жерве Берара. Он терпел Жерве только из уважения к его брату Франсуа, с которым дружил.
– Сударь, ваши суждения о женщинах оскорбительны не только для присутствующих барышень, но также для моей жены и матери, – отрезал он. – Я требую, чтобы вы принесли извинения.
Жерве Берар удивился, однако после секундного замешательства расхохотался.
– Перед кем я должен извиняться? Перед этими курочками? Что же до вашей жены… Она единственная, перед кем я бы извинился лично.
– Уймитесь, господа, – проворчал капитан Сюфрен, которому не впервой было разнимать и не такие схватки.
В последнее время Мишель часто сердился по пустякам. Может, тому виной была подагра…
– Господин Берар, еще раз прошу вас извиниться перед всеми присутствующими, включая девушек, – отчеканил он угрожающим тоном. – В противном случае вам придется иметь дело со мной.
– С вами? – Смешок Жерве прозвучал просто бесстыдно. – Да что вы мне можете сделать? На дуэль вызовете? Вы же слабы на ноги. Да и на то, что между ног, видно, тоже. Сколько я вас тут встречаю, ни разу не видел, чтобы вы повели кого-нибудь наверх. Вы только щупаете девчонок да иногда целуете.
Так оно и было, но Мишелю не хотелось это обнародовать.
– Немедленно возьмите свои слова обратно, иначе я заставлю вас горько пожалеть, – хрипло прошептал он.
Черные глаза Жерве Берара сверкнули злобой.
– Я знаю, почему вы никогда не показываете свое орудие, – прошипел он. – Это черным по белому написано в брошюре «Monstre d'abus»[13]13
Чудовище заблуждения (фр.)
[Закрыть]: вы еврей, и вам неохота, чтобы все увидели, что вы обрезаны.
Самая юная из девушек, рыжеволосая, с грубоватым лицом, по имени Франсуаза, отчаянно запротестовала:
– Вранье! Доктор де Нотрдам вовсе не обрезан, могу поклясться!
Мишель был вне себя, но хорошо знал, что хирург только и ждал, когда он взорвется.
– Мне известна брошюра под названием «Monstre d'abus». Ее написал гугенот, и напечатана она, скорее всего, в Женеве. Вы действительно согласны с тем, что там написано?
Жерве Берар внезапно побледнел. Костры, на которых жгли гугенотов, истинных и мнимых, горели по всей Франции.
– Нет, я истинный католик, я только…
Мишель не дал ему закончить:
– Учитывая тот факт, что я не при оружии, может, вы и правы. Но учтите: меня знают при дворе, и во всей Европе у меня есть корреспонденты. Я пользуюсь дружеским расположением властей Салона. Скрести мы шпаги, вы, конечно, меня одолеете. Но если начнем тягаться влиянием, боюсь, что вам придется сменить ремесло.
Бланш захлопала в ладоши:
– Браво, Мишель! Вы при яйцах, хоть их никогда и не показываете!
Берар вскочил и стремительно вышел, невольно втянув голову в плечи. С нижнего этажа донесся звук хлопнувшей двери.
Мишель тоже поднялся, нетвердо держась на больных ногах.
– Мне тоже пора, – сказал он. – Простите, если спугнул клиента.
– Некоторых клиентов лучше и потерять, – заметил капитан Сюфрен с высоты своего официального положения.
Пять улыбающихся и довольных девушек окружили Мишеля. Самая высокая из них, голубоглазая блондинка с фигурой Юноны, погладила его по бороде.
– Спасибо, доктор. Так редко случается, что нас защищают. Можно, я вас поцелую?
– Что ты, Мариетта, – ответил Мишель, слегка оробев. – Я не сделал ничего особенного.
Тогда девушка проворно сбросила бретельки легкой туники и приподняла руками роскошные груди.
– Тогда поцелуйте их. Я знаю, что они вам нравятся.
– Нет, Мариетта, – сказал Мишель, ласково улыбнувшись. – моем возрасте я должен только любоваться твоей красотой. Твоей и твоих подружек.
Несмотря на боль в ногах, он почти бегом сбежал по лестнице, вышел на улицу и, глубоко вдохнув вечерний воздух, зашагал к дому.
Теперь ему предстояло самое трудное. Дав ему понять, что она знает о его эскападах к Когосским воротам, Жюмель больше об этом не заговаривала. Мишелю же надо было выговориться, может, для того, чтобы отказаться наконец от этого развлечения, может, чтобы объяснить ей, зачем он туда ходит. Но она молчала, и у него недоставало мужества самому начать разговор. Ему нечего было сказать в свое оправдание. Да он и сам не знал, что толкало его в дом возле моста. Анализируя свои поступки, он вдруг понял, что просто стремится оттянуть неизбежное приближение старости.
Любой другой мужчина в Салоне продолжал бы тайком наведываться в бордель, а жену бы побил за то, что осмелилась ему перечить. Но их отношения с Жюмель резко отличались от принятых в те времена отношений между мужем и женой. Пусть она сквернословила, была вульгарна, непослушна и капризна, но она одна его действительно понимала, и их связывали узы крепкой дружбы. Они не случайно были на «ты», хотя в ту эпоху было принято говорить супругу «вы». Ритуал, когда они своей любовью уничтожили ауру ненависти Ульриха, был свидетельством этой близости.
И все же бордель у Когосских ворот провел между ними борозду. Днем их отношения были почти нормальными. Однако по пятницам, когда наступал вечер и она поднималась наверх к детям, он тайком выскальзывал из дома и бесшумно возвращался поздней ночью. По молчаливому взаимному согласию их физическая близость прекратилась. Только очень редко Жюмель, движимая скорее жаждой материнства, изо всех сил прижималась к Мишелю, добиваясь проникновения. Дети, казалось, помогали ей заполнить возникшую чувственную пустоту, которая давала о себе знать все ощутимее.
Обычно по ночам вопрос чувственного контакта даже не возникал. Она отправлялась спать, часто беря с собой кого-нибудь из детей. Он всю ночь просиживал в своем кабинете под крышей, не сводя покрасневших глаз с крутящегося кольца, которое разворачивало перед ним картины, одна другой ужаснее. Так продолжалось до тех пор, пока ноги не начинало сводить от боли, и тогда все тело мучительно вздрагивало, предчувствуя неминуемое наступление старости.
Погруженный в свои мысли, он не заметил, как у него за спиной затормозила двуколка. Чей-то приветливый голос вывел его из задумчивости:
– Доктор Нострадамус! Доктор Нострадамус!
Мишель огляделся и понял, где находится. Он был на главной улице квартала Ферейру перед домом Антуана Марка, брата первого консула Паламеда. Антуан Марк управлял экипажем, а рядом с ним сидел аптекарь Франсуа Берар. Он-то и позвал Мишеля. Уже почти стемнело, но свет фонарей позволял ясно различить их лица.
– Мишель, я знаю о вашей ссоре с братом, – взволнованно сказал Франсуа. – Прошу у вас прощения от его имени. Он всегда был грубияном, и это доставляло нашей семье немало неприятностей.
– О, вам вовсе не надо извиняться.
Мишель был раздосадован, что его отвлекли от размышлений, но постарался улыбнуться.
– Инцидент исчерпан, если он действительно имел место. И уж конечно, вы к нему непричастны.
– Хотите, подвезу вас до дома?
– Мой дом в двух шагах.
– Это солидное расстояние для того, кто страдает подагрой.
Мишель почувствовал себя слегка униженным. Конечно, все знали о его болезни, но он предпочитал видеть себя сильным и властным мужчиной, далеким от земных невзгод.
– Спасибо, я прекрасно доберусь сам.
Антуан Марк наклонился к нему.
– Все равно садитесь, доктор. Я ищу вас весь вечер. У меня для вас известие.
– Известие? От кого?
– Он назвался вашим другом, но я ему не очень-то верю. У него такое зловещее, перекошенное лицо… Его зовут доктор Пентадиус.
Дрожь прошла по телу Мишеля. Он почувствовал сильное головокружение и тошноту. Голос сразу осип, хотя и звучал спокойно.
– Спасибо, я сяду в экипаж. Но тут нет места…
– Не беспокойтесь, я выхожу. Я уже дома, – сказал Франсуа Берар.
Аптекарь почти втащил Мишеля на сиденье. Как только он уселся, Антуан Марк тронул поводья. Мишель едва успел распрощаться с Бераром.
– Триполи, где вы встретили Пентадиуса? Он явился к вам в дом?
Триполи было прозвище Антуана Марка, которое он получил за склонность к путешествиям с приключениями. Теперь ему было около пятидесяти, и он оброс жирком, но в молодости побыл и шпионом, и искателем приключений, и повоевал в самых разношерстных войсках. По крайней мере, он сам так утверждал. Жители Салона, южане до мозга костей, слушали его байки разинув рот.
Триполи отрицательно покачал головой.
– Нет, я встретил его на улице. Он остановил свою карету рядом с моей двуколкой. С ним рядом сидела пышнотелая дама под черной вуалью. Когда Пентадиус меня окликнул, я решил, что он обознался, но он назвал меня по имени и оказался знаком с вами.
– И что он вам сказал? – нетерпеливо спросил Мишель.
– Он просил передать вам, что ваш учитель при смерти и находится в каком-то итальянском местечке. Перед смертью он хотел бы вас повидать и попросить у вас прощения.
– А вы не помните, как называется место?
– Нет, я даже у него не спросил. Уж очень у него рожа бандитская. Он говорил о какой-то «гробнице триумвира», которую вы якобы знаете.
Триполи скорчил свирепую гримасу, так хорошо известную во всех тавернах Салона.
– Если бы этот тип попался мне в темном переулке, я бы – вжик-вжик! – распорол ему брюхо шпагой. В Африке и Вест-Индии мне встречались такие типы с бегающими глазками, и я ни одного не оставил в живых.
Мишель не обратил внимания на бахвальство приятеля. Всю оставшуюся дорогу он молчал. У него имелись мысли насчет «гробницы триумвира», вернее, они имелись у Парпалуса, который их нашептал. Надо бы его расспросить. Но он вовсе не собирался ни снова увидеть Ульриха, пусть и при смерти, ни выслушивать его предполагаемые просьбы о прощении.
– Через несколько дней я поеду в Италию, – продолжал Триполи. – По делам консистории Лиона мне надо повидать нашего брата Пьеро Карнесекки. Мы считаем, что настало время вооруженных действий против этих мерзавцев католиков, пока они всех нас не перебили. Пары сотен хорошо обученных гугенотов хватит, чтобы преподать папистам хороший урок. Но мы должны согласовать это с Карнесекки, который основал консисторию и является нашим пастырем.
Эти слова вызвали у Мишеля сильную досаду. Он знал, что Триполи гугенот, да тот никогда этого и не скрывал, словно не понимал, насколько теперь это стало опасным. Природная толерантность провансальцев сильно пошатнулась. И если насилие, царившее в Париже и в Северной Франции, распространится и здесь, то Триполи не спасет ни то, что он брат первого консула, ни то, что он друг графа Танде. Меньше всего Мишелю хотелось, чтобы его втягивали в религиозные конфликты.
К счастью, они уже подъехали к его дому.
– Спасибо за приглашение подвезти, Антуан. К сожалению, ноги не позволяют мне столько путешествовать, сколько я бродил в юности. И приглашение Пентадиуса – не самое заманчивое.
– Совершенно с вами согласен, – сказал Триполи, помогая ему сойти. – Я заеду попрощаться перед отъездом.
– Для вас мой дом всегда открыт.
Мишель подождал, пока экипаж отъедет, и заковылял к дому. Уже стемнело, и улица была ярко освещена светом, льющимся из окон первого этажа. Жюмель обычно укладывалась рано, но нынче, должно быть, еще не ложилась. Это делало его возвращение малоприятным. Но бродить по улице, пока она не заснет, у него не было сил.
Он полез за ключом, но вдруг понял, что дверь приоткрыта. Он осторожно вошел в дом. Все светильники в коридоре были зажжены, но ярче всех сияла гостиная. Уж не хочет ли жена устроить ему сцену? Он сглотнул и двинулся в комнату.
Каково же было его удивление, когда он увидел, что в гостиной на диване сидит их служанка Кристина, на руках у нее годовалый Андре, Шарль, притулившись головкой к подлокотнику, спит, а Магдалена и Сезар играют на полу.
– Где Жюмель? – спросил он, стараясь отогнать охватившее его мрачное предчувствие.
Кристина в смущении распахнула голубые глаза.
– Она уехала, – сказала она тихо.
– Уехала? Как это уехала? – Мишель не мог поверить в то, что услышал.
Кристина указала на сложенный вчетверо листок бумаги на столе.
– Прочтите письмо. Наверное, там все сказано.
Мишель схватил бумагу, но, прежде чем прочесть, спросил:
– С кем она уехала? Мне кажется, к ней приходил незнакомец, верно? – Голос у него задрожал.
– Я никого не видела, – ответила Кристина, покачав головой. – Думаю, все сказано в письме. Единственное, что я могу сказать, так это то, что мадам долго паковала багаж.
– Я знаю, с кем она уехала, – мрачно прошептал Мишель.
Он подошел поближе к светильнику и развернул письмо. Почерк был корявый, и почти в каждой строке грамматические ошибки, что очень затрудняло чтение. Но смысл письма был предельно ясен.
С первой строки уверенность Мишеля улетучилась. То, что он прочел, в переводе на понятный язык выглядело так.
Дорогой Мишель!
Я решила оставить этот дом, может быть, навсегда. Не думай, что это было легкое решение. Я оставила детей, и сам можешь представить, какого страдания мне это стоило. Но я совершенно не представляю, как взять их с собой.
Ты был любящим мужем, и со временем наши отношения стали прекрасными. Не думай, что я упрекаю тебя за визиты в бордель. Ты прекрасно знаешь, что я была такой же, как тамошние девушки, и понимаю, что их посетители зачастую ищут вовсе не физического удовлетворения. В твоем случае я полностью исключаю плотскую страсть. Я была бы рада, если бы ты, поняв, что я все знаю, сам бы откровенно обо всем рассказал. Но ты этого не сделал. Однако, повторяю, дело не в этом.
Дело в том, что как у тебя есть своя жизнь, так и у меня есть своя. Юность моя прошла нелегко, но мало кто из женщин был в юности так свободен, как я. За ощущение, что принадлежишь только самой себе, я заплатила унижениями и насилием. Именно это заставило меня научиться читать и писать. Жизнь в таверне не кончается, когда уходят посетители. Она только начинается. Так называемые падшие женщины живут своей жизнью, о которой мужчины даже не подозревают.
А у семейной женщины своей жизни нет. Она посвящает себя либо детям, либо мужу. Муж может очень любить ее, но эта любовь для многих превращается в цепи. Ты существуешь не сама по себе, а только вместе с другим человеком. Многие женщины безропотно принимают ярмо. Я – нет, у меня не получается. Я пришла с улицы, где принадлежала только себе. И я не могу больше жить жизнью наседки.
Кончаю, потому что знаю, что ты не разберешь мои каракули. Но я должна была тебе хоть как-то все это сказать. Я ухожу искать свою судьбу далеко отсюда. Прошу тебя, позаботься о детях. Оставляю тебе все, что имею, от дома до личного имущества. Может быть, когда-нибудь увидимся.
Прощай.Анна Понсард, по прозванию Жюмель
Мишель несколько мгновений стоял неподвижно, ошеломленный, потом скомкал письмо в кулаке.
– Проклятый Пентадиус! – крикнул он в бешенстве. – Кого ты думаешь обмануть? Да ни одна женщина в мире не напишет такой чертовщины!
Он снова подступил к Кристине:
– Ты уверена, что никого не видела у дверей? Двуколки, лошади? И не вздумай врать!
Испуганная девушка замотала головой. Дети заплакали.
– Собери мои вещи, – сухо приказал Мишель. – Я должен найти Пентадиуса и освободить Жюмель.
И прибавил вполголоса:
– Гробница триумвира. Там-то я и найду всю окаянную шайку.
ВЫЗОВ
Падре Михаэлис был поражен. Он никогда не думал, что гугенотов так много и что они такие наглецы. Весь левый берег Сены, от аббатства Сен-Жермен до башен Лувра на том берегу, полыхал факелами. К 13 мая 1558 года тысячи людей съехались в Париж со всей Франции. Шесть дней спустя они все еще были здесь, и количество их все возрастало. Псалмы, которые они распевали (и среди них «Judica tua, Domine»[14]14
Суд твой, Господи (лат.)
[Закрыть], в переводе швейцарца Теодора Безе, звучавшие как угроза королю Франции), были слышны даже в Сорбонне.
– Брат, ты без факела, – сказал Михаэлису выросший у него за плечами здоровенный детина. – Возьми мой, я добуду себе другой.
В руке Михаэлиса оказалась какая-то тлеющая головешка. Неверное, тусклое пламя вызвало в памяти стихи странствующего поэта Аргюса Дезире:
Бедный норманнский священник, призывая отправить на костер всех гугенотов, и представить себе не мог, что тайные сборища и ночные шушуканья со временем превратятся в хорошо структурированную религию и массовые собрания. Каковым и являлось печальное зрелище, которое наблюдал Михаэлис. Несметная толпа гугенотов занимала Пре-о-Клерк, на просторном травянистом поле расположились на отдых парижские студенты. Кроме всего прочего, многие из присутствующих были вооружены. По полю то и дело проезжали всадники с пиками наперевес или со шпагами наголо, обеспечивая порядок. На самом же деле они были призваны предотвратить внезапные вылазки жандармов из Шатле.
– Посторонись! Посторонись! – слышались возбужденные голоса.
Падре Михаэлис выронил факел, начавший жечь пальцы, и отошел в сторону. В образовавшемся коридоре показались кони маленького кортежа, и он разглядел короля Наварры Антуана де Бурбона верхом на гнедом коне. Рядом с ним, прямо держась в седле, ехал его брат, принц Конде. За ними, сгибаясь под тяжестью арбалетов, следовали пешие воины. Толпа радостными криками приветствовала кулеврину[16]16
Кулеврина – пищаль. Ранние пищали были очень тяжелы, неповоротливы и могли иметь по нескольку стволов. (Прим. перев.)
[Закрыть], которую тащили мулы.
Тут толпа сомкнула ряды, и Михаэлис оказался зажат со всех сторон. Орудуя локтями, он протолкался к помосту, на котором уже занимали места король Наварры, принц и их свита. Стояла теплая лунная ночь.
Он уже знал, что Антуан де Бурбон не собирается обращаться к народу с речью. Должен был последовать прямой вызов Генриху II, и без того уже ожесточенному непомерно разросшейся церковью кальвинистов. И действительно, король не сказал ни слова и ограничился тем, что запел вместе с толпой псалмы. Говорить готовился пастор Пьер Давид, рядом с ним стоял еще один пастор: Франсуа де Гаи, по прозванию Буанорман.
Давид изо всех сил старался утихомирить толпу, и наконец площадь стихла. Его слова не долетали до отдаленных уголков Пре-о-Клерк, и добровольцы из толпы громко их повторяли, чтобы могли услышать те, кто стоял в отдалении. Над площадью зазвенело эхо, торжественно повторявшее каждую фразу. В результате получился грандиозный спектакль не только для глаз, но и для ушей. Михаэлис был этим встревожен вдвойне.
– Братья, мой долг – очень серьезно вас предупредить! – выкрикивал пастор. – С сегодняшнего дня парламент запретил группам вооруженных людей собираться в позднее время для пения псалмов. Понимаете, на кого нацелен этот приказ?
Гневный вопль взвился над площадью, и по нему нетрудно было догадаться, каков был ответ. Вопль этот многократно повторялся по мере того, как слова пастора передавались к дальним рядам слушателей. Рядом с Михаэлисом какая-то женщина подняла над головой судорожно сжатые кулаки, а несколько горожан угрожающе схватились за шпаги, висевшие на поясах.
– Мало того, что невинных людей сожгли заживо, – продолжал Давид. – Мало того, что замучили многих женщин, отрубая им руки, ноги и вырывая языки, и все только за то, что они говорили правду. Теперь нам хотят запретить петь псалмы. Так вот, я вам скажу, что такой богохульный приказ мог отдать только Сатана в человеческом облике!
Снова раздался вопль гнева. Вверх взметнулись факелы; казалось, вспыхнула Сена и огонь вот-вот достанет до дворцов на том берегу.
– Сатану зовут Генрих! – взвизгнул кто-то. – А его демоны – это Гизы!
– Смерть Гизам! Смерть Гизам! – взревела площадь.
Давид поднял руку, требуя тишины.
– Успокойтесь, братья. Мы должны действовать хладнокровно. Завтра праздник Вознесения, и вся католическая нечисть выйдет на улицы со своими образами и статуями. Вот подходящий случай испытать наши силы. Предлагаю на рассвете тоже выйти на улицы и расстроить ряды священников во всем городе. Если мы вторгнемся в скопища фанатиков, несущих языческие изображения, то сомнем их, ибо наша религия истинная! Но наша цель – не насилие. Мы хотим, чтобы суверен и правители Франции поняли, что церковь Реформации – реальная сила, которую не одолеть ни кострами, ни декретами. А теперь скажите мне: вы согласны с моим предложением?
Ответом был такой оглушительный рев, что сомневаться не приходилось. У падре Михаэлиса появилась уверенность, что назавтра произойдет серьезная стычка. Идя на собрание по городу, он видел, как простолюдины из католического братства привязывали к шестам знамена. Парламентский запрет на собрания делал неизбежным вмешательство жандармов, а то и морской гвардии, расквартированной в городе со времен осады. Это могло расстроить все его планы.
Он вдруг заспешил по направлению к Сене, расчищая себе дорогу пинками. Гугеноты снова принялись петь до потери дыхания, но теперь их пение обрело угрожающий характер. Лошади под дворянами переступали копытами, словно предчувствуя неминуемую схватку.
Михаэлис остановился только раз. В толпе гугенотов он заметил человека, с которым уже встречался раньше. Его звали Жак-Поль Спифане, и он снискал себе шумную скандальную репутацию из-за связи с высокопоставленным любовником и множеством мальчиков. Потом, пользуясь тем, что католическая церковь откровенно закрывала глаза на плотские грехи духовенства, он сделал блестящую церковную карьеру. Теперь, насколько знал Михаэлис, он стал епископом Невера и был близок ко двору Екатерины Медичи. Меньше всего он ожидал встретить Спифане здесь, в светском платье, распевающего псалмы вместе с гугенотами.
Он взял это открытие на заметку и поспешил скрыться, пока Спифане его не обнаружил. Добравшись до Сены, он спустился по каменной лестнице к самой воде. Уже совсем стемнело, но в свете факелов дорогу можно было различить. Он вышел на причал и остановился там, где сходни вели на одну из многочисленных плавучих мельниц, колыхавшихся на воде. Большое колесо медленно вертелось, поскрипывая на ходу.
Михаэлис по мостику прошел в свайную постройку. Просторный вестибюль здания был хорошо освещен коптящими светильниками и заставлен мешками с мукой. Звать не понадобилось: Джулия сама вышла из-за тюков и бросилась к нему.
– Ой, как хорошо, что вы пришли! – взволнованно вскричала она. – Я тут совсем одна, и мне страшно.
– В тюрьме вы тоже были одна.
– Не совсем. Там я была в компании других арестанток, гугеноток, настоящих или подозреваемых. Я надеялась только на вас, и вот вы явились как по волшебству. Вы спасли меня от тюрьмы, и теперь я ваша должница. Ведите меня, куда хотите, и я буду вам служить.
Михаэлис постарался улыбнуться.
– Вы действительно хотите уйти из этого убежища? Я, конечно, выполню ваше желание, но имейте в виду: в Париже сейчас неспокойно, особенно если идти через город пешком.
Падре Михаэлис ни за что бы себе в этом не сознался, но он был порядком смущен. Несмотря на порванное платье и длинные нечесаные волосы, Джулия была необычайно привлекательна. Может, из-за сверкающих голубых глаз, может, из-за того, что шелковая рубашка, прикрывавшая грудь, обнажила плечи. Она и вправду очень походила сейчас на мать, герцогиню Чибо-Варано, какой ее увидел Михаэлис, когда она освобождала из тюрьмы Мишеля Серве: гордая, решительная, прекрасная.
Но член ордена иезуитов никак не мог позволить себе подобные мысли. К чужим плотским грехам иезуиты были чрезвычайно терпимы, особенно если эти грехи служили высоким целям. Однако их собственное поведение было безупречно. Не случайно на Тридентском соборе их представители так отчаянно защищали тезис о непорочности Марии даже после рождения Иисуса. Они отстаивали бескомпромиссную девственность служителей Бога. Всяческие нарушения были простительны несовершенной человеческой натуре, но Божьи солдаты обязаны были соблюдать строжайшую дисциплину и держаться подальше от греха, который, из соображений стратегических, был извинителен у всей паствы, включая высшее духовенство.
Джулия, должно быть, заметила смущение Михаэлиса и улыбнулась:
– Мне известно, что творится в городе. Сюда долетает шум, к тому же, сознаюсь, я все время выглядываю посмотреть. Думаю, стычка неизбежна. Завтра Вознесение, из каждой парижской церкви выйдут процессии, и будет чудом, если ничего не случится.
Она поправила спустившуюся с плечика шелковую рубашку, словно не понимая, что это на первый взгляд стыдливое движение только усилит замешательство иезуита.
Падре Михаэлис поспешил опустить и отвести глаза.
– Я тоже уверен в том, что опасность беспорядков существует. Лучше всего будет вам отсюда никуда не двигаться.
– Нет. Мельница плавает почти на середине реки, разделяющей враждующие стороны. Ее легко поджечь или утопить. К тому же проигравшие наверняка будут рассматривать ее как последнее убежище.
Михаэлис был вынужден согласиться. Уже две недели он прятал Джулию на мельнице, и ему нравилась идея держать ее здесь и дальше, чтобы она с нетерпением ждала каждого его появления. Но она была права.
– Соберите вещи, и пойдем.
Джулия развела руками.
– У меня нет ничего, что стоило бы унести с собой. Платья и украшения отобрали еще в Шатле, и теперь, наверное, их носит жена какого-нибудь наместника или прокурора.
– Тогда пошли.
Падре Михаэлис вывел Джулию наружу. Луна уже поднялась довольно высоко, а гугеноты все еще распевали псалмы, опьяненные идеей овладеть городом. Никто не обратил внимания, как из мельницы вышли мужчина и женщина и быстро зашагали по берегу. Перейти по мосту на берег, противоположный Пре-о-Клерк, не составляло труда. Михаэлис не собирался возвращаться в коллеж Сен-Жак, расположенный слишком близко от собрания еретиков. Он не знал, куда идти, но по дороге ему пришла мысль.
Джулия повисла у него на руке.
– Прошу вас, скажите, вы добились моего оправдания или только освобождения из-под стражи?
– Только освобождения. Оправдание вы можете получить только либо в результате расследования, либо по завершении процесса. Расследование еще идет.








