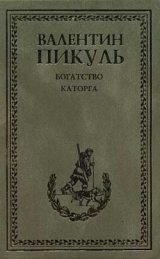
Текст книги "Богатство (др. изд.)"
Автор книги: Валентин Пикуль
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
– Тогда я забираю твою лисицу в ясак. Камень упал на бусы, вокруг разнесло веер ярких стеклянных брызг. Коряк отдал мех с удивительной легкостью.
– Бери в ясак, – разрешил почти равнодушно.
Сережа Блинов был свидетелем этого дичайшего диалога, и после ночевки в юрте он сказал Соломину:
– Смотрю я на вас, Андрей Петрович, и все время думаю – напрасно стараетесь… Да, вам удалось задержать спирт в городе. Верю, что и головку промысла соберете, рассчитаетесь ясаком за налоги, даже товарами обеспечите людей без обычного живодерства. А все равно в победителях вам не бывать: как жили здесь, так и будут жить.
Эти слова ударили по самолюбию Соломина.
– Ради какого же черта, спрашивается, я валяюсь на вшивых подстилках, дышу по ночам дымом и уже забыл, когда был в бане? Я ведь преследую цель вполне благородную!
– Не спорю, – согласился студент охотно. – Но по мелочам добыть победу легко. А нужны коренные изменения во всей системе нашего великого государства…
Андрей Петрович откровенно расхохотался.
– Вот как у нас все простенько! – сказал он. – Отъехали подальше от города, ни полиции тебе, ни жандармов – и сразу разболтались… Да вы, Сережа, оказывается, радикал!
– Не я один, – ответил юноша. – Сейчас все так думают.
– Насчет всех вы махнули лишку. Если бы все так думали, так в России давно бы случилась революция. Однако на Руси еще полно людей, думающих иначе… Вы меня спросите – кто я таков? Я вам отвечу – чиновник, увы-с. Да, обыкновенный чиновник, только ненавидящий чиновное равнодушие. Можете меня даже презирать… как вам угодно, сударь.
Студент произнес с некоторым упреком:
– Вы не только чиновник, вы еще и писатель!
Напоминание об этом не было для Соломина приятным.
– Литература – вроде бесплатного приложения к моей чиновной карьере. Я ведь пишу больше по той причине, чтобы в чем-то оправдаться перед начальством. А печатное слово мне всегда казалось намного крепче слова говоренного.
– Зато мысль изреченная есть ложь.
Андрей Петрович показал ему вперед:
– Вы мне тут господина Тютчева не цитируйте, а лучше следите за второй пристяжной слева – опять кровь на снегу.
– Ах, извините, пожалуйста…
Караван остановили. На израненные лапы собак надели сыромятные чулки, и они снова налегли в ременные алыки.
Соломин вернулся в Петропавловск лишь в самые последние дни февраля; Россия уже вступила в 1904 год.
Предстояла работа по подсчету ясачной пошлины. Андрей Петрович отчасти был знаком с бухгалтерским делом и теперь с видимым удовольствием подводил калькуляцию прибыли, щелкая костяшками счетов. В итоге образовался свободный «инородческий капитал» в сумме 80 000 рублей.
– Даже не верится. Нет ли ошибки? – сказал Блинов.
Соломин заново перещелкал ясак на счетах:
– Все верно. Восемьдесят тысяч…
Блинов стал хлопать себе по коленям:
– Дивно, чудно! Вы собрали ясак, с лихвою покрывающий годовую потребность расходов всей Камчатки… Такого еще не бывало! Теперь-то я понимаю, сколько воровали прежние начальники, когда ездили драть ясак не одни, а в теплой компании…
Правда, что в Петропавловск еще долго наезжали камчатские охотники, иные сдавали пушнину в казну, а других, тайком от Соломина, перехватывали скупщики. Но это тянулся уже хвост, а сама головка промысла нерушимо покоилась в кладовых.
…К этому времени Трушин выбрался из запоя.
НАУЧНЫЙ ДИАГНОЗ
Весь март в Петропавловске шла подозрительная возня, какая бывает среди муравьев, если их потревожат: муравьи бегают, при встречах ощупывают друг друга усиками, снова разбегаются, весьма деятельные. В условиях бездарнейшей конспирации все недовольные Соломиным собирались то в трактире Плакучего, то на дому у Расстригина, то на квартире Неякина. Андрей Петрович отчасти догадывался, о чем сговариваются «лучшие, люди» Камчатки, но выводов для себя делать не стал.
– Пусть будет как будет, – говорил он.
Наконец особыми повестками «лучшие люди» камчатского общества были созваны на всенародное вече в помещении уездной больницы. Гостей встречал сам хозяин, безбожно опухший после запоя, говоря каждому с радушием небывалым: – Прошу… прямо: в палату для хроников.
Больничный фельдшер, шаркая галошами, обносил гостей чистым спиртом, который он разливал из громадной ведерной бутыли с этикеткой: «Дезинфекция. Только для закрытых помещений». В число приглашенных попал и урядник Мишка Сотенный, держа в руке повестку, где черным по белому писано: «Сим извещается, что сего дня в помещении градской больницы имеет состояться установление научного диагноза о болезни (умалишении) нашего несчастного уездного начальника…»
Рассаживались по рангам: побогаче на стульях, а те, что победнее, с робостью присели на пустые больничные кровати, затянутые казенными одеялами со штампом: «Дар черногорской королевы больным града Петропавловска-на-Камчатке». Со стола убрали аптечку, вместо нее Трушин возложил две монографии немецкого психиатра Р. Крафта-Эбинга. Одна была руководством по клинической психиатрии, другая – об извращении полового чувства… Благочинный Нафанаил воздел очки на нос и полистал обе, старательно вникая. Но ни бельмеса не понял и отложил книги, сказав с душевным надрывом:
– А и велика же премудрость господня…
Расстригин обратился к Трушину:
– Чего тянуть кота за хвост? Начинай с богом.
Трушин поднял над головой два тома:
– Внимание, господа! Вы видите сочинения знаменитого психиатра Рихарда Крафта-Эбинга, который недавно скончался, и при его кончине весь научный мир Европы невольно вздрогнул.
Сидящие на больничных койках вздрогнули тоже в знак солидарности с Европой, только один урядник остался невозмутимым и лениво перекинул ногу на ногу, покуривая мечтательно. Далее Трушин заговорил, что много дней и ночей посвятил штудированию этих трудов по психиатрии, дабы на строгой научной основе поставить диагноз душевной невменяемости камчатского начальника…
– Вы все его знаете, – печально поник он главою. – Знаем, знаем! – раздались крики, и к фельдшеру, блуждавшему в галошах, потянулись быстро пустеющие стаканы.
– В науке не редкость, —воспрянул доктор, – что человек, внешне кажущийся нормальным, при ближайшем клиническом рассмотрении оказывается… уже поехал! Если же этот вопрос копнуть глубже, то нормальных людей вообще не существует.
– Как это так? – забеспокоился Расстригин.
– Не месай, – удержал его Папа. – Ты слусай.
– Ко мне, – витийствовал Трушин, – уже неоднократно поступали заявления от почтенных граждан, кои просили меня последить за поведением господина Соломина… Вы, надеюсь, ухе заметили, что наш начальник, не в пример другим начальникам, выделяется излишнею жаждою деятельности. О чем это говорит? О том, что он не в себе, ибо, – тут доктор глянул в книгу, – тенденция к неукротимой активности тоже есть разновидность безумия, научно говоря – маниакальный синдром.
– Чего, чего? – спросил Нафанаил.
– Синдром, ваше преосвященство.
– А-а, тады все ясно…
Неякин присвистнул в углу палаты для хроников:
– А я-то думал – с чего это Соломин по всей Камчатке волчком хороводит? Оказывается, он просто дурак такой, что на одном месте усидеть не может. Опять же обиду имею. Однажды смирно лежу на улице и никому не мешаю. Вдруг откуда ни возьмись вылетает Соломин в пальто нараспашку и, слова доброго не сказав, наклоняется надо мной и плюет мне в глаз… вот в этот!
Участники научного консилиума стали приводить другие яркие примеры безумия Соломина, а доктор Трушин, торопливо листая Крафта-Эбинга, подводил под них «научную основу».
– Опять же, – напомнил Расстригин, – все нормальные начальники, коли ехали ясак драть, так нами не брезгали. А этот от компаньи воротится, нас и за людей уже не считает.
– Типичная маниус грандиоза, – объяснил Трушин, – когда человек за все берется, что другим не под силу, и который ставит перед собой задачи, явно невыполнимые для общества.
Эта «грандиоза» дошибла всех окончательно, дьякон петропавловского собора, перебравший лишку из больничной бутыли, горько заплакал. Доктор Трушин, оставаясь трезв, аки ангел, обсыпал заговорщиков, словно карнавальным конфетти, ужасными словами – шизофрения, эгоцентризм, паранойя и прочими.
Расстригин увлекся книгою о половых извращениях.
– Жаль, что нету картинок, – сказал он.
Фельдшер, шаркнув галошами, взболтнул бутылишу:
– Кому налить? Тута ишо осталось… на донышке.
Все были уже пьяны, а алкоголь придавал собранию характер дикой безалаберщины, а личные обиды, подогретые казенным спиртом, виртуозно перемешивались с научными цитатами, вычитываемыми из книг под неутешные рыдания долгогривого дьякона.
Слово опять получил Неякин:
– Кстати, об этих самых извращениях… Мимо этого пройти нельзя! Ведь мы до сих пор не знаем, в порядке ли у Соломина извращение? Опять же кухарку он взял. Она к нему, стерва, бегает. Сколько было начальников на Камчатке, и столько же было кухарок, которые к ним бегали. Ведь не для того же они бегали, чтобы супы им варить…
– Во-во! – заторопился Расстригин. – Я на днях Анфису в угол затолкал и спрашиваю: «Ну, как он… насчет этого?» А она говорит, что ничего похожего и такого даже не ожидала.
– Замецательно! – вскочил Папа-Попадаки. – Я таких ненормальных узе встрецал. Помню, был у нас в Таганроге полицмейстер, который на зенсцын не обрасцал внимания. Но поцему-то обратил внимание на меня. Я тогда зерном торговал, и у меня было два корабля на Азовском море, где водится сладкая скумбрия – ницуть не хузе камцатской лососины. А скумбрию, если зелаете иметь блазснство, зарят так…
– Ближе к делу, – поправил его Трушин.
– Дело было подсудное, а сумаседсый полицмейстер, обративший на меня свое изврасценное внимание, посадил меня в тюрьму. Но я, – поклялся «греческий дворянин», – барзы с зерном не воровал. Просто был сильный шторм, барза сама отвязалась от Таганрога и уплыла прямо в Турцию, где турки не будь дураками, все зерно продали в гредеские Салоники. Но спросите меня – имел ли я– с этой бури хоть одну копеецку?
– Против науки не попрешь, – мрачно заявил Расстригин. – Даже страшно подумать, какие бывают болезни на свете…
Разошлись в первом часу ночи. Плачущего дьякона духовный клир увел под руки, и улицу ночного города долго оглашали рыдания. Потом кто-то, кажется Неякин, стал кричать:
– Ура! Наша берет…
Утром урядник рассказал в подробностях, как проходило совещание в больнице. Соломин велел пригласить Трушина в управление, но прежде доктора на пороге кабинета появился мстительно-торжествующий Неякин.
– Я вас не звал. Зачем пожаловали?
– А посмотреть…
– Ну, посмотрели. Что дальше?
– Интересно же, какие сумасшедшие бывают…
–Вон!
Неякин выскочил на улицу.
Блинов, подоспев, просил Соломина не волноваться.
– Стоит ли вам так отчаиваться? Ведь оттого, что назвали сумасшедшим, вы с ума не сойдете… Знаете, в народе-то как говорят? Хоть горшком назови, только в печку не ставь.
Разговор с доктором Соломин начал ровно:
– Как же вы, сударь, человек гуманнейшей профессии, вдруг влезаете в дрязги и топчете самое святое – науку?
Трушин хотел увести разговор в область психиатрии, оперируя вчерашними терминами, но Соломин резко пресек его:
– Вы это где-нибудь рассказывайте! И не старайтесь казаться наивнее, нежели вы есть на самом деле. Мне давно ясна подоплека дела, которому вы себя посвятили. «Сунгари» не пришел, меня не убрали с поста начальника Камчатки, на что вы так надеялись, а вам после сбора мною ясака стало уже невмоготу от моих законных действий. Вы решили не ждать первого парохода. Зачем, если меня можно устранить от дел гораздо раньше: того, как над Камчаткою повеют нежные зефиры. Вот и придумали этот медицинский выверт с сумасшествием.
Соломин вышел из-за стола, встал подле врача.
– Кому служите? – спросил печально. – Заветам клятвы Гиппократа или золотому тельцу, жиреющему в дебрях Камчатки?
– Чего вы меня толкаете?! – заорал Трушин.
Соломин и не думал его толкать. Он сказал:
– Оставим науку, вернемся к законам, которые вы нарушили. Устранение должностного лица ввиду его психической ненормальности следует производить не в теплой компании за выпивкой без запуски, а в официальном порядке в присутствии прокурорского надзора и не менее трех врачей.
– Перестаньте меня толкать! – снова закричал врач. Соломин не толкал его, но теперь грубо отпихнул:
– Убирайся вон, мерзкая тварь… Ты и тебе подобные уже расточили богатства камчатские. Я не удивлюсь, если узнаю, что все вы давно покумились с иностранцами.
Трушин вдруг пошел на него грудью:
– Не тыкай мне, кретин, а то я тоже тыкну!
Соломин схватил со стола тяжелую трехгранную призму судейского зерцала, испещренную поучениями о честности и призывами к гражданской доблести.
– Видит бог, – показал он на икону, – я не пожалею своей карьеры и запущу этой штукой тебе в голову…
– Не посмеешь: зерцало – предмет священный.
– Мне сейчас уже не до святости.
Андрей Петрович потерял над собою контроль.
– Я ненавижу твою пьяную масленую рожу! – сорвался он. – Мне противны все вы… и ты в первую очередь!
Рука поднялась сама по себе, и Трушин был повержен на пол здоровенной оплеухой. Тут же вскочив, эскулап врезал правителю хорошего леща. Началась драка – самая примитивная, истинно русская, когда все средства хороши. Вокруг них летали стулья, со звоном выпало стекло из шкафа. Под ногами кувыркалось судейское зерцало с призывами к честности и гражданской доблести.
Блинов с дежурным казаком едва их растащили. Трушин подхватил с полу шапку, отряхнул ее об колено.
– Мой диагноз правильный, – сказал он. – Ты не просто сумасшедший, ты даже буйно помешанный. Я законы тоже немножко изучил: при наличии безумия у власти светской власть духовная имеет право удалить из города церковные сосуды, дабы их не постигло гнусное осквернение… Пасха-то уже на носу! – рассмеялся Трушин, злорадствуя. – А молиться людям будет негде. Вот тогда я посмотрю, как ты у меня попляшешь…
Мерзавец выкатился на все четыре стороны, а Соломин не выдержал – бурно разрыдался от обиды:
– За что мне все это? Господи, за что?..
Послышался скрип костыля, пришел Жабин.
– Расстригин нанял каюра. А тот за ящик виски и полтысячи рублей взялся доставить полетучку на материк.
– И пусть! Владивосток все равно меня уберет.
– На этот раз, – пояснил прапорщик, – полетучка поедет намного дальше: решили жаловаться на вас в Петербург.
– Кому же? На Галерную?
– Этого я не знаю.
– Ах, как мне все это осточертело!
– Верю… Чем могу вам помочь?
– Да чем же вы, прапорщик, можете помочь мне, если по табели о рангах вы всего-навсего коллежский регистратор, а я как никак все-таки статский советник… выше полковника!
Они еще не ведали, что камчатские «психиатры» отправили кляузу на имя самого Плеве, министра внутренних дел.
Трушин в своих пророчествах оказался прав. Под самую пасху, когда надобно куличи святить и обыватель поневоле впадает в обжорно-молитвенное состояние, духовенство Камчатки всей силой своего церковного авторитета поддержало «научный» авторитет диагноза о сумасшествии Соломина…
Рано утром в комнату ворвался Мишка Сотенный:
– Ой, беда… ну, теперь поехало!
– Да объясни толком, что случилось?
– Сейчас благочинный Нафанаил из собора святые дары на морозище вытащил. Попы уже собак в нарты запрягают. Дьяки святыни грузят, а сами ревут, будто их режут. Народищу собралось – и все тоже воют. Оно же ясно: неосвященные куличи кому жрать охота? Только псам их бросить…
Возникла ситуация, которая нуждается в пояснении для читателя, мало знакомого с законами церкви: удаление церковных святынь из города непременно связано с тем, что духовенство обязано следовать за святынями, а это значило, что храмы Петропавловска остаются без духовного причта.
– Куда же они собрались? – спросил Соломин.
– Говорят, к маяку…
Андрей Петрович, прыгая на одной ноге, с трудом попал другой в штанину брюк. Он быстро одевался, бормоча:
– Интердикт… интердикт… интердикт…
Уряднику показалось, что он и впрямь спятил:
– Вы хоть по-русски-то говорите.
– А я и говорю по-русски. Интердикт – это, Мишенька, штука страшная! Это духовная мера воздействия церкви ради вразумления неугодных ей начальников… Без бога, брат ты мой, как ни крутись, а далеко не ускачешь. Вот и получается, что начальник, то есть я, должен всенародно покаяться, дабы церковь вернулась к исполнению треб духовных.
– Не ходите вы туда – прибить могут!
Урядник тронулся за ним, но Соломин удержал его:
– Не надо. Я сам. Что будет, то будет…
Запыхавшись от бега, он быстро достиг церковной площади, издали слыша вопли и стенания баб, которые поняли, что куличи в этом году предстоит святить на маяке, а туда пока доберешься, все ноги переломаешь и разговляться уже не захочешь. Возле нарт, готовых тронуться в путь, топтались отъезжающие попы в громадных шубах и малахаях. При появлении Соломина на площади стало тихо-тихо.
– Стойте! – заговорил он, подходя ближе к толпе. – Давайте оставим все, как есть. Я знаю, что меня объявили сумасшедшим. Что же, я не стану этого отрицать… пусть так! Впредь я не стану вмешиваться в ваши дела. Если кто из вас придет ко мне с нуждою как к начальнику Камчатки, я приму его как начальник Камчатки. Кто не желает знать меня за начальство, пусть даже не здоровается со мною… Но я прошу, – закончил он, подняв руку, – всех разойтись по домам, а вас, отец благочинный, вернуть божьи дары туда, где они и должны храниться.
Получилось так, что Соломин сам же и подтвердил свое мнимое сумасшествие. Трудно решить – верно ли поступил он. Не будем забывать, что религия еще очень властно заполняла сознание людей, и любое пренебрежение к церкви могло обернуться для Соломина скверно.
Морально опустошенный, он вернулся домой.
– И совсем я вам ни к чему! – такими словами встретила его кухарка Анфиса, покидавшая его.
Началось питание всухомятку. Круг изоляции «сумасшедшего» начальника замкнулся, но в этом кругу еще остались урядник Сотенный, отец и сын Блиновы, близким человеком сделался прапорщик Жабин, а простые горожане даже сочувствовали ему… Теперь надо выждать весны, чтобы покинуть Петропавловск с первым же пароходом и уплыть, не оглядываясь.
Над камчатской юдолью пылили синие вьюги.
ИСПОВЕДЬ ЧЕЛОВЕКА
Обывательские трущобы заносило сугробами, общение становилось затруднительным не только между поселениями, но даже и соседями в городе.
Был один из тягостных вечеров, когда Соломин ходил по комнатам, слушая, как метель стегает в окна. Неожиданно ему показалось, что он слышит отдаленный лай собак… Чу! Возле канцелярии взвизгнули нартовые полозья.
– Кто бы это мог быть?
В сенях хлопнула наружная дверь, но шаги человека были почти бесшумны, мягкие по-кошачьи. В потемках канцелярии чья-то рука долго шарила по стене, отыскивая дверную ручку. На пороге комнаты возникла фигура – сплошной ком мехов, занесенных пластами снега.
Первое, что бросилось в глаза Соломину, так это острые уши волка над головой незнакомца. Из нимба меховой оторочки виднелось лицо – лицо человека, которого Андрей Петрович никогда и нигде не встречал. Это лицо было почти ужасное: темное и жесткое от стужи, а взор пронзительный, даже хищный.
Незнакомец стянул с головы меховой капор с пришитыми к нему волчьими ушами. Потом аккуратно прислонил в угол комнаты тяжелый заиндевелый «бюксфлинт».
– Добрый вам вечер, – произнес он, и голос его оказался удивительно молодым и свежим.
– Здравствуйте, – ответил Соломин.
Андрей Петрович затеплил на столе еще две свечи, чтобы лучше разглядеть незнакомца. Тот сделал шаг вперед, осыпая снег с торбасов, поверх которых, как боевые щитки, были привязаны громадные меховые наголенники, предохранявшие ноги от переломов при падениях с нарт… Он заявил спокойно:
– Я приехал, чтобы вы меня арестовали. Весною прошлого года я имел несчастье застрелить двух человек.
Соломин безо всякой нужды передвинул на столе чернильницу, пальцем помог горячему воску быстрее сбежать со свечи.
– Явинского почтальона?
–Да
– И свою сожительницу?
–Да
– Вы местный траппер Исполатов?
–Да.
Нервными шагами Соломин пересек комнату, взялся за «бюксфлинт», обжегший ему руку ледяным холодом.
– Вот из этого?
– Именно…
Соломин спрятал оружие в канцелярский шкаф.
– Садитесь, – показал он на стул.
– Благодарю.
Последовал четкий кивок головы, а ноги траппера, обутые в промерзлые торбаса, вдруг разом сомкнулись, словно желая вызвать ответный звон невидимых шпор, – и этим жестом Исполатов непроизвольно выдал себя.
– Постойте, вы же… офицер? – догадался Соломин.
Ответ прозвучал даже с вызовом:
– Имел честь быть им.
Очень долго они молчали. Соломин за это время механически разложил на столе десть бумаги, придвинул перо к чернилам.
– Думаю, что составление полицейского протокола не доставит, удовольствия нам обоим. Лучше, если вы изложите обстоятельства убийства своею рукою.
Исполатов стянул с кухлянки хрусткую рубаху из замши и, скомкав, зашвырнул ее в угол. Безо всякого замешательства или волнения он окунул перо в чернильницу.
– Мне будет позволительно писать с двух сторон или же только с одной стороны страницы?
– Это не имеет значения, сударь…
Надсадно царапая тишину, долго скрипело перо. Страницы быстро заполнялись четким, разборчивым почерком. Исполатов сидел вполоборота к Соломину, который обратил внимание на его профиль – резкий профиль, как у римского центуриона. Андрей Петрович подумал, насколько разнообразны бывают русские люди – от добродушного курнофея до пронзительного облика Савонаролы… Закончив писать, Исполатов вздернул пышный рукав кухлянки и посмотрел на часы (блеснуло золото).
– Я не слишком утомил ваше внимание? – спросил он, протягивая Соломину подробное описание убийства. Андрей Петрович бегло перечитал его исповедь.
– Вы не пощадили себя, – заметил он.
– Я и не заслуживаю пощады… от самого себя!
Траппер легко поднялся и, подойдя к окну, продышал на замерзшем стекле круглый глазок.
– Что привлекло там ваше внимание?
– Смотрю, как устроились мои собаки.
– Может, пустить их в сени погреться?
– Упряжке нельзя расслабляться. Я сам не раз спал на снегу и знаю, что это не так уж страшно, тем более для собаки… Не беспокойтесь: завтра утром я откопаю их из-под высоких сугробов, в которых спится лучше, нежели под периной.
Соломин подумал – все ли сделано? Оружие он спрятал, показания записаны самим убийцей… Что дальше?
– Вы с дороги. А у меня, – сказал он, – еще осталось немножко настоящего «мокко». Если угодно, я сварю.
– Не стоит беспокойства, – учтиво поблагодарил траппер. – За эти годы я отвык от кофе.
– Тогда сварю для себя. А вам – чаю.
– Пожалуйста. От чая не откажусь…
В печных трубах уездной канцелярии завывало так, что громыхали вьюшки. За окнами – чернота. Трепетно дымили робкие свечи.
Они сидели за столом.
– Как же это все-таки у вас получилось?
– Это… рок, – глухо отвечал Исполатов.
Соломин поймал себя на грешной мысли, что рад появлению этого человека, разрушившего его постылое одиночество. Сейчас ему было даже неловко перед самим собою за то, что он, блюститель государственной законности, не относится к Исполатову, как к преступнику, а лишь как к милому и приятному собеседнику… Он спросил:
– Простите, а в каком полку вы служили?
– В лейб-гвардии стрелковом батальоне.
– Это батальон императорской фамилии?
– Да, мы квартировали в Царском Селе.
Соломин заинтересовался – насколько справедливы все те легенды, которые ходят об офицерах этого батальона, как о стрелках небывалой меткости.
– Знаете, – отвечал Исполатов, – тут после войны с бурами в Африке англичане на весь мир расхвастались своей меткостью. Тогда слово снайпер и вошло в обиход русского языка. Тут вот у нас в лейб-гвардии стрелковом батальоне все поголовно были отличными снайперами. Но имеющий мускус в кармане не кричит об этом на улице – запах мускуса сам говорит за себя… Не так ли?
Положив на ладонь кусок рафинада, он ударами рукояти ножа ловко раскрошил его на мелкие куски.
– Как же вы оказались на Камчатке?
Вопрос Соломина был, кажется, слишком опрометчив, и траппер ответил не сразу:
– Это тягостная история, сударь. Боюсь, что мой рассказ не доставит вам удовольствия.
Снежная буря куролесила над крышами Петропавловска.
– Не скрою, – сказал Соломин, – вы поставили меня в затруднительное положение. Прошу понять меня правильно: я теперь не знаю, что с вами делать.
– Арестуйте, и это будет самое правильное.
– В том-то и дело, что ваше скромное желание почти неисполнимо. У меня всего четыре казака, и, согласитесь, обременять их, людей занятых и семейных, постоянным несением караула при вашей персоне я не могу… Тюрьмы тоже нет!
Исполатов откровенно рассмеялся:
– Сочувствую вам, сударь, у вас, как говорится, положение хуже губернаторского.
Еще как хуже-то! Вы, наверное, извещены о том, сколь жестоко поступил со мной здешний – цвет общества?
Траппер отозвался с легкой небрежностью:
– Да, кое-что я слышал…
– С тех пор, – горячо подхватил Соломин, – Камчатка живет сама по себе. Стоило мне признать, что диагноз местного врача правилен, как все стало на свои места. Меня никто не тревожит, но и я ни во что не вмешиваюсь.
– Вы не то говорите! – прервал его траппер. – Ничто на свои места не стало. Но если учесть, что торгующей братии на Камчатке раз-два и обчелся, то остальная Камчатка целиком на вашей стороне… Поверьте, я говорю об этом не ради утешения!..
Соломин снова поймал себя на мысли, что невольно испытывает к Исполатову необъяснимую душевную симпатию.
– Скажите, вот вы – охотник, – вы тоже страдали от этой торгующей братии?
– Я? Никогда… Они же меня боятся!
Соломин достал из шкафа бутылку водки.
– Давайте выпьем. Чем черт не шутит, а эта штука иногда отлично снимает напряжение. Только вот с закуской у меня, извините, небогато. Впрочем, однажды в Благовещенске я видел, как заезжие московские артисты запивали водку чаем.
Исполатов вышел на улицу и вернулся с тряпичным свертком. Он развернул его на столе, и Андрей Петрович увидел красиво обжаренный кусок мяса с белыми прожилками жира.
– Баранина?
– Волчатина.
– Вы меня от такого деликатеса избавьте.
– Пищевой консерватизм неоправдан, – поучительно ответил траппер. – Вы попробуйте, и тогда поймете, что мясо волка вкуснее любой баранины. Позвольте, я отрежу своей рукой?
Стаканы сдвинулись (а пурга все бушевала).
– Пока мы еще не выпили, – сказал Соломин, – я хочу сделать вам трезвое предложение. Вот вам комната, смежная с моей, и поживите у меня. А уж весной, когда придет пароход, я арестую вас по всем правилам юридической науки.
– Искренно тронут любезностью. За ваше здоровье?
Выпили и заели водку волчатиной.
– А ведь и в самом деле вкусно…
Исполатов задымил папиросой. Прищурился.
– В ответ на ваше доверие я все-таки расскажу вам, почему я оказался здесь. Прежде Камчатки в моей судьбе был Сахалин. Причем на Сахалине, как вы и сами догадываетесь, я не был путешественником… Хотите выслушать самую банальную историю?
– Если вам не будет тяжело вспоминать.
– Я ничего на собираюсь вспоминать – я собираюсь только рассказывать… Вышел в офицеры. Женился по страстной любви.
Заметьте – первой! Девушка из хорошего петербургского дома. Выпущена из Смольного с отличием. Играла на арфе, танцевала с газовым шарфом и обожала алгебру. А у меня был денщик. И вот однажды я возвращаюсь из офицерского собрания. В спальне я застал ту сцену, которую в романах почему-то принято называть «известным положением»… Что бы вы сделали на моем месте?
– Наверное, поспешил бы удалиться.
– Как все просто у вас! Повернулись и ушли… Не-е-ет, я вынул револьвер.
Выпив водки Исполатов продолжил:
– Тогда был громкий процесс, о котором много шумели в газетах. Кто писал – жертва рока, кто писал – изверг? Дали мне десять лет, и я сказал судьям: «Спасибо». Привезли в Одессу, оттуда морем – на Сахалин. Помню, проплывали волшебные страны, даже не видя их. С берега доносило ароматы цветов, звучала незнакомая музыка. А мы сидели в клетках, как звери, каждый вечер дрались из-за места подальше от зловония параши. Ну-с, прибыли. Каторга. Ничего особенного. Но каторга всегда нуждается в образованных людях. Меня назначили на метеостанцию. Замерял температуру воздуха и направление ветра, хотя никому это не было нужно. Я, поручик лейб-гвардии, сдергивал шапку перед всякими хамло надзирателями…
Исполатов умолк, вертя в пальцах пустой стакан.
– А дальше? – напомнил Соломин.
– Дальше? – переспросил траппер как-то отвлеченно.
– Дальше меня освободили… досрочно, – добавил он торопливо. – А куда деваться? Родные постарались забыть, что я существую. Путь в армию (о гвардии и говорить не приходится!) отрезан. Возвращаться на родину, извините, стыдновато. Ну, и махнул сюда – на Камчатку. Умение стрелять без промаха пригодилось, теперь живу с охоты и даже не беден…
Выслушав его исповедь, Соломин произнес:
– Выходит, у вас такая история случилась вторично? Тогда двух и сейчас опять двое…
Да, получились дуплеты. – Сказав так, Исполатов мрачно дополнил: – Я же говорил вам, – что это – рок!
Было уже полтретьего ночи, когда они, погасив свечи, разошлись по комнатам спать. Каждый чувствовал, что осталось между ними что-то сознательно не договоренное.
Соломин прервал тишину:
– Я забыл вас спросить: где вы были все это время?
– В бухте Раковой – в лепрозории.
– Вот как? Разве вы не боитесь проказы?
– Это надо еще доказать, проказой ли больны те несчастные, что живут в Раковой! Вы, конечно, знаете Трушина? Порою мне кажется – Трушину просто выгодно, чтобы в лепрозории собралось побольше народу. Они там выращивают овощи, ставят силки на птицу, а милый доктор живет с их трудов вроде фараона.
– Надо бы мне съездить в Раковую и разобраться в тамошних безобразиях,
– сказал Соломин. Исполатов ответил ему из потемок:
– Все-таки воздержитесь… не советую.
– Ну, хорошо. Спокойной ночи.
– Спокойной ночи и вам, господин Соломин…
Оба уснули. Было еще совсем темно, когда Исполатова и Соломина разбудил лай собак – кто-то с улицы барабанил в двери.
Камчатку ожидала новость…






