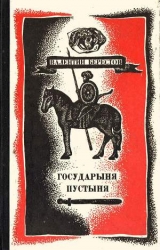
Текст книги "Государыня пустыня"
Автор книги: Валентин Берестов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 20 страниц)
Глава пятая
1
Стоит в пустыне умывальник…
В юности я хотел этой строчкой начать поэму про экспедицию.
Длинная жестяная колода с несколькими язычками, висящая на кольях посреди такыра. Гвоздики для полотенец. Полочки для мыльниц и тюбиков пасты. Мирный символ экспедиционного уюта. Ведь бывало и так, что на тридцать, а то и на полсотни верст от умывальника, сколько ни ищи, никакой другой воды не найдешь. А наш умывальник всегда полон. И выглядит он здесь, я бы сказал, даже предметом роскоши.
Когда снимают лагерь, то одну палатку оставляют в неприкосновенности. В ее тени как ни в чем не бывало дремлет собака. Мы заходим в палатку попить чаю и посидеть перед дорогой. Потом дружно валим ее, сворачиваем и втискиваем в машину. И тогда единственной нетронутой частицей нашего кочевого дома остается умывальник. Стоит он себе среди пустыни один-одинешенек, с розовой мыльницей на полочке, с полотенцем, развевающимся на ветру. И кажется милым, живым существом. Мы оставили его, чтобы умыться после погрузки. Он покидает пустыню последним.
Но до отъезда еще далеко. Теплая ночь. Звезды от самого горизонта. Доливаю воду в умывальник и вижу в нем звезду. Вон над складской палаткой висит ковш Медведицы. А вот приближается чья-то крупная темная фигура. На миг она заслонила нижнюю звездочку моего любимого Козерога. Фигура скользит среди созвездий. Дорога к звездам… В каком-то смысле так можно назвать любую дорогу, уводящую тебя из четырех стен, из электрического сияния города.
Но вернемся к умывальнику. Подходит Лоховиц. На его лице благодушие и нега.
– Да-а… Золото… – мечтательно произносит Лоховиц.
– Золото! – радостно подхватываю я.
– Золото? – Лоховиц недоуменно пожимает плечами.
– Ну, золото, – отвечаю я как можно небрежней.
– Подумаешь, золото! – презрительно фыркает Лоховиц. – Плюем мы на золото!
И мы действительно плюем в разные стороны. Мы поняли друг друга.
Все-таки неловко радоваться золоту, если ты считаешь себя раскопщиком. Слишком уж это совпадает с самыми пошлыми представлениями об археологии. За долгие годы нам просто надоело объяснять и посетителям раскопок и случайным знакомым, что не золото ищем мы в земле, что иной черепок может значить для науки куда больше, чем всякое там золото. А теперь, после новых находок Светланы, приходится еще объяснять это и самим себе. Произведения народного искусства, новые памятники так называемого скифского звериного стиля – вот что она откопала. Будь они бронзовыми, каменными, глиняными, костяными, деревянными, мы радовались бы им не меньше. Ну, блестят они, эти одинаковые кусочки тоненькой красновато-желтой фольги, ну, выглядят они так, будто никаких тысячелетий не было, – вот, собственно, и все! Да-а… Золото…
2
Светлана нашла первого из зверей утром, а к обеду у нее их было уже целых пять.
– Что ж раньше не сказала? – удивился Лоховиц.
– Некому было вытащить меня из могилы. Я попрыгала, попрыгала и осталась.
Всегда улыбающемуся Оразбаю, рабочему Светланы, надоело сидеть на краю ямы в ожидании очередного ведра с землей, он ушел на другой раскоп и присоединился к работающим на транспортере. А Светлана осталась наедине со своими барсами, или львятами, или кошками (мы еще не знали, что это такое).
Все пять фигурок из золотой фольги были совершенно одинаковы и свободно помещались в спичечной коробке. Светлана нашла их в углу около небольшой ямки от столба. Было очень приятно разглядывать фигурки – и каждую в отдельности и особенно все вместе. Выстроившись в ряд, большеголовые малыши куда-то шли величавой львиной поступью. Будь у них гривы, мы бы, конечно, не сомневались, что это львы. Коготки лап и кончики хвостов были выполнены так, что образовывали по краю бляшки свой особенный узор, похожий на письмена. Золото было разных оттенков. На желтом встречались красноватые пятна.
– Ну, молодец, – похвалил Лоховиц, – давай еще. – И ушел вместе со мной на мой курган.
Этот полный человек больше всех в экспедиции любит спорт. Такого болельщика решительно всех видов спорта можно даже назвать спортсменом. Впрочем, отчасти так оно и есть. Никто из нас никогда не играл с Лоховицем в шахматы – это бессмысленно. Лоховиц знает теорию, у него какой-то высокий шахматный разряд, когда-то он стал даже чемпионом Марыйской области. Он разыгрывает партии гроссмейстеров наедине с собой, не пользуясь шахматной доскою. Иногда Лоховиц подсаживался к шахматистам и добродушно, как-то по-отечески наблюдал за их игрой. Наши ходы противоречили всем нормам шахматного искусства, и Лоховица это, наверное, забавляло.
К несчастью для него, в отряде не было ни одного болельщика. Мы предпочитали слушать по радио музыку, а не футбольные репортажи. Я думаю, Лоховиц шел на большие жертвы, когда в час ответственного матча вместе с нами слушал концерт для фортепьяно с оркестром. Впрочем, он любит и музыку.
Ему аккуратно присылали из Москвы бандероли с газетой «Советский спорт». Он не просто читал, а изучал газету, прикидывал в уме шансы различных команд и чемпионов, наших и зарубежных, радовался, огорчался, волновался, строил предположения. Но ему не с кем было поделиться. И уж когда ему становилось совсем невмоготу, Лоховиц шел ко мне.
Я слушал его со всей серьезностью. Лоховиц строил спортивные обзоры обстоятельно и толково. Имена игроков и названия команд каким-то образом проникли в мою память, хотя мои походы на стадион можно сосчитать по пальцам.
В конце концов я научился даже вставлять реплики и задавать вопросы. Я понимал, человек должен поделиться тем, что его волнует. Ведь и Лоховицу, возможно, не всегда было интересно то, чем с ним делился я, но он же меня слушал!
3
В самый разгар беседы пришла Светлана. Ее появление теперь было равносильно сигналу «Свистать всех наверх!». Значит, опять что-то произошло.
– Их уже восемь, – сказала девушка. – Одни лежат лицом вверх, другие лицом вниз.
– Прекрасно! – похвалил Лоховиц. – Теперь давай еще три, чтоб была футбольная команда.
Во второй половине дня Светлана сообщила Лоховицу, что львят не одиннадцать, а двенадцать.
– Все идет нормально! – одобрил Лоховиц. – Одиннадцать футболистов и один запасной игрок.
Но тем дело не кончилось. Светлана снова позвала нас к себе, и мы увидели довольно большую, массивную золотую бляху, не листочек фольги, а настоящее литое золото. Была видна только гладкая изнанка бляхи. Лоховиц поднял ее, повернул в руках. И на нас глянул старый лев с большой гривой, с печальным, почти человеческим ликом. Лев спокойно лежал. Кончик его хвоста и когти могучих лап тоже сливались в одну строчку, образуя красивый узор. Золото переливалось и блестело. И вдруг мальчишеская радость озарила лицо Лоховица.
– Знаете, кто это? – спросил он, указывая на старого льва. – Тренер!
С тех пор у нас в отряде так и говорили: «А где тренер?», «А покажите тренера!»
С появлением «тренера» стало ясно, что двенадцать существ кошачьей породы – не барсы, а львята или львицы, возглавляемые вожаком.
Появление львиного семейства было еще одним свидетельством связей саков со странами Ближнего Востока. Ведь в здешних местах львы никогда не водились.
Вечером мы, как всегда, зажгли костер. Светлана сидела в сторонке и молчала, не отрывая глаз от огня. Я подсел к ней и потихоньку спросил, о чем она думает, глядя на костер.
– Ни о чем, – ответила Светлана, – просто я вижу в нем разные оттенки, такие же, как на моем золоте. Вот желтоватый, а вот красноватый. Правда, похоже?
4
Он появлялся постепенно, и мы не сразу узнали его.
Сначала Светлана расчистила какое-то массивное железное полукольцо. Затем у самой стенки могилы обнаружилась часть очень ветхого деревянного изделия и на нем тоненькая золотая полоска.
Деревянный сосуд с золотой заклепкой, решили мы. Нечто похожее только что нашли наши соседи, раскапывающие другой сакский могильник – Уйгарак. Дерево, как видно, было хорошо обработано и хорошей породы. У него приятный желтоватый тон.
Затем под остатками дерева заметили ржавое железо. Значит, это уже не деревянный сосуд, а скорее всего железный кинжал в деревянных ножнах. Светлана стала его расчищать. Железная полоса с прилипшим к ней деревом постепенно удлинялась: двадцать, тридцать, сорок сантиметров. Кинжал превращался в меч. В те времена, в V веке до нашей эры, у скифов были короткие мечи, которые назывались окинаками. Пятьдесят сантиметров, семьдесят, восемьдесят, а меч не кончался. Вот тебе и окинак!
Метр, метр двадцать, метр тридцать. Мы следили за ростом меча с удивлением. Такие длинные мечи появились в Средней Азии и Восточной Европе гораздо позже. Это было оружие сарматов, которые с его помощью вытеснили скифов.
Рядом с клинком, примерно в середине, лежал короткий узкий четырехгранный стерженек. Стилет, которым приканчивали раненых, решили мы.
В то время я расчищал погребение в своем кургане. По моей просьбе первые несколько движений ножом сделала Светлана. На счастье. Мне удалось найти бронзовую гайку, небольшой бронзовый предмет в виде колокольчика, с отверстием для ремня – часть конской сбруи, маленький наконечник стрелы с большой втулкой.
Оставался последний нерасчищенный уголок, но я уже ни на что не рассчитывал, там лежал тот самый крупнозернистый песок, который ветер нанес в «грабительскую дудку». И вдруг что-то блеснуло под моим ножом. «Золото!» – крикнул я. Тоненький, сложенный вдвое узорный золотой листочек.
Несколько минут мы с моим рабочим Климом Насбергеновым, не отрываясь, смотрели на него. Потом я сказал Климу, чтобы он позвал Лоховица и вместе с ним Светлану, как главную специалистку по золоту.
Лоховиц спустился в могилу и осторожно развернул листок. Похоже на аппликацию. В середине выпуклость, напоминающая стручок перца, края листочка причудливо изрезаны. Тут и там маленькие отверстия, очевидно для ниток. Узорный листочек нашивался на одежду.
Наконец я разглядел в нем орлиную голову, крылья, длинные когти свирепой птицы в момент боя или драки, а одно из отверстий для нитки посчитал глазом.
Только в Москве выяснилось, что узор разгадан неправильно. Нужно было положить листочек набок, и тогда с некоторым трудом можно угадать очертания большой орлиной головы. Выпуклость, похожая на стручок перца, тоже повторяла изображение орлиной головы. Скорее всего то была голова даже не орла, а фантастического существа – грифона. Главный материал у кочевников – кожа. Большинство таких узоров, судя по технике их выполнения, вырезались из кожи. Да и само золото под ударами молотков превращалось в фольгу, то есть в своего рода золотую кожу.
– Итак, ты вышел на второе место по золоту, – заключил Лоховиц.
Светлана вежливо осмотрела мою находку, поздравила меня, но я в глубине души огорчился, что девушка не проявила должного энтузиазма.
– А теперь пойдемте ко мне, – сказала она. Когда дело касалось ее находок, Светлана говорила тихо, но с необычной для нее значительностью и твердостью.
Мы уже привыкли спускаться в могилу, которую раскапывала Светлана. Привычно снимали сапоги, знали, куда нельзя ступать, а где можно и присесть.
Длинный широкий меч вдоль стенки ямы был с одной стороны укрыт бумагой. Светлана подняла бумагу, и сверкнуло золото. Золотой наконечник! Теперь мы видели меч во всем его блеске. Но оказалось, что главное еще впереди.
– Наклонитесь, посмотрите сюда, – шепнула Светлана. И мы увидели, что по обеим сторонам клинка тянутся тонкие золотые нити. Значит, с той стороны, что прилегает к земле, ножны обложены золотом. Мы стояли и во все глаза смотрели на меч, и его оборотная сторона казалась нам такой же таинственной, как некогда обратная сторона Луны: что там, на золотой накладке? Не может быть, чтобы скифы, которые так любили изображать зверей и украшать все предметы, которыми пользовались, не нарисовали на этом золоте хоть что-нибудь!
5
В полдень мы ездим на реку. По древнему руслу Жана-Дарьи пустили воду. Это вода с рисовых полей. И вот перед нами самая настоящая река, только течения в ней не чувствуется, вода останавливается где-то в степи. Кусты, что зеленели в русле бывшей реки, оказавшись в воде, засохли. Отовсюду торчат их ветки. Под водой множество коряг, плавать нужно очень осторожно.
Когда мы подъезжаем к реке, мы всякий раз видим на высохших кустах двух спокойных орлов. Может, они охотятся за рыбой? А может, просто пережидают зной, наслаждаясь прохладой, идущей от воды? Мы приближаемся, и орлы, расправив огромные крылья, улетают.
В воде отражаются прибрежные кусты саксаула и расплывается большое лиловое пятно. Это пышный куст пустынной сирени – тамариска. Повсюду заросли камыша. Его замшевые початки лопаются, и из них летит белый пух.
Мы любим не только плавать, но и просто бродить среди затонувших кустов, в чаще камыша; смотреть, как плещутся рыбы, как спокойно качаются на волнах дикий селезень с уточкой. Рыбы, не стесняясь нашим присутствием, то и дело с шумом выскакивают из воды. Однажды мне удалось увидеть, какой прыжок совершила большая щука. Она взмыла кверху так, что даже хвост ее оказался в воздухе, и с громким плеском шлепнулась в воду.
Нашим шоферам не нужно сочинять рыбацких историй. Они только просят сфотографировать добычу, иначе в Москве никто не поверит.
Щуки, сазаны, жерехи один другого больше ловятся и на блесну, и на живца, и на удочку, и на перемет. По ночам шоферы ставят удочки со звонками. «Длинный – Горину, два длинных и один короткий – Сапронову», – шутят шоферы.
Рыбу мы едим каждый день. С зайчатиной гораздо хуже. Чем лучше снаряжаются охотники, чем великолепнее они выглядят, увешанные патронташами, сумками, с биноклями на груди, тем, как мне кажется, меньше у них шансов на успех.
Зато, когда мы просто едем на реку или с реки, зайцы выскакивают чуть ли не из-под колес. Как все оживляются, каким скифским азартом загораются глаза!
…Дарий, наконец, убедил Иданфирса принять сражение.
Два войска выстроились друг против друга по всем правилам военного искусства тех времен. Вдруг в рядах скифов началось замешательство. Скифы закричали, заулюлюкали, стрелы полетели, кони помчались совсем не туда. Поднялся страшный переполох. Персидский царь приказал узнать его причину. Оказалось, что перед скифским строем пробежал заяц, и сердца охотников не выдержали. И тогда царь персов дал приказ отступать: если скифы способны предаваться забавам перед лицом смертельной опасности, то сражаться с ними бесполезно.
6
У массагетов, которые тоже обитали на этой земле, был странный обычай. Они любили зажигать костры и собирали для них особое топливо – кусты, которые, сгорая, издавали пьянящий запах. С каждой новой охапкой хвороста, брошенной в огонь, массагеты опьянялись все больше и больше и, наконец, начинали петь и плясать вокруг костра.
А может быть, массагеты просто любили костры и никакого особого топлива у них не было? Ведь огонь степного костра с искрами, уносящимися ввысь, опьяняет сам по себе, и сама по себе возникает песня.
С тех пор как Борис зажег свой первый костер, без костра не обходился почти ни один вечер. Сначала у огня мрачно сидел один Борис. Зажигая его, он как бы бросал вызов благоустроенному быту нашего лагеря: электричеству, книгам, радио, кино, вырытым в земле баням, всем этим освещенным изнутри палаткам, где нам жилось так уютно и просторно.
Борис боялся одного: вдруг, когда он прибудет на место назначения, его сделают не изыскателем, а эксплуатационником или ремонтником? Только дороги, вернее – отсутствие таковых, костры и битком набитая одна-единственная палатка – такая жизнь ему нравилась больше всего. И никаких бань!
Мы со своими раскопками были для него чем-то вроде прозаических эксплуатационников.
Постепенно и мы потянулись на его огонек, стали петь свои песни, а потом заглянули и в тетрадь с туристскими песнями, которую привез с собой Борис. Мы отыскали глубокую котловину в песках и проводили там каждый вечер.
Я знаю их, эти туристские песни. Я и сам ходил с туристами по Подмосковью. Туристы пели всю ночь. Пели, приготовив на костре обед, пели, таща рюкзаки, пели в вагоне электрички. Все это были песни про то, как хорошо быть туристом, как весело, как интересно ходить по неведомым тропам, ночевать в тайге, когда над головой горит зеленая звезда – звезда романтики.
Я тоже когда-то увлекался той самой романтикой дальних дорог, неизведанных троп. Но теперь меня забавляет восторг путешественника перед самим собой, перед своими дорогами. Такая романтика немножко набила мне оскомину. Меня ведет в пустыню какое-то иное чувство.
Думаю, что это же чувство манит в дикие места и участников экспедиций, и строителей, и изыскателей, и даже тех же туристов, – чувство, близкое тому, что испытывает человек, попадая в места, где он родился и провел детство. Но только речь идет о детстве человечества.
Пещеры и навесы скал, землянки и шалаши – вот где человек провел свое детство. Безвестные тропы в лесах и пустынях были его первыми дорогами, а костры – первыми домашними очагами. Первобытный лес – его детский сад, а пески пустыни заменяли ему тот песочек, которым играют дети.
Многим знакомо ощущение уюта у походных костров, под звездами в ночной степи, среди дикой природы. И может быть, смутные, неосознанные воспоминания детства человечества пробуждаются в нас, когда мы глядим в огонь костров.
А может, я просто привык к такой жизни. Просто чувствую себя здесь как дома.
Глава шестая
1
Обеденный перерыв мы проводили на реке, вечера – у радиоприемника или у костра. Ночи становились холодными, и постепенно радиослушатели один за другим уходили в свои палатки, чтобы надеть полушубки. Котенок, который во время обеда, изнемогая от жары, валялся у входа в столовую, теперь ложился за приемником, согреваясь теплом, идущим от радиоламп.
Человеку нужно много музыки. Во всяком случае, люди, когда им удалось вырвать у природы какое-то, пусть небольшое, благосостояние, устроили жизнь так, что каждое ее событие, будь то свадьба, пиршество, возвращение с работы и даже война, сопровождалось музыкой. Первые сказки, первые стихи не рассказывались, а пелись. Бесконечные песни пел одинокий всадник в седле, пел про то, что видел вокруг себя, пел охотник в челне, пел караванщик на верблюде, пели женщины за прялкой.
Никогда я не пел и не слушал музыки столько, сколько в экспедиции. Мы пели в машинах, отправляясь на работу или, наоборот, возвращаясь с работы, пели в душе, пели у костров, насвистывали любимые мелодии перед сном в палатке. Мы с Оськиным, просыпаясь в воскресенье, пели прямо в спальных мешках.
Но громче всего, веселее всего пелось в те субботние вечера, когда мы выезжали в гости к нашим товарищам на Уйгарак. Мы с Оськиным обычно оставались там ночевать и заранее брали раскладушки. Тридцать километров по степи, по саксауловому и тамарисковому лесу, по гладким светлым такырам.
В полдень пространства такыров начинали сверкать, как вода. В них отражались кусты, теперь они казались аллеями, рощами. Студент Королев, увидев этот феномен из машины, произнес фразу, которую мы высоко оценили: «Мираж – очковтирательство пустыни».
И вот, наконец, перед глазами возникал высокий холм, где виднелись холмики отвалов, похожие на муравейники, а на самом его мысу, среди чуть заметных насыпей, вставал огромный уйгаракский курган, равного которому в здешних местах не было.
На гладком такыре уютно, компактно располагался лагерь. Нас ожидали. У одного из уйгаракцев была карта звездного неба, и я каждую субботу, отправляясь в гости, думал провести вечер так, чтобы получше познакомиться с августовскими звездами. И всякий раз забывал об этом намерении.
Мы сидели в палатке и предавались воспоминаниям: начальник отряда Ольга Вишневская, наш композитор Рюрик Садоков, Софья Андреевна Трудновская и я. Четверых «старых хорезмийцев» вполне достаточно, чтобы предаваться воспоминаниям, ни разу не повторяясь, недели две, а то и месяц.
На складном столике появлялось вино. Мы поднимали стаканы за здоровье всех присутствующих и пели. Иногда мы пели до трех часов ночи.
Больше всех любила песни сама Ольга. Однажды она вместе с нами поехала на Тагискен. Мы сидели на шоферском ящике в кузове, у нас был тематический концерт: песни гражданской войны. А Ольга ехала в кабине. Вдруг машина остановилась.
– Что там стряслось?
– Ничего, – сердито сказала Ольга, – просто я хочу спеть эту песню вместе с вами.
И каждый раз, бывая на Уйгараке, мы восхищались находками наших товарищей. Правда, золота там пока не было, курганы тоже были ограблены, но зато какие сосуды, какой орнамент, какие бронзовые бляшки, украшавшие конскую сбрую! Тут и смешная головка кабана, и львы, и лошади, и очень много грифонов, и большие бляхи, увенчанные головами барсов, и, наконец, кольцо с гибкой пантерой, ловящей собственный хвост.
А в женских погребениях часто встречались вытянутые каменные алтари. Небольшие, тяжелые, хорошо отшлифованные. Один алтарь был особенно красив. Он был сделан в форме палитры, а в углублении виднелись следы красок.
2
Громче всех пела по дороге на работу Аня Леонова: она все-таки нашла погребальную камеру, ограбленную не на девять десятых, а всего наполовину. Череп, часть ребер и позвонков лежали в беспорядке, сваленные грабителями в кучу. Но зато прекрасно сохранились следы камышовой подстилки, на которой лежал скелет. Кости ног и правая половина костяка были на своих местах.
Вглядываясь сверху в плетения циновки, Лоховиц заметил на ней след большого предмета, вверху круглого, а внизу заостренного, – след щита, унесенного грабителями.
Если в Светланином кургане блестело золото, то тут зеленела бронза. Двуперые стрелы, как будто нарочно оставленные для датировки, указывали: курган относится к VII веку до нашей эры. Вещи, не взятые грабителями, сохранились в двух комплектах: пара длинных плоских бронзовых ножей, удила, пара бронзовых пуговиц, пара маленьких бляшек и, наконец, пара больших фигурных пряжек с красивыми прорезями. Пряжки лежали «лицом вниз», и Аня не решалась даже на минуту приподнять их, чтобы посмотреть на лицевую сторону. За нее это сделал Лоховиц.
Одну за другой он поднял тяжелые резные пряжки. Узор с лицевой стороны был выпуклый: очень изящный орнамент. Красота скифских узоров, как я уже писал, бросается в глаза раньше, чем угадываешь, что же на них изображено.
И вдруг открытие: да это же головы коней, великолепные головы, смотрящие в разные стороны! Две головы на одном теле. Головы соединены тоненькой фигурной дужкой, и кажется, что кони мчатся, головы вразлет, и что за ними виднеется дуга колесницы. (Впрочем, последнее показалось одному мне.)
– Ну, – спросил Лоховиц, – что скажешь? Ведь ты у нас был специалистом по искусству.
Я вспомнил, что узоры точно такой же формы: две конские головы, смотрящие в разные стороны, – до сих пор встречаются на русских полотенцах. Жаль, не было под рукой книги старого археолога Городцова, который заметил и доказал, что многие мотивы скифского искусства как бы перешли по наследству в прикладное искусство русского народа.
И в то же время Анины находки чем-то были близки произведениям «звериного стиля», найденным в Сибири.
– Интересно, что скажет Сергей Павлович? – задумался Лоховиц. Я предположил, что, увидев эти находки, Толстов прежде всего скажет: «Батюшки!»
Впоследствии выяснилось, что я ошибся: Толстов сказал: «Мамочка ро́дная!»
3
Светлана продолжала расчищать погребение. На этот раз девушка нашла полсотни слипшихся в один пучок бронзовых наконечников стрел. Были видны следы истлевших древков. Светлана вооружилась скальпелем и маленькими кисточками. Колчан!
От скелета сохранились кости ноги. Только они лежали в порядке, остальное свалено в кучу.
Ноги согнуты в коленях и образуют ромб. Что это? Кривые ноги кавалериста, всю жизнь не слезавшего с коня, или поза, предусмотренная обрядом и обозначавшая, что похороненный здесь воин направляется в царство теней верхом на воображаемом коне?
Справа у ног лежал большой сосуд, расплющенный от тяжести земли и прилипший к дну ямы. А в углу Светлана расчистила кости какого-то животного. Видимо, родичи снабдили покойного водой или вином и солидным куском мяса. От этих двух предметов веяло сказкой. Хотя в могилу, наверное, поставили сосуд с настоящей водой и положили кусок настоящего мяса, но люди верили, что обитателю страны теней хватит этой воды и этого мяса. Сосуд стал вечным. Вода или вино, наполнявшие его, не иссякнут никогда. А на костях животного должно было вечно нарастать свежее мясо.
Скелет лежал чуть наискосок, головою на запад. И ямки от столбов, и ноги ромбом, и диагональное положение костяка, и, наконец, вещи, положенные рядом с ним, – все это удивительно напоминало погребение в большом кургане, раскопанном в прошлом году, – погребение, совершенное по роксоланскому обряду. Не хватало лишь одной существенной детали – дромоса.
Мы с Оськиным в своих курганах раскопали эти узкие коридорчики, ведущие в могилу с юга или с юго-востока. Но южная стенка погребальной камеры в Светланином кургане была глухой.
И тут Лоховиц заметил, что рваный западный край могилы, видимо, не разрушен грабителями. Светло-сиреневые следы истлевшего тростинка шли дальше. Здесь тоже оказался дромос, он вел на закат, и мне показалось, что это не случайно. Именно так и должен был располагаться дромос, найденный в Светланином кургане.
Расчищая погребение, вы оставляете вещи в том же порядке, в каком они были положены в древности, и ничего, кроме того, что когда-то положили люди, вы найти не можете. Картина, которая постепенно открывается перед вами, так сказать, не зависит от вашей воли, от вашего желания, от вашей мечты. Более того: иногда не вы, а кто-то другой спустя много лет сумеет точно определить, что же эта картина означает. И все-таки каким-то образом вы вместе с товарищами, которые наблюдают за вашей работой, в глубине души верите, что именно вы все это и создаете и что усилием воли, силою мечты вы можете вызвать на свет божий нечто такое, что перед другим, будь он на вашем месте, не появилось бы. У вас возникает даже авторское самолюбие, вы ревниво заглядываете в лица тех, кому показываете свои находки, – видят ли они то, что увидели вы? Передается ли им ваше волнение? Хотя, повторяю, любой на вашем месте нашел бы то же самое.
4
Теперь Светлана каждый раз брала с собой фляжку со спиртом. То и дело она разводила клей в стеклянной банке. Она терпеливо пропитывала клеем и меч, и пачку стрел, и следы истлевших древков, и уложенные ромбом кости ног, и каждую косточку в бесформенной груде, увенчанной черепом.
Могила пропахла спиртом. Лоховиц шутил, что туда нельзя ходить без соленого огурца. Клей впитывался в кости, в бронзу, в землю, в железо и истлевшее дерево. Запах емшана и пыли смешивался с приятным запахом столярной мастерской.
Нижняя часть стенки ямы и ее дно были зелеными, и на этом фоне особенно четко проступали бережно расчищенные и закрепленные вещи.
Иногда мы приходили к Светлане просто так, посидеть и полюбоваться.
– Заходите, – любезно приглашала хозяйка. Мы спускались. Хозяйка продолжала пропитывать клеем то меч, то колчан и улыбалась, видя, что мы по-прежнему взволнованы и очарованы той картиной, которую она создала своими руками.
Иногда мы пытались угадать, глядя на пустующую часть погребальной камеры, что же унесли грабители. Слева лежит колчан, а что лежало справа? Наверное, тут были и богатырский лук в специальном чехле, и щит, может быть, украшенный дорогими бляхами, и скифский медный котел с фигурками животных по краю.
На голове у воина, конечно, был шлем, на шее – золотая гривна с фигурками животных, на груди – железный панцирь, тоже, должно быть, украшенный какими-нибудь золотыми пластинками. И уж, конечно, удила и всевозможные бляшки от конской сбруи.
Эти бронзовые бляшки грабителей, как правило, не интересовали, они были найдены в Анином кургане и во многих курганах на Уйгараке. Согласно обряду их обычно клали в ноги.
Но в этом кургане все было иначе. В ноги покойнику был положен меч. И, как уже сказано, не простой скифский окинак, а великанский меч, самый длинный из мечей того времени, известных историкам оружия.
По величине бедренной и берцовых костей мы пытались определить, какого роста был человек, лежащий в кургане. Совсем не великан. Рост у него был примерно метр семьдесят, то есть воин был всего на тридцать сантиметров выше своего меча, и, значит, пользоваться мечом он мог, только сидя верхом на коне. Конь делал его великаном и богатырем. Наверное, скиф выхватывал меч и держался за рукоятку двумя руками, ибо одной рукой такой меч не вынешь и не удержишь.
5
Когда археологи находят что-либо необычное, то у них невольно возникает соблазн объяснить это необычное, так сказать, с привлечением сверхъестественных сил: а не мог ли меч предназначаться для ритуальных целей, то есть служить не человеку, а богам?
Как пишет Лукиан, у скифов были два противостоящих друг другу бога: бог жизни – ветер, разносящий дождевые облака и цветочную пыльцу, вздымающий волны, бьющий в лицо всаднику, когда он на полном скаку мчится по степи, и меч – бог смерти.
Обычно для поклонения выбирался древний, заслуженный меч, уже отслуживший свой век. Скифы устанавливали его на горе хвороста. По мере того как хворост проседал, скифы втаскивали на гору все новые и новые вязанки, и таким образом пьедестал для божества оставался неизменными и даже рос.
Обряд, связанный с поклонением мечу, был прост и страшен: на лезвие меча лили свежую кровь убитых врагов. Ржавеющее божество требовало все новых и новых жертв.
И еще одно назначение было у меча. Когда друзья хотели, чтобы их дружба сохранилась до конца дней и стала братством, они совершали обряд побратимства. В большую чашу наливали вино, потом побратимы делали надрезы на руках и смешивали в вине свою кровь, после чего в ту же чашу погружали меч, стрелы, секиру и копье. Вино, смешанное с кровью и освященное оружием, делало друзей братьями.
Но, зная о кровавых обрядах скифов, зная об их войнах и грабежах, о человеческих жертвоприношениях, зная, что они коллекционировали скальпы своих врагов и отделывали золотом их черепа, превращенные в чаши, извлекая из земли вещественные свидетельства этого, мы не испытывали к скифам ни отвращения, ни ужаса и не собирались их осуждать. Ведь они не ведали, что творили. Они, по существу, даже не знали, что такое смерть, не представляли себе истинную цену человеческой жизни. Смерть в сражении была для них залогом вечной счастливой жизни в стране теней. И скифы, наверное, больше всего боялись не погибнуть, а остаться непогребенными, остаться без заботливо уложенных родичами вещей, которые должны были служить им в вечной жизни.








