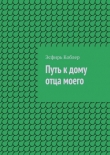Текст книги "Портрет моего отца"
Автор книги: Вадим Трунин
Жанр:
Киносценарии
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц)
ВАДИМ ВАСИЛЬЕВИЧ ТРУНИН (родился в 1935 году) окончил Литературный институт им. М. Горького. По сценариям Вадима Трунина поставлен ряд художественных фильмов на разных киностудиях страны. Его перу принадлежат сценарии фильмов, посвященных военно-патриотической теме: «Это было в разведке», «Белорусский вокзал», «Юнга Северного флота», «Единственная дорога», «Вернемся осенью», «Через Гоби и Хинган». Вклад В. Трунина в развитие военно-патриотической темы в кино отмечен Золотой медалью им. А. П. Довженко. В. Трунин – Заслуженный деятель искусств РСФСР.
Сценарий В. Трунина «Портрет моего отца» удостоен первой премии на конкурсе киносценариев о Сибири и Дальнем Востоке. Сценарий готовится к постановке на киностудии «Ленфильм».


В ночь по приезде ему приснился странный сон. Нехороший сон. Сначала все было хорошо. Он шел по тайге с отцом. Отец чуть впереди, широкоплечий, в тулупчике и малахае, с ружьем, шагал, не оглядываясь, только торопил иногда, махнув рукой. Не отставай, сынок, не отставай! И он шел за ним. Была солнечная светлая осень. Листья шуршали под ногами, когда переходили овраги. Он шел за отцом долго и все хотел его обогнать, чтобы заглянуть в лицо, но так и не мог почему-то. И все равно на сердце было хорошо, как никогда. Но потом вдруг откуда-то взялось болото, над которым висел клочковатый туман, и отец зашагал напрямик через это болото, а он шагнул несколько раз и увяз: сначала по колено, а потом провалился по пояс. Стал кричать: «Отец! Папа! Помоги!», но он будто не слышал, что ли? Ушел вперед, не оглядываясь, и скрылся в тумане. Тут ему совсем плохо стало, на этом проснулся. Все лицо в слезах и подушка мокрая. Вот ерунда какая…
За окошками была еще ночь. Рогатый месяц висел над куполом церкви, и серебрился на крыше снег.
В комнате было темно, только в углу чуть фосфоресцировал экран телевизора.
Он встал с кровати, прошлепал босиком в переднюю, зачерпнул воды из ведра, напился. Услышал, как мать вздохнула на своей половине, заскрипели пружины.
– Ты чего? – спросила она. – Рано еще.
– Ладно, спи. Я пойду сам в школе печи растоплю. Полы ты вчера помыла, сегодня и так сойдет. Сон я видел чудной.
– Какой?
– Да ладно, мам.
– Женился бы ты, что ли?
Школа была недалеко. Но морозец все равно успел прихватить по дороге. Знатный был в это утро морозец. Снег скрипел под ногами так громко, что звенело в ушах, и слышно было далеко-далеко. На другом конце деревни бадейка о стены колодца звякнула, а за рекой, вдоль леса, медленно тянулись возы с сеном, хорошо видные в свете луны, и было слышно, как скрипели полозья и переговаривались возчики. Во многих домах уже тепло светились окошки и синие дымки из труб ровными столбиками тянулись к небу.
Он набрал из поленницы большую охапку дров, вошел в школу, быстро растопил одну печку, другую, а когда разжег последнюю, сел около нее и стал смотреть на огонь.
И снова отчетливо вспомнился сегодняшний сон. Особенно этот последний кусок: спина отца, лица которого он так и не увидел, болото, туман. У него снова защекотало в носу и слезы навернулись на глаза. Тихо выругался: «черт», подбросил поленьев в огонь.
Он смотрел на пустующий темный класс, старенькие парты, таблицы па стенах. Все было таким же, как пятнадцать лет назад, когда бабушка впервые привела его в этот класс. И портреты на стенах были те же: маленький Ленин, улыбающийся Гагарин, порывистый Пушкин-лицеист и Лев Толстой, сердито хмурящий брови.
Он помнил тридцать пар мальчишечьих и девчоночьих глаз, рассматривающих его, синие ясные глаза молодой учительницы. Ему хотелось убежать, по бабушка крепко держала за руку.
На плечи учительницы было наброшено пальто, ткнул указательным пальцем в сторону последней парты, за которой сидел вихрастый мальчишка.
– Ну вот, – удовлетворенно сказала учительница – значит, язык у нас все-таки есть. Садись, садись сюда. – Похлопала она по третьей парте, повернулась и пошла к своему столу, но когда обернулась к классу, то увидела, что новый ученик спокойненько и по-деловому устраивается за последней партой, а вихрастый мальчишка сидит на самом краешке и боязливо косится на него.
– Итак, дети, продолжим. Буквы делятся на гласные и согласные.
Бабушка, уже растопившая печку, обернулась к внуку и ободряюще улыбнулась ему…
Огонь в печи разгорелся, поленья весело потрескивали, он поворошил их немного, поднялся и подошел к окну, за которым все еще было темно. И снова вспомнилось детство…
Яркий весенний день. Голенастая девчонка, бегущая через школьный двор прямо к раскрытому окну. Она перегнулась и крикнула в класс:
– Коля, Бурлаков! Там мамка твоя приехала?
– Бурлаков, – сказала учительница. – Расскажи, что ты знаешь о вулканах.
Это уже было в классе третьем, наверное. Коля Бурлаков заметно вытянулся. Руки и ноги его торчали из прошлогодней формы. Вместо ответа он резко вскочил, грохнув крышкой парты, выпрыгнул в открытое окно и помчался через двор, только пятки сверкали.
– Бурлаков! – кричала вслед учительница. – Бурлаков! Вернись! Ну, ничего, дрянной мальчишка, я найду на тебя управу.
Он проскочил мимо женщин, стоявших около калитки, влетел на ступени крыльца, рванул двери сеней и мимо расступившихся перед ним соседок вбежал в горницу и сразу увидел мать, счастливо улыбающуюся ему, прижался к ней, спрятал лицо на груди и затих. Мать целовала
– Почему же вы привели его только сейчас, а не первого сентября? – строго спросила учительница.
– Да уж так, – смущенно отвечала бабушка. – Ну что ж теперь делать? А чего ж это у вас так холодно-то?
– Да вот – тетя Нюся заболела.
– Я сейчас, – сказала бабушка, отпустила руку мальчика, которого привела с собой, и исчезла.
Он остался один и нахохлился, как воробушек.
– Ну, как тебя зовут? – спросила учительница.
Он молчал, и за него ответила девочка с первой парты:
– Колька его зовут. Бурлаков.
– Так, – сказала учительница. – Насколько я понимаю, тебя привела в школу бабушка. А где твои родители? Ну, ты что, язык проглотил?
И снова за него ответила девочка с первой парты:
– Мамка его здесь не живет. Только приезжает из города. Вся такая красивая…
– Так, – сказала учительница.
А вихрастый мальчишка с последней парты добавил:
– А батьки у него нету. И не было никогда.
– Я не совсем понимаю, – сказала учительница.
Но тут вошла бабушка с дровами, грохнула ими об пол и сказала:
– Сейчас будет тепло. Ты учи, учи их, милая, а если чего непонятно будет, ты у меня спроси, я отвечу.
– Ну что ж, Бурлаков, проходи, садись. Вот сюда, – показала учительница на свободное место за третьей партой.
Но Коля Бурлаков исподлобья посмотрел па нее и спросил:
– А можно мне сесть вон туда? – его, гладила стриженую голову и плакала. Потом она отстранила сына и сказала, шмыгнув носом:
– Ну-ка, дай я на тебя посмотрю. Вырос-то как. Мама, он скоро выше меня будет.
– Будет, будет, – ворчала бабушка.
– Ну неужели нельзя ему было новую куртку купить? Или хотя бы брюки надставить?
– Купило у нас притупилось, – сказала бабушка.
– А ну-ка, снимай с себя это старье, – сказала мама н раскрыла чемодан.
В горнице, кроме бабушки и мамы, было еще человек, наверное, десять. Две-три старухи и ровесницы матери. Мать в то время была еще молодой, красивой, и, несмотря на свой малый рост и хрупкость, сильной, что видно было хотя бы потому, с какой легкостью она подняла и поставила на стол тяжелый чемодан.
Соседок будто кто-то толкнул к чемодану, но посмотрели друг на друга и отошли, а мать, как фокусник, стала вынимать одну вещь за другой, небрежно комментируя:
– Японские. В коопе у нас продавались свободно. – Она достала блестящую нейлоновую курточку и ботинки на толстой подошве, толстый вязаный свитер, шапку, ярко-зеленый портфель, похоже, что с книгами. – Вот… Ну-ка, давай, давай, переодевайся быстренько, Коля.
Колю недолго пришлось уговаривать. Скинул с себя осточертевшее рунье, натянул новенькие штаны, рубашку, ботинки надел, курточку и стал перед матерью. Кто-то даже ахнул. Откуда что взялось: и стать, и осанка. Глазенки светились таким неподдельным счастьем!
– Ишь ты.
– Смотри, прямо парень.
– От горшка два вершка, а поди ж ты.
– Ну? – с гордостью посмотрела на соседок мать. – Каков у меня сынок?
– Ха-арош!
А бабушка, вынимая из портфеля книжки, ворчала:
– Как ты еще угадала размер? Книжки-то привезла для второго класса, а он уже третий кончает.
– Ладно, мама, купим другие книжки. Она все доставала из бездонного чемодана: коробку «Конструктор», шарф, носки, перчатки. Вдруг вынула большой пуховый платок, развернула и набросила бабушке на плечи.
– А это вам, мама, оренбургский, чистый пух.
У бабушки подбородок затрясся, губы поджались и, сама не ведая как, оказалась она перед зеркалом. Но сказала сдержанно:
– Что ж… спасибо. – Подошла и неловко чмокнула дочку в щеку.
Соседки примолкли. Скучновато нм стало быть зрителями на этом празднике. Одна уже направилась к дверям:
– Ох, засиделась я на радостях-то, а делов еще…
– Катюш! – остановила ее мать. – Подожди. – Вынула из чемодана яркую кофточку: – Вот. Ты, по-моему, такую хотела.
– Ой, – засветилась Катюша улыбкой. – Такую, точно… – Приложила кофточку к себе. – Сколько я тебе за нее должна?
– Не говори глупостей. Ничего ты мне не должна.
– Ну, Наташа, дай тебе бог.
А мать снова, как фокусник, стала доставать из чемодана платочки, бусы, чулки, коробочки с брошками…
– Саня, это тебе. Аннушка… Это вам, баба Нина. Оля, а ну-ка, примерь! Шурка, держи! А это твоему мужику лезвия.
Никто без подарка не остался – все были довольны. Даже беззубая бабка Дуня щурилась от удовольствия, примеряя теплые домашние тапочки на меху.
А мать сидела среди этого веселого тарарама и счастливо улыбалась.
Но тут вошла учительница.
Коля, уже курочивший с приятелем коробку «конструктора», шмыгнул за спинку кровати.
Учительница строго всех оглядела в спросила:
– Кто здесь будет мама Коли Бурлакова?
– Я, – сказала мама.
– Мне надо с вами поговорить.
– А вы Колина учительница? Я сразу так и подумала. Проходите, садитесь, пожалуйста. Как хорошо, что вы к нам сегодня зашли. – Она повернулась к своему волшебному чемодану, и в руках у нес оказалось что-то вроде плоской коробки конфет. – Вот, возьмите на память.
– Да что вы! Зачем?
– У нас такой порядок: кто приезжает из города – привозит подарки. От дедов еще осталось, – говорила мать, разворачивая бумагу и освобождая от нее роскошный альбом с репродукциями Дрезденской галереи. – Вот, это для вас.
Руки учительницы дрогнули, она взяла альбом, раскрыла.
– Господи, какая прелесть! Но я не могу.
– Да что вы! Этих альбомов у нас в коопе! Москвичи какие-то приезжали, охали-ахали, нахватали столько, что и унести не смогли. Я и подумала, для вас, наверное, интересно будет.
– Да, спасибо, – сказала, вздохнув, учительница, понявшая, что не в силах выпустить этот альбом из рук.
– Ну, как там мой Николай? – спросила мама. – Не очень хулиганит?
– Да бывает, конечно.
– Вы с ним построже, построже. А то бабушка ему дает потачку, балует, а у меня не всегда бывает возможность за ним приглядеть. Коля! Сынок!
– Угу, – сказала бабушка, – сейчас он, дожидается. Э-эх, воспитатели.
Прошло какое-то время, и однажды на уроке учительница рассказывала:
– Ваше село, ребята, очень старинное. В документах упоминается с конца семнадцатого века, но есть легенда, что основал его один из казаков Ермака, которого звали Мартемьяном. Отсюда и название села – Мартемьяново. Земля здесь оказалась плодородной, климат – подходящим. Отроги Саянского хребта прикрывают эту долину от северных ветров. С местными племенами кочевников-хакассов русские быстро нашли общий язык, торговали, меняли хлеб на меха и мясо. В общем, жили дружно. Саянский хребет отрезал наше село не только от холодных ветров. На всю зиму, то есть почти на полгода, оно оказывалось полностью отрезанным от остального мира… Вертолетов и тракторов, как вы знаете, тогда и в помине не было… Бурлаков, не вертись! Царское правительство приняло во внимание это обстоятельство…
– Что не было тракторов и вертолетов? – спросил Коля.
– Не умничай, Бурлаков, ты прекрасно все понял. Царское правительство учло оторванность села Мартемьяпова от внешнего мира и превратило его в одно из мест ссылки неугодных ему людей… Бурлаков, сколько раз можно тебя просить? Не вертись, ты мешаешь вести урок.
Тем временем в классе шла скрытая война. Между друзьями Коли Бурлакова и сторонниками вихрастого паренька велась активная перестрелка из маленьких рогаток тугими бумажными жгутиками. Рогатки Бурлакова и его товарищей были сделаны из деталей «конструктора», у их противников – самоделки из проволоки.
– Сюда ссылались, – продолжала учительница, – дворяне-декабристы и бунтовавшие крестьяне, народники из разночинце» и рабочие из первых марксистских кружков России… Казаки и первопоселенцы испокон веку селились на высоком берегу, на лучших землях, и назывался этот берег Слободой. А ссыльным отводили место за рекой, где надо было самим корчевать лес. С давних пор между слободскими и зареченскими шла вражда, конец которой был положен лишь в начале тридцатых годов, с окончательной победой коллективизации…
И в это время шальная пулька все-таки попала в нее и стеганула довольно больно.
– Так. Кто это сделал? – спросила учительница. – Ну? Кто? Не хватает мужества сознаться? Где же ваш хваленый сибирский характер? А?
Вихрастый поднялся и сказал, глядя в пол:
– Я. Нечаянно.
– Так, Горбатов…
Но тут вскочил, грохнув крышкой парты, Коля:
– Он врет! Это я стрельнул!
– Так…
– Сам ты врешь! – крикнул вихрастый. – Все зареченские вруны и горлодеры! Не верьте ему!
– А слободские – куркули и жулики, – сказал Коля. – Я сказал – я стрельнул, значит, я!
– Так, – сказала учительница, опустилась на стул н взялась руками за голову. – Что они кричат? Что они кричат, а? Варвары. Чему я вас здесь учу? Что я только сейчас говорила? – Она вздохнула. – Завтра оба придете с родителями.
Коля Бурлаков сел, но вихрастый Горбатов остался стоять.
– Это несправедливо, – сказал он.
– Почему?
– Потому что батька меня высекет, как Сидорову козу, а его только бабка выругает, да и то потом мамашка пожалеет и конфетку даст. Он потому и смелый такой… Николай Натальевич.
– Ах ты гад! – Коля кинулся на него, и началась всеобщая свалка.
– Бей слободу!
– Бей зареченских!
Домой он пришел в хорошеньком виде: с разбитым носом, с заплывшим глазом, а главное, в порванной куртку и разодранных штанах. Вся обнова пропала.
Мать с бабкой в это время как раз огород копали. Он хотел проскочить незаметно, но мать его окликнула:
– Коля, а ну-ка иди сюда!
– Господи, боже мой! – заохала бабка. – Опять?
– Коленька, сыночек, что же это? Кто ж тебя так?
Коля молчал, а бабка начала уже расходиться:
– Ну разве ж можно так, ирод ты окаянный? Ведь только что новое все на тебя надели. Где же па тебя напасешься-то, в чем же ты теперь пойдешь? А?! Паразит ты проклятый. Я-то думала, тебе еще на будущий год хватит.
– Подождите, мама. Коля, кто тебя избил?
– Со слободскими опять, небось, дрались? Ну, что молчишь, внучек? С Лешкой Горбатовым дрался? С Лешкой, наверное, с кем же еще!
Коля упрямо молчал.
– Ну ладно, – сказала мама.
Воткнула в землю лопату, подняла телогрейку и, натягивая ее па ходу, зашагала к калитке.
– Наташа! – позвала ее испуганно бабка. – Наташа, ты куда? Постой. Ах ты господи, из-за тебя окаянного, – дала подзатыльник внуку, – как бы до греха не дошло.
Бросила лопату и торопливо засеменила следом за дочерью.
Коля огородами тоже за ними. Видел, как мать широким шагом, не оглядываясь, перешла через мост над вздувшейся желтой рекой и стала подниматься к слободе. За ней, оскальзываясь, поспешала бабушка.
Коля опередил их, спрыгнул с забора во двор Горбатовых и сразу увидел Лешку, который умывался у крыльца, сестра ему из кружки сливала. Увидев Кольку, она тихо пискнула, а Лешка выпрямился и, косо глядя единственным незаплывшим глазом, сжал кулаки.
– Леха, тикай! – сказал Коля. – Мамка моя сюда идет.
Они как раз успели спрятаться за угол сарая, когда мать ногой распахнула калитку. Сквозь щели видели, как навстречу ей вышла с крыльца мать Лешки – Катюша, в той самой кофточке, которую недавно ей подарила Наталья.
– Ну, – спросила Катюша, – что скажешь, подружка?
– Я вот тебе что скажу… – Она задохнулась даже. Коля никогда такой не видел мать: глаза побелели от гнева. – Если кто-нибудь, твои или чей другой, моего еще тронет…
– Ну, чего уж ты так? Пацаны дерутся.
– Ты знаешь, о чем я говорю. Если кто-нибудь еще моего тронет… – Она схватила вилы, стоявшие у стены сарая, и, перевернув, воткнула их в землю. – Убью. Поняла? Ты меня поняла?
– Поняла, – тихо сказала Катюша.
– Ну вот…
Бабушка подошла сзади к дочери, потянула ее за рукав:
– Пойдем, Наташа, пойдем…
В это время в калитку вошел отец Лешки – широкоплечий мужик в промасленной спецовке – и остановился, немного растерянный.
– Ого! У нас гости? Здравствуй, Наташа.
– Здравствуй.
– Отчего не заходишь в дом?
– Некогда. Огород надо копать. За меня некому. – Мать повернулась и вышла, бабка незаметно за ней.
Лешкин отец спросил:
– Чего она приходила?
Катюша с ленцой пожала плечами и потянулась.
– Лешка где?
– Да тут гдей-то.
– Ты вот что, – сказал Лешкин отец, – кончай Наталью цеплять, поняла?
– Да кто в ней цепляется? Нужна она, бешеная…
– Леха! – позвал отец.
И Лешка сказал Кольке Бурлакову:
– Ладно, вали отсюдова, пока цел.
Прошло еще несколько дней. Раны на физиономии Коли зажили, остались только легкие царапины. В детстве всегда все легко заживает, но не все, к сожалению, забывается…
Как-то вечером он вернулся домой с рыбалки, принес длинную низку хороших подлещиков. Думал, дома обрадуются, но на рыбу только мельком взглянули и отвернулись. Коля сразу почувствовал напряженную обстановку: видно, бабушка и мама ссорились до его прихода, а когда он вошел, замолчали. Коля положил рыбу на стол, а бабушка, отодвинув ее, спросила строго:
– Ты уроки сделал?
– Сейчас доделаю.
Коля пошел к себе в уголок у окошка.
В доме у них с той поры мало что изменилось. Только там, где сейчас стоит телевизор, стояла радиола «Урал». Над ней висели фотографии Колькиного деда, погибшего на войне, и дядьев, которых он тоже никогда не видел, и еще каких-то очень бородатых и добротно одетых прадедов и молоденьких красивых прабабушек…
Мама подошла к радиоле и поставила пластинку: «Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полная задора и огня…»
Бабушка слушала, слушала, а потом подошла к радиоле и как хряснет крышкой, как раз в том месте, где она пела «я с тобой неловко пошутила».
– Ну зачем же вы так, мама? Мою любимую пластинку.
– Ты, может, думаешь, что у меня кубышка где-нибудь в огороде зарыта? – подбоченясь, спросила бабушка. – Нет у меня кубышки и не было никогда. И как тебе не совестно: тридцать лет, а ты все «дайте, мама, дайте». А мне, между прочим, уже седьмой десяток и руки болят. Скоро я совсем коровьи титьки держать не смогу и попросят меня из колхоза, что мне тогда? Ложиться и помирать? Или помощи ждать от тебя? Дождешься, как же…
– Мама, что же вы такое говорите!
– А то говорю, что думаю. Подарков навезла, напылила, а у самой задница голая. Да на эти денежки, что ты на подарки профукала, год можно было бы жить как у христа за пазухой!
– Ну ладно, хватит! Надоело. Не хотите дать денег, не надо. Обойдусь как-нибудь. А эти ваши разговоры в пользу бедных оставьте. Да и прошу-то я у вас ерунду какую-то, в долг. Было бы о чем говорить. Как устроюсь, сразу верну.
Коля насторожился. Оставил книги, подошел к матери. Обнял ее и тихо сказал:
– Не уезжай, ма…
– Сынок, да я ж не сейчас.
– Не уезжай, пожалуйста.
Тут она не выдержала и заплакала, стала Колю целовать, приговаривая:
– Господи, да куда же я от тебя денусь? Родной ты мой, маленький мой, любимый мой.
Так он и затих, прижавшись к матери, но краем глаза невольно видел, как бабушка открыла ящик комода, достала оттуда чистенький платочек, завязанный узелком, развязала, заслонясь спиной, послюнила пальцы. Потом узелок убрала обратно, ящик задвинула, подошла с поджатыми губами и положила на стол тоненькую стопочку красненьких.
Мама шмыгнула носом, высвободила осторожно руку, обнимавшую сына, и спрятала деньги в сумочку.
Коля вздохнул и пошел делать уроки.
Несколько позже, перед тем, как лечь в постель, он уловил минутку, когда никого не было в горнице, стянул со стола сумочку, спрятал ее под подушку и лег.
Мама подошла, склонилась, поцеловала.
– Спи, мой хороший, спи.
Когда она отошла, он нащупал сумочку под подушкой – на месте, – удовлетворенно вздохнул и уснул.
Проснулся утром. Солнце вовсю лепило в окна, птицы горланили.
Вспомнил и сразу рукой под подушку. Там было пусто.
– Мам! – крикнул. – Мама!
Вошла бабушка и села на стул, разматывая платок.
– Вставай, опоздаешь в школу. Я уж с утрешней дойки вернулась.
– А мама где?
– Уехала мама твоя. Ну-ну, ты ж мужчина. Вставай!
Дрова в печи прогорели. Он открыл заслонку, поворошил жар. Две головешки вспыхнули синеватым пламенем. Одну разбил кочергой, другая оказалась крепкой. И вдруг он отчетливо услышал знакомый до боли старушечий кашель. Сразу же вспомнился ему тот давний новогодний вечер…
Печка у бабушки никак не топилась. Она пыталась раздуть тлеющие полешки, дым вылезал из печки, слезил глаза.
Бабушка кряхтела и ворчала:
– О господи, и без того дровишки сырые, и ветер еще на тебе.
Коля стоял в дверях класса и смотрел на нее. За прошедшие шесть лет Коля вымахал в здоровенного парнягу, так что головой почти касался верхнего косяка, а плечами заслонял весь проем. Одет он был соответственно: джинсы, черный свитер, кожаная куртка – видно, мама неравно приехала.
– Ба, дай-ка я тебе помогу.
– Ох! – она вздрогнула. – Напугал. Вы чего – уже собираетесь? Так ведь рано еще. А погода-то, а? Новый год называется. Слякоть. Это в Сибири-то?! Деды переворачиваются в могилах.
– Ну, скажи еще: дырок своими ракетами понаковыряли в небе, вот и дует, – сказал с усмешкой Коля, выдирая фанеру из ящика учительского стола.
– А что ты про это знаешь? Люди поученей тебя и то сомневаются…
– Ох, бабуля, не смеши! – Коля стал фанерой махать перед раскрытой топкой. Пламя вспыхнуло, но тут же погасло, и дым повалил еще пуще, чем прежде.
– Эх-х ты, помощничек.
В класс ввалились все ребята во главе с Лешкой Горбатовым, из которого вышел крепкий коренастый паренек, от прежнего только вихры остались. Девочки и ребята тащили с собой коробки с елочными игрушками, магнитофон, рулоны с плакатами и рисунками.
– Выволакивай парты в коридор! – распоряжался Лешка. – Фу! А надымили-то, задохнуться можно. – И рванул окно так, что затрещала бумага, которой оно было заклеено.
В окно ворвался ветер, закружились снежинки.
Коля подскочил к Лешке, оттолкнул его от окна.
– Ты соображаешь? Охламон! Люди уродуются – печи топят, а он выстуживает.
– Кто охламон? Кто охламон? – попер на него Лешка.
Но тут меж ними встала девочка – так, ничего особенного, среднего росточка, стриженая, курносая – уперлась ладошками в обоих и растолкала.
– А ну, петухи, довольно! Ты, Лешка, давай парты таскай, а ты – в окошко за елкой, все равно она в дверь не пролезет, каждый топчется исключительно сам по себе, но это так казалось только на первый взгляд. Они не держались за руки, но все равно танцевали нарами, и каждая пара имела цепкую связь взглядом, ритмом, направлением движения. Лешкино плечо все время почему-то мешало Коле.
Колина мама тоже пришла. Она была все еще красива, даже не располнела почти. Но что-то едва уловимое изменилось в ней. Как-то суетливее и неувереннее стал ее взгляд, немного больше чем надо кривились губы в усмешке, и в опущенных плечах чувствовалась какая-то усталость.
Подошла учительница и встала рядом с ней.
– Все-таки так нельзя, – сказала учительница.
– Что? – спросила Колина мама.
– Я говорю, нельзя так баловать детей. Слепая родительская любовь может погубить ребенка.
– Это вы про меня? – спросила Колина мама. – А почему вы решили, что у меня слепая любовь? Я вижу, что люблю, пускай на пего все глядят и завидуют.
– Вы шутите, конечно, я понимаю.
– Нет, я не шучу. Чехов сказал: «В человеке все должно быть прекрасно – и лицо, и одежда».
– Да ничего такого Чехов не говорил, – сказала учительница. – Это доктор Астров сказал-
– Да? А нас учили, что Чехов.
– Если все глупости, которые говорят персонажи Антона Павловича, начать цитировать…
– А я вам вот что скажу – это не глупость. Любить своего ребенка и делать для него все, чтобы он… чтобы он никогда не чувствовал, что он чем-то хуже других, по-моему, это вовсе даже не глупость. Извините.
Тут как раз зазвучало танго, и Колина мама отошла от учительницы, которая качала головой, глядя ей вслед.
Колина мама подошла к своему сыну и церемонно пригласила его на танец. Он засмущался было:
– Пусть сначала ответит за охламона!
– Я тебе отвечу, отвечу.
– Все, – сказала девочка. – Ты – сюда. а ты – туда.
Лешка подхватил парту. Коля выпрыгнул в окно и вскоре вернулся через окно с большой и пушистой елкой.
Его и елку встретили криком «ура!» Дрова у бабушки на сквозняке так разгорелись, аж печка гудела!
– Машенька! – окликнула девочку бабушка. – Скажи, пускай теперь окошко прикроют, хватит уже.
– Сейчас, – ответила Маша и приказала: – Леша, закрой окно.
Леша стал закрывать окно и встретился взглядом с Колей, с ехидной такой улыбочкой.
– Ладно, за мной не пропадет, – сказал Леша.
– Смотри, с долгами в старом году рассчитываться надо.
Девочки наряжали елку. Кто-то запустил магнитофон.
Коля увидел, что бабушка еще здесь, подхватил ее и закружил почти по воздуху.
– Ох! Да что ты! Пусти, окаянная твоя душа!
Наконец он поставил ее па землю.
– Спасибо, ба. А какая же ты легкая стала.
У бабушки голова кружилась, и она пошла, держась за стенку.
В дверях стояла учительница, пополневшая за эти годы и ставшая уже директором школы, еще учителя и родители.
– Бурлаков, – с укоризненным вздохом сказала учительница. – Опять Бурлаков.
Потом были танцы. Если это, конечно, можно так назвать. Родители сидели или стояли вдоль степ, а ученики топтались под музыку посреди зала. Казалось, что
– Да ну…
Но она дернула его за руку, подхватила и повела. Она была па две головы его ниже, по держала парня крепко, и получалось даже, будто это он сам ведет. И станцевали они классно, с переходами и разворотами, настоящее танго. Никто и не решался с ними тягаться. Только Лешка пригласил Машу, но она отказала молча и еще покрутила пальцем у виска, мол, совсем не соображаешь, и первая захлопала, когда Коля отводил маму па свое место.
– Вот так, – сказала Колина мама учительнице и вышла.
Коля выскочил за пей па улицу, увидел, как она, ссутулив плечи, шла по тропинке к дому, хотел окликнуть, по сдержался.
Подошел Леша, кивнул в темноту:
– Пошли?
– Пошли.
Маша бегала, искала их по всей школе.
Нашла их в умывалке. Они поливали друг другу из кружки, смывая кровь с разбитых носов.
Маша постояла, глядя на них, потом сказала:
– Дураки.
– Ладно, иди гуляй, – сказал Алеша.
– Чао, – прогундосил в распухший нос Николай.
Когда он вернулся домой, мама сидела у зеркала. Перед ней стояла раскрытая деревянная шкатулка, в которой были ее сокровища: какие-то лоскутки, чьи-то волосы, завернутые в бумажку, старые фотографии и, конечно, письма. Некоторые были вынуты из конвертов – наверно, она их читала.
У стены потрескивала включенная радиола, пластинка не крутилась – адаптер уперся ей в середку.
– Хорошо погулял? – спросила мама.
– Хорошо.
– Оно и видно. – Она вздохнула. Николай подошел к радиоле. – Не выключай.
Лучше смени пластинку. Вон ту поставь. Во-о-он ту, третью с краю.
Коля поставил пластинку:
…пачке старых писем
мне случайно встретилось одно,
где строка, похожая на бисер,
разлилась в лиловое пятно.
Что же мы тогда не поделили?
Бабка заворочалась на печи, закряхтела:
– Опять завела. Опять себя накручиваешь? Разобью я эту шарманку, а коробку твою с бумаженциями спалю!
– Ох, мама, потерпите, недолго уже осталось.
– То-то и оно, что недолго глаза мои на это безобразие будут глядеть, одна радость, что скоро помру.
– Я же не об этом, мама, вы сами знаете. Коля, пойди сюда.
– Да, мама.
Она смотрела на него и себя в зеркале.
– Как я сегодня выглядела?
– Ты? Ты была самая красивая. Ты была… как птица! Как вольная лесная птица, залетевшая случайно в курятник.
Она рассмеялась:
– Ох! Жаль, что тебя они не слышат, ах, как жаль!
А бабушка с печи сказала:
– Птица. Вот именно, что птица. А денег я тебе на дорогу не дам. Не дам!
– Ох, не пугайте. Старая песня.
– Ты опять уезжаешь, мама? – спросил Николай.
– Да. Не обижайся. Не могу я здесь. Мир такой огромный, а я здесь, правда, как в клетке. Ты уже вырос, большой. И даже чужой немного какой-то. Тебе так идут эти джинсы и курточка. Настоящий мужчина стал.
– А ведь ты, Наташка, откупаешься от него этим барахлом, вот что, – сказала бабушка. – Не откупишься.
– Замолчите, мама!
– Ох. не откупишься, милая.
– Замолчите!
– Ну, хватит, ба, – сказал Николай. – Мам, ты поезжай спокойно, раз надо. Мы тут не пропадем.
– Это уж точно, – сказала бабка.
А мать прижилась лбом к груди сына и глухо заплакала. Он осторожно гладил ее волосы и утешал:
– Все будет хорошо. Все будет хорошо.
Утром, посадив ее в кабину грузовика и бросив в кузов чемодан, он долго стоял на окраине села и смотрел вслед машине, пока она не скрылась за поворотом дороги в лесу.
Он вернулся домой. Бабушка бушевала. Она вытаскивала из комода какие-то вещи – халатики, кофты, пуховый платок, – швыряла все в кучу па пол и кричала:
– Сожгу! Все сожгу! Вею эту гадость. И ты снимай все, что она тебе привезла! Снимай! Все это мерзость! Дрянь! Окаянные тряпки! Человек из-за них сатанеет. Сжечь! Все в огонь!
Коля обнял ее, попытался угомонить:
– Успокойся, ба, ну, успокойся.
– Вот и ты становишься таким же! Пустота у тебя в глазах! Пустота! – Она вырвалась, тряхнула какие-то вещи, из них вывалилась на пол мамина шкатулка. – Вот она, главная зараза. В огонь! – подхватила шкатулку, проворно увернулась от внука и бросила ее в печку.
Потом ей стало плохо. Коля уложил ее. Шкатулку кочергой из печки выкинул. Она изрядно обгорела, но была, в общем, целой. Коля зачерпнул воды из ведра, плеснул на шкатулку немного, а остальное понес бабушке. Дал ей напиться, присел рядышком и спросил:
– Ну, чего ты? Разве этим поможешь? Бабушка только вздохнула в ответ.
Когда бабушка уснула, Коля поднял шкатулку и тряхнул ее над столом. Из прогоревшего бока вывалилось нехитрое мамино богатство: сломанная брошка, пара серебряных колечек, старые патроны от губной номады и перетянутая резиночкой обгоревшая пачка писем. Коля взял эту пачку, снял резиночку, развернул первый лист. Все это он делал медленно и неуверенно, потому что и в самом деле не был уверен, хорошо ли он поступает. Листок наполовину обгорел, так что каждая строчка обрывалась на середине, но начало было отчетливо видно: «Машенька, милая…» и в конце, на обороте: «Целую тебя крепко и сынулю моего в розовую… твой Володя».