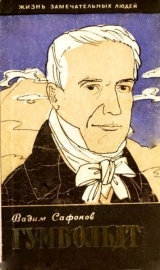
Текст книги "Александр Гумбольдт"
Автор книги: Вадим Сафонов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 14 страниц)
Подземные сады Атахуальпы
В долинах Лохи росли хинные леса. Ветер шевелил гибкие ветви высоких деревьев, и они казались красноватыми.
На седьмом году их срубали. Драгоценная кора была главным сокровищем перуанских Кордильеров. Голландским купцам только полсотни лет спустя удалось выкрасть несколько хинных деревьев из Перу и посадить их на Яве.
В то время чудесная кора была в монопольном владении испанцев, и они думали, что лечиться ею достоин только король. Гумбольдт поразился, узнав, что в год их приезда собрали всего сто десять центнеров коры и всю отправили из гавани Паита в адрес мадридского двора.
В этой местности, где солнце проходило северной стороной неба, где в горной долине узким потоком начиналась величайшая река Южной Америки – Амазонка, Гумбольдт и Бонплан вступили в страну древней культуры инков.
Высоко в горах они перешли дорогу, выложенную плитами порфира. Дорога, прямая, гладкая, несокрушимая, походила на шоссе древних римлян. Гумбольдт посмотрел на барометр. Они стояли на высоте четырех километров над уровнем моря, на несколько сот метров выше Тенерифского пика.
Перед ними, не тронутая временем, прорезала горы дорога инков.
В Тискане Гумбольдт посетил серные разработки. Пять лет назад восставшие индейцы пытались поджечь их. Они надеялись, что вспыхнет вся гора и сожжет страну, опозоренную ненавистным владычеством испанцев.
Вершины Анд походили на башни из трахита и порфира. Они возносились над скалами известняка. В этом белом крошащемся камне виднелись гигантские раковины аммонитов, круглые, как колеса, остатки устриц и морских ежей. Морское дно, окаменевшее миллионы лет назад, поставленное дыбом, поднятое на много тысяч метров в высоту!
Однажды исследователи вошли в теснину. В сухом застоявшемся воздухе носился неуловимый сладковатый запах. Исполинские кости покрывали дно. Они лежали, как в общей могиле, и обращались в прах от прикосновения. Валялись прямые бивни втрое больше слоновьих. В иссохшей, гробоподобной теснине, спрятанной в желтых горах, сохранилось кладбище мастодонтов.
Миновав страну пустошей и серебряных рудников, Гумбольдт и Бонплан подошли к древнему городу инков – Кахамарке. Среди полей люцерны еще стоял полуразрушенный дворец Атахуальпы. Показывали стену, где схваченный испанцами, обреченный смерти инка провел черту, обещая до этой черты наполнить комнату слитками – золотым выкупом за себя. Впрочем, все по-разному определяли высоту черты. В часовне хранилась тоненькая плита с тремя или четырьмя пятнами кровавого цвета.
– Это кровь Атахуальпы, – объяснил проводник.
Гумбольдт установил, что «кровавые пятна» произошли вследствие выделения роговой обманки, или пироксена, из массы горной породы. Он знал, что несчастный верховный инка, крещением избежавший костра, был задушен «без пролития крови», труп его торжественно отпет в присутствии обоих Пизарро, его палачей, а затем перевезен в Кито.
Это было в 1533 году – двести шестьдесят девять лет назад.
Некий Цапля, мирный индейский вождь, живущий в Ликане, обладал множеством рукописей XVI столетия.
Гумбольдт уже легко читал по-испански. Он зарылся в них.
И перед ним встала история этой погибшей культуры, не похожей на другие, суровой, изощренной и примитивной в одно и то же время.
Манко Капак, появившись таинственным образом, как утверждали рукописи, начал династию инков. Всего сменилось тринадцать властителей. Они завоевывали окрестные племена, строили водопроводы и дороги, связав каменной сетью, общим протяжением в двести пятьдесят географических миль, все провинции своего государства, воздвигали храмы, где золотой круг обозначал солнце, светило-бога.
Впрочем, могучий Гуайна Капак, потомок Манко и покоритель Кито, сомневался, чтобы это светило, отсутствующее ночью, могло управлять миром. В XV веке он рассуждал почти так же, как философы эпохи французского просвещения.
– Утверждают, – говорит Гуайна Капак, – что солнце живет и что оно создатель всего. Но кто хочет окончить начатое дело, должен сам оставаться при нем: солнце не сделает дело за человека. И как оно может быть живым, раз оно никогда не утомляется? А если бы оно было к тому же и свободно, то оно не избегало бы появляться и в таких частях неба, где мы его теперь не видим. Следовательно, солнце подобно животному, ходящему на привязи.
Умирая, Гуайна Капак разделил свое царство между сыновьями: Гуаскаром, чье имя означало привязь, веревку, и Атахуальпой, что значит курица или петух.
Атахуальпа умертвил Гуаскара. Семь лет он был верховным инкой и, как полагалось по придворному церемониалу, никогда не плевал на землю, но в руку одной из знатных женщин своей свиты.
В июле или августе 1533 года испанцы позволили ему выйти из комнаты, где он был заключен, и посмотреть на звезды. Он увидел комету, «зелено-черную, толщиной с человека». Он узнал в ней ту самую комету, которая явилась перед смертью его отца, Гуайны Капака, и понял, что скоро умрет.
Вот что прочел Гумбольдт в старинных рукописях Цапли.
В Кахамарке жила семья индейского кацика Асторпилько, потомка Атахуальпы по женской линии.
Семнадцатилетний сын Асторпилько водил Гумбольдта по развалинам. Взбираясь на кучи щебня, он рассказывал о сокровищах, скрытых под ними. Однажды его дед или прадед, завязав глаза жене, привел ее в подземный сад. Золотые павлины сидели на золотых деревьях, покрытых золотой листвой. А под деревьями стояли золотые носилки Атахуальпы.
Женщина не смогла молчать о виденном. Но она не знала дороги туда.
– Мы стоим среди груды черепков, поросших сорной травой, – сказал юноша Гумбольдту. – А под нами, немного вправо, цветущий дурман, сделанный из золотой проволоки и золотых пластин, осеняет гробницу инки-правителя.
Гумбольдт с изумлением смотрел на своего спутника, нищего, в лохмотьях, равнодушно говорившего о мифических сокровищах инков, за которыми, как он был уверен, ему стоило только протянуть РУКУ.
– Но если так, – спросил Гумбольдт, – разве вам не хочется взять хоть что-нибудь из этих подземных богатств? Ведь вы бедны. И вы ни разу даже не убедились своими глазами в существовании вещей, которые могли бы сделать вас богаче испанского короля!
– На что они нам? – был ответ. – Белые возненавидели бы нас. А сейчас у нас есть маленькое поле и хорошая пшеница…
Дни, недели и месяцы в горах. Уступы скал восходили ввысь ступенями лестницы, вырубленной титанами. Под ногами осыпались куски кварца;,они увлекали камни и обломки скал на крутых склонах, и грохот обвала пушечной канонадой подхватывало эхо. Затем неизмеримая тишина поглощала его и смыкалась снова. Выси были туманны. Вечные снега реяли, как облачная гряда. Промозглая сырость липким слоем оседала на одежде, на теле; глубоко внизу серебристой молнией рассекала Анды река Магдалена.
Гумбольдт был непрерывно занят измерениями, вычислением высот, нанесением на карту пути. Наиболее замечательные облики местностей он срисовывал. Но все это еще не помогало разобраться в запутанном лабиринте этой горной страны. А между тем он не сомневался, что тут была, тут должна быть закономерность, – ее нужно понять, отыскать способ в нее проникнуть, в природе невозможен хаос.
Он изобретает новый способ – чертеж пройденных перевалов, хребтов, долин. Линии чертежа соединяли измеренные высоты. Анды представали как бы в разрезе.
И сотни разрезов помогли разгадать лабиринт. Открывалась гармония в расположении дугообразных складок, цепей вулканов у самого края материка.
И тогда, с этих высот, яснее представилась Гумбольдту вся Южная Америка, напоминающая Африку по своим очертаниям и так не похожая на нее по своему внутреннему устройству.
На западе материк вздымался гигантскими волнами Кордильеров. Последние всплески этих гор, пройдя по берегу Венесуэлы мимо Каракаса, затухали на Атлантическом побережье вблизи устьев Ориноко. И, словно их отзвук, начинаясь еле заметными холмами в степях, вставали горы Гвианы, а южнее, пропустив долину Амазонки, поднималось широкое Бразильское плато. В этом чередовании поднятий и низменностей, затиший и бурь, некогда вздыбивших землю, чудилось ритмическое дыхание материка.
…Вечерами погонщики мулов рассказывали горные истории. Мир, простертый внизу, сгорал в дыму и пламени. Он скоро остывал под сизым пеплом сумерек. И только один огонь оставался в этом звонком, волнистом пространстве – их костер на высоте. Тогда струящийся плащ загорался на небе и медлил на западе, поднявшись к зениту.
То был зодиакальный свет.
На высоте Гуангамарки юго-западный ветер ударил в лицо и разогнал туман. Западный склон открылся сразу – весь в острых зубцах, словно в черной ряби, низвергавшейся в бездну. Широкое и спокойное сверкание заливало глубину и уходило к небу в бесконечном отдалений.
Великий океан, обнимая полмира, уходил к небу.
Домой
5 декабря 1802 года корвет унес путешественников из гавани Кальяо, вблизи Лимы, опять на север. Они поплыли вдоль побережья в Мексику. И повезли с собой множество ящиков, доверху наполненных коллекциями, картами, тетрадями с записями измерений, дневниками.
Со всех пунктов путешествия, где только была возможность, ящики отсылались в Европу. Они шли в Мадрид, в Париж, в Берлин, Джозефу Банксу в Лондон.
Гумбольдт исследовал холодное течение, струившее с юга на север воду оловянного цвета.
Это течение позднее назвали Гумбольдтовым.
Плавание до мексиканской гавани Акапулько продолжалось три с половиной месяца – больше чем на месяц застряли в Гваякиле, надо было искать другой корабль, перуанский корвет дальше не шел.
Март был на исходе, когда путешественники высадились в Акапулько. О Новом Свете знали тогда так мало, что лучшие карты ошибались на несколько градусов в положении даже этой крупной гавани, а тем самым и всех других пунктов западного побережья, потому что их отсчитывали от нее.
Дать первую точную карту выпало на долю Гумбольдта.
Он провел год среди сильных и смелых людей, земледельцев и скотоводов, суровых, как исполинские вулканы и плоскогорья их страны, поросшие агавами и кактусами, усеянные развалинами трех культур – майя, толгеков и ацтеков.

Уличная сцена в Лиме. 1800 год.

Так плавали по Ориноко. По рисунку Гумбольдта.

Леопольд Бух.
Директор мексиканской горной школы был учеником Вернера. Долгими вечерами они вспоминали Фрейберг.
Гумбольдт осмотрел серебряные рудники и залежи платины. Разработки велись лениво, половина металла оставалась в породе. Но в горах, даже далеко от рудников, то и дело находили большие самородки. Под деревнями, жители которых питались ячменными лепешками, лежали сокровища, не имевшие цены.
Гумбольдт не преминул определить высоту вулканов Попокатепетль и Ицкакихуатль, а также и знаменитого памятника старой мексиканской культуры – Холульской пирамиды, сложенной из кирпичей во времена толтеков.
В 1759 году неожиданно, в одну ночь, среди плантаций сахарного тростника возник вулкан. Огненные реки и ядовитый дым опалили далеко вокруг окрестность. Гора вздулась, как пузырь на теле невидимого, подземного огненного мира.
Об этом событии ходили противоречивые слухи. Гумбольдт сам поднялся на этот вулкан. Почти две тысячи дымящихся отверстий окружали кратер. Гумбольдт спустился на его дно, на двести пятьдесят футов ниже края. Там он взял пробы воздуха, удушливого от углекислоты, обжигавшего легкие. И Гумбольдту снова, как тогда в Кито, показалось, что он стоит на шатком гигантском своде, на котором люди разводят свой сахарный тростник и строят города, так легко обращающиеся в пыль.
В Санта-Мария-дель-Туле, в Оахаке, Гумбольдт осмотрел дерево, может быть, самое старое в мире. Это был болотный кипарис, или иначе двурядный таксодий. Его мягкая хвоя сидела двойным рядом на веточках. Окрестное население считало это дерево священным. Мексиканцы в широкополых войлочных шляпах скакали вокруг него на горячих лошадях; языческие приношения увешивали ветви таксодия, растущего в монастырской ограде.
Гумбольдт измерил толщину ствола: его поперечник был тридцать восемь парижских футов (около двенадцати метров). Он стоял здесь еще тогда, когда последние стада мастодонтов топтали американскую землю. Гумбольдт вырезал свое имя на чешуйчатой коре утесоподобного дерева, ровесника горных цепей.
В конце 1935 года таксодий в Оахаке посетил доктор Шренк из Миссурийского ботанического сада. Он увидел полузаросшую надпись: «Александр Гумбольдт 1803». И так же как Гумбольдту, Шренку не позволили сверлить священный ствол, чтобы исследовать годичные слои. Он только примерно определил его возраст в пять-шесть тысяч лет. Сто тридцать два года, протекшие между посещениями двух ученых, значили не больше мгновения в чудовищно долгой жизни этого организма, такого древнего, как вся человеческая история.
В мае 1804 года Гумбольдт, Бонплан и Карлос Монтуфар, сын богачей Агирре-и-Монтуфар, сопровождавший путешественников из Кито, прибыли в Соединенные Штаты.
То был последний этап путешествия.
Два месяца друзья осматривали страну, прославленную тогда во всем мире как «страна свободы». Они увидели пустынные прерии, быстро разраставшиеся города, людей, разбогатевших на торговле свиным мясом, и голых негров-рабов, которых на плантациях подгоняли бичами, так же как в испанских колониях.
В Вашингтоне президент Джефферсон, откинувшись на спинку жесткого стула, говорил гостям о будущем Америки. Надо сломить владычество Испании и Англии. Вся американская земля – от Аляски до мыса Горн – должна быть разделена между тремя республиками, и каждая из них должна управляться, как Соединенные Штаты.
Старый, шестидесятилетний человек, сидевший на жестком стуле в бедно убранной комнате, казался бесконечно усталым. Так ли уж он был убежден в осуществимости этого проекта с тремя республиками и – еще больше – даже в том, что Соединенные Штаты управляются идеально?
Он был главным автором – почти тридцать лет назад – Акта о независимости. Когда он ездил в Европу, революционная Франция прислушивалась к его голосу, провозглашая Декларацию прав человека и гражданина. Сколько борьбы, зачастую мелочной, оскорбительной, и рубцов на совести – об этом президент не говорил гостям. Здесь, в Америке, его голос не всегда желают слушать, то, за что он боролся, чему отдавал все свои силы, равнодушно отбрасывается…
…В каждой из трех республик будут отважные трапперы-пионеры, будут свиноводы и свиные короли, будет хлопок и сахарный тростник…
«И негры-невольники», – досказал про себя Гумбольдт.
9 июля 1804 года Гумбольдт и Бонплан сели на корабль, и 3 августа корабль бросил якорь на рейде в Бордо. К этому времени «Всеобщие географические эфемериды» объявили, что Гумбольдт убит индейцами, а «Гамбургский корреспондент» – что он умер от желтой лихорадки.
Гумбольдт написал Кунту и Фрейеслебену. Последнего он просил кланяться Вернеру, которого он «все больше уважает с каждым годом и систему которого только подтвердило путешествие в южное полушарие». И это тем удивительнее, что именно из Америки вернулся отнюдь не примерный ученик Вернера, а законченный плутонист, вовсе забывший о своем былом нептунизме. Несомненно, письмо это не образец творчества Гумбольдта-ученого, но пример искусства Гумбольдта-дипломата. Впрочем, он спрашивает о «новых вернеровских идеях». Он не знает еще, что Вернеру больше не суждено иметь каких бы то ни было новых идей…
Гумбольдт разбирает чемоданы
Ему только тридцать пять лет. Он прожил едва треть с небольшим той жизни, которую ему предстояло прожить. Его слава еще возрастет – почти несравненно. Но то, что он станет делать в продолжение десятков лет своей последующей жизни, будет в значительной мере прямой разработкой и развитием добытого в Новом Свете.
Через много лет, извиняясь перед русским министром за свой изменившийся, дурной почерк, он скажет, что рука плохо повинуется ему потому, что ему месяцами приходилось спать на сырых листьях на берегах Ориноко. Стариком он напишет, что никогда не забудет ночного свечения моря, дельфинов, расстилающих огненный след, как кометы, Южного Креста, встающего из воды, «первоначальных» лесов Касикьяре и «Южного моря», Великого океана, в котором он увидел солнечную дорогу с высоты Анд, как некогда Васко Нунец Бальбоа.
Из всех эпитетов, которыми щедро наделяли его академии, он охотнее всего избирал «великий путешественник».
Но экспедиция в Америку осталась единственным настоящим его путешествием, если не считать разъездов по Европе и поездки на Урал и Алтай в коляске, в сопровождении казачьего эскорта.
Какую же жатву собрал Александр Гумбольдт за эти пять лет, за этот период высшего подъема, «кульминации» своей жизни?
Его путешествие называли «вторым открытием Америки». Пусть это преувеличение, но ведь именно беспримерная громадность результатов экспедиции Гумбольдта дала для этого повод.
Нелегко исчислить эту «жатву».
Целый атлас карт обширных пространств, которые были до того сплошными белыми пятнами.
Открытие в девственной глубине материка поразительнейшего географического факта – существования Касикьяре.
Сотни точных астрономических определений различных пунктов (до того лишь один пункт в Южной Америке был определен – Кито; на всех картах неверно помещены были даже Акапулько, Веракрус, Мехико и Лима!).
Семьсот гипсометрических измерений, измерений высот. Тысяча пятьсот промеров в Андах – с неуклонной методичностью Гумбольдт создавал метод профилей, вычерчивая чертежи «разрезов» великой горной цепи, распутывая узлы ее хребтов; этот метод войдет затем в обиход каждого геолога, каждого геодезиста.
В течение всей экспедиции у Гумбольдта был только один помощник и никакой материальной поддержки ниоткуда. Но трудно указать хоть сколько-нибудь значительный факт географии Нового Света, который не попал бы в поле зрения Гумбольдта.
Он смело и точно набросал первую геотектоническую карту всей Южной Америки, картину строения целого материка.
Из его сообщений в Европе впервые составили ясное представление о естественных богатствах Америки, об истинных запасах полезных ископаемых в Перу и Мексике.
Он изучал языки индейских племен и экономику испанских колоний (так родились «Политические опыты» о Кубе и Мексике).
Наблюдения Гумбольдта дали материал для целых глав метеорологии.
Он соединил на карте местности с одинаковой годовой, одинаковой летней и одинаковой зимней температурами, впервые проведя ныне всем знакомые линии изотерм, изотер и изохимен.
На Тенерифе он увидел поясное распределение горной растительности – в Америке он уже ищет точного выражения для законов этих живых поясов. И показывает, что высота снежной линии на горах связана не только с климатом вообще, но и с конкретными особенностями, конкретной географической характеристикой местности.
Поистине гигантской оказалась и биологическая «жатва» Гумбольдта. Специально зоологических целей он не преследовал. Но классическими стали его исследования необычайных приспособлений у американских животных – электрического органа угря-гимнота, горла обезьян-ревунов, самых «громогласных» среди всех живых существ, глотки кайманов, кусками пожирающих свою добычу.
А гербарии Гумбольдта содержали шесть тысяч видов растений, из них больше трех тысяч видов новых, – вклад в науку небывалый. Стоит вспомнить, что величайший систематик XVIII века Карл Линней знал вообще всего восемь тысяч высших растений!
Тут не просто – знали мало видов, узнали больше. Тут резкий сдвиг в понимании самого смысла, «объема», как говорят логики, понятия «жизни», значения, места живого мира на земле, неисчерпаемости его форм. «Какой клад растений нашел я в удивительной, покрытой непроходимыми лесами, населенной столькими новыми видами обезьян области между Ориноко и Амазонкой, в которой я прошел 1 400 географических миль. Я собрал едва десятую часть того, что мы видели. Я теперь вполне убежден в том, чему еще не верил в Англии, хотя уже и предчувствовал, просматривая гербарии Руица, Павона, Несса и Генкена…»
Он был не только сам убежден, но и неопровержимо доказал всем чрезвычайную узость тех «систем» растений, какие были тогда в ходу, – и линнеевской «искусственной» и «естественной» системы Жюссье. «Какие удивительные плоды!.. Какое зрелище представляет мир пальм в лесах Риу-Негру!»
Нет, жизнь не случайное явление, накипь или плесень на земле. Жизнь – колоссального значения фактор, деятель на земле; вся поверхность планеты проникнута жизнью.
Он говорит о жизни на высочайших вершинах, о населении ледяных пространств, горячих источников, обитателях вечной темноты и подпочвенных пластов, о мириадах спор и цист, носящихся в воздухе, – о всеоживленности земли. Он дает сводку явлений скрытой жизни, анабиоза.
Кажется, у Гумбольдта все готово для создания учения о биосфере, о глубокой, органической взаимосвязи между жизнью и планетой, где она возникла и развилась, – того учения, которое, как мы знаем, было разработано век спустя плеядой замечательных русских ученых.
Он ставит обязательным условием изучение жизни именно в ее связи, в ее отношениях со средой и дает блестящие образцы этого.
Он уже знает о закономерной смене растительных формаций при заселении пустых пространств – от пионеров-лишайников до леса. Объяснения некоторых своих смелых сближений он ждет от будущего. Сходна флора мхов глубоких шахт и обледенелых утесов на горах – «так сближаются противоположные пределы растительности»; «физиология этого нам еще совершенно незнакома».
В своих маршрутных картах он тщательно вычерчивает пограничную линию степи и леса (сведения о котором, о первобытном лесе со всем живым населением его, он так необычайно обогатил). Он вычерчивает эту пограничную линию так, как вычерчивают берега морей с их заливами и мысами. Он убежден: несомненно, будут открыты законы, объясняющие изгибы этой линии; он изучает взаимное влияние степи и леса.
«Одна из задач всеобщего землеведения состоит в сравнении природных свойств отдаленных областей и в сопоставлении результатов…» Потом, в Европе, он займется тщательным сравнительным изучением американских льяносов, степей Азии и пустынь Африки. Он настаивает: всякий ландшафт надо сличить со всеми родственными и изучить во всех его видоизменениях на земном шаре. Под его руками рождается могучий эволюционно-географический метод. Науку же о ландшафтах, важное звено географического видения и исследования земли, надо считать созданной им.
Конечно, он объехал сравнительно небольшую часть Америки. Но то, что он узнал об этой части, дало очень много и для познания материка в его целостности. Это случилось потому, что он впервые в такой полной мере показал, что такое настоящее географическое исследование. И еще потому, что общая «картина мира», или, как он говорил, «физика мира», или, что то же, поиски «всеобщих связей», всегда для него оказывалась центром и сутью научной работы. Точка зрения универсального ученого неизменно руководила им. Дисциплин много; но наука – так хочет оказать, так подтверждает свою старую мысль всей своей деятельностью Гумбольдт – едина; ведь один объект у нее – мир!
«Заниматься всем? Это значит не заниматься ничем!» – морщилась, от времен Гумбольдта и до наших дней, та близорукая мелюзга, которой суждено было скоро переполнить буржуазные университеты и институты. «Наука – это мы», – вещала мелюзга, на свой лад приспособив похвальбу Людовика XIV. Великая наука должна перестать существовать, разъятая, растерзанная на тысячу частей; ученому нет дела ни до общественной жизни, ни до природы, ни до красоты, ни до открытий, сделанных на соседней кафедре. Что же? «Специалисты, подобные флюсу» (по словам Козьмы Пруткова), уткнутся каждый в свою лабораторную посудинку…
Гумбольдт же привез решения и попытки решений таких общих задач, в которых почти стирались границы отдельных дисциплин, – например, задачи о взаимном влиянии океанов и материков (в распределении осадков, ветров, течений, температур и т. д.), задачи о большей холодности и влажности климата Нового Света по сравнению со Старым (и крайне любопытен Гумбольдтов анализ причин этого).
Да и задачи о связи земли и неба…








