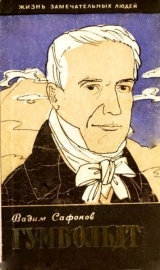
Текст книги "Александр Гумбольдт"
Автор книги: Вадим Сафонов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц)
Остров драконова дерева
Они плыли по легендарному океану древних географов, океану, который фантазия прибрежных народов населяла некогда сказочными образами. В нем гасли ветры над липкой водой, похожей на асфальт, и солнце уходило за острова блаженных, в вечерние сады, где геспериды собирали золотые яблоки.
Они плыли по торной дороге смельчаков, раздвигавших мир великими открытиями.
Две с половиной тысячи лет назад тут прошли суда финикийцев в поход вокруг Африки. В конце XV столетия Васко да Гама и Колумб провели здесь свои каравеллы, – оба отправились искать Индию: один – на востоке, другой – на западе. Это море хранило следы легендарной и героической истории человечества, как хранят их тысячелетние караванные тропы в Азии.
7 июня «Пизарро» пересек параллель невысокого гранитного, похожего на несколько сломанных зубов мыса Финистерре, что значит «конец земли».
Дули слабые ветры, сменяемые штилями, океан охватывал корабль кругом глубокой синевы.
В одном месте опущенный термометр показал на два градуса выше, чем незадолго до того. Поперек океана шла теплая струя. Каждый раз, опуская термометр, Гумбольдт находил ее. Она тянулась на сотни миль, четко отделенная от окружающих гигантских масс воды, как горячая артерия.
То было экваториальное течение.
8 июня, когда садилось солнце, на юго-востоке показались мачты английского судна. На «Пизарро» потушили все огни.
11 июня фрегат окружила стая медуз. Тысячи медуз плыли на юг, сокращая свои колоколообразные тела, отливавшие на солнце розоватым блеском. Все море рябило ими. Выловленная медуза расплывалась на блюде студнем. Но ночью стоило слабо ударить по краю блюда, как студень заливало бледным сиянием.
На марс села ласточка; обессиленная, она далась в руки.
– Родина посылает нам последний привет, – говорили моряки.
Гумбольдт и Бонплан проводили ночи на палубе. В одну из ночей луна осветила контуры горы.
Гора была вулканом острова Ланцарота.
Днем увидели на скалистом берегу черный форт. Ему салютовали испанским флагом. Форт безмолвствовал. Тогда спустили шлюпку. Черный форт оказался базальтовой скалой крошечного островка Ля-Грациоза.
Здесь Гумбольдт впервые высадился на неевропейскую почву. Им овладело чувство, которое, по его словам, «ничто не может выразить». Берег, травы, тропинки – все вокруг казалось ему чудесным. Он не узнавал даже предметов, которые ничем не отличались от европейских или были хорошо знакомы ему по зоологическим и ботаническим садам. Рыбака, пустившегося бежать при виде пушками вооруженного фрегата, он готов был принять за представителя тех первобытных народов, о которых грезил Руссо и которых описывал Форстер.
Задолго до того, как фрегат причалил в гавани Санта-Крус, путешественники увидели пик острова Тенериф.
Кокосовые и финиковые пальмы качались над плитами набережной. Белые дома прятались в померанцевых деревьях, миртах и кипарисах.
В городе Оротаве Гумбольдт и Бонплан остановились в доме английского купца Колегана, где до них жми Кук и Банкс. Пирамида пика, казалось, висела над домиком, окутанным плющом и диким виноградом.
Фрегату «Пизарро» нельзя было задерживаться на Тенерифе больше четырех-пяти дней: англичане могли появиться в любую минуту.
Взяв проводников, друзья пошли в сторону пика.
Сейчас она молчала, эта громадина, перед ними. Но какая чудесная сила вознесла ее выше туч? Таинственная сила, воздвигавшая горы, не была ли она в то же время производящей силой земли, о которой говорил Бюффон в «Эпохах природы», силой, порождавшей и жизнь на Земле? «Что подняло горы, выровняло равнины, ограничило море берегами? – настойчиво задает себе вопросы Гумбольдт. – Сила воды или огня? Что такое вообще вулканы? Как они происходят и как действуют?»
Каменистая дорога пересекала каштановую рощу. Начались кустарники, жестколистные лавры, древовидные верески. Потом папоротники.
Стало приметно холодней. И вот путешественников встретили европейские ели и можжевельники…
Радостное возбуждение, обостряющее все душевные силы и способности, не покидало Гумбольдта. Словно какую-то особенную зоркость приобрели его глаза. Разве он первый поднимался на горы? Он знал – нет, конечно. Так как же до него не разглядели то, что теперь он так ясно видел?
Внизу были тропики. Субтропики наслаивались над ними. Выше – леса умеренного пояса. А еще выше, вот за этими кустами ретама, которые ощипывают дикие козы с рыжей шерстью, крутизна, ржавая от последних лишайников, белый иней – полярная тундра.
Поднимаясь на пик, он и его спутники будто прошли всю землю, пояс за поясом, от экватора до Арктики.
…Знание, с которым мы вырастаем, очевидное для нас знание, так что трудно даже вспомнить, в какой книге мы прочли впервые о том, что на горах есть климатические пояса и растительность распределяется зонами, и зоны эти подобны реальным широтным зонам и поясам на земле, – это знание в главной своей части было добыто, как открытие, тогда, в 1799 году, на склонах Тенерифского пика. Историки науки выискивают догадки, какие высказывались раньше, – шутку француза Турнефора, взбиравшегося на Арарат в 1700 году, замечания, кинутые Альбрехтом фон Галлером, самоуверенным законодателем биологии XVIII века, намеки (о влиянии климата) у Вильденова, учителя Гумбольдта; смутность их не идет ни в какое сравнение с безоговорочной твердостью суждений Гумбольдта…
…Стемнело, путники ненадолго заснули. Спал ли Гумбольдт? Мысли непрерывной чередой возникали в его мозгу. И то же непроходящее чувство радости окрашивало их.
Тропики! Очутившись в них, замечаешь это сразу, по тысяче признаков, точно попал на иную планету. Но чем именно вызвано это ощущение? Что это за тысяча признаков?
То растительный и животный мир. Гумбольдт так поражен всем уже виденным – хотя ведь это еще острова, настоящие тропики впереди, – что он не ждет, он торопится с выводом. Да, только животный и растительный мир! Смахни его – и в узких проливах среди Канарских островов, глядя на темные береговые обрывы и ущелья, прислушиваясь к плеску воды у бортов, вообразишь себя на Рейне, где-нибудь вблизи Бонна.

Чимборасо. По рисунку Гумбольдта.

Мост через Пенипе. По рисунку Гумбольдта.

Эме Бонплан.
Даже так представляется его нетерпеливому, его слишком переполненному впервые увиденными образами сверкающей жизни тропиков воображению!
И – редкий для него случай! – тут он все-таки невольно обедняет тот мир, о необычайном, о ярком богатстве которого неотступно думает…
Не те скалы, не та почва, не то лицо земли – даже без жизни на ней! Но должно было пройти еще восемьдесят лет, чтобы другими учеными, в другой стране, России, был ясно понят и этот факт.
Путники тронулись снова в три часа ночи и еще до рассвета пришли к пещере, заваленной снегом и льдом.
Выше горной пещеры не взбирался никто. Проводники ворчали. Но Гумбольдт шел, цепляясь по-кошачьи, карабкаясь на четвереньках. По сторонам вершины зияли отдушины, «ноздри» пика. В восемь часов утра по окаменевшему лавовому потоку друзья взобрались на вершину. Затем спустились в жерло кратера.
Сернистые пары прожгли им платье. Руки окоченели от холода. А по земле было мучительно ступать: на ней шипела, вскипая, вода.
Круг моря казался неизмеримым. А внизу, в гавани, виднелись даже снасти на кораблях – так был прозрачен воздух. И теперь весь этот остров, огромный, желтый, мертвый, представился Гумбольдту уже не райским садом, а только кучей пепла, чуть тронутой по краю узкой каймой людских поселений и виноградников.
В Оротаве, в саду некоего Франки, они осмотрели драконово дерево – то самое, о котором мечтал мальчик Александр в Тегельском замке. Ствол дерева был вздут, как бочка. Огромное дупло показывало, что он пуст. Путешественники измерили его: на высоте человеческого роста он имел сорок пять футов в окружности, у корня же семьдесят четыре фута.
С верхней части дерева отходили короткие ветки с жесткими розетками на конце, похожие на щупальца. Дерево напоминало гигантский полипняк.
Когда Жан де Бетанкур, нормандский рыцарь? впервые высадился в 1402 году на Тенерифе, это дерево было таким же толстым и пустым. Оно существовало, по-видимому, около четырех тысяч лет.
Но до нашего времени оно не дожило.
Ураган в 1819 году сломал его вершину. Другой ураган, 2 января 1868 года, уничтожил его совсем.
Океан
Ночами море светилось. Мириады бледных, холодных огней вспыхивали в плещущей пене за кормой. Дельфины оставляли борозды сияния.
За тропиком Рака появились летучие рыбы. Они выпрыгивали почти на шесть метров из воды и, как стрелы, рассекали воздух. Гумбольдт вскрыл несколько рыб, шлепнувшихся на палубу. Две трети их тела занимал плавательный пузырь.
Ветер изменился на западный. На востоке небо странно померкло. Как бы гигантский оловянный купол встал там, почти доставая солнце в зените.
Сахара, невидимая, втягивала воздух с океана.
Иногда, все облепленные морскими уточками, седые от соли, колыхались в воде куски дерева, – Гумбольдт вспомнил о бамбуке, выдолбленных стволах сосны и трупах людей с широкими лицами, которые выкидывал прибой на Азорские острова во времена Колумба. Новый Свет через океан подавал руку Старому.
Ничто в этом мире не существовало само по себе, вне общих связей.
Однажды корабль закачался на отлогих, широких волнах. Они пришли вал за валом откуда-то из пустынного пространства, их бока тускло просвечивали зеленью. Дул слабый бриз, нигде, по всему кругу горизонта, не видно ни пенных гребней, ни тучки – никаких следов шквала. То была мертвая зыбь. Тогда особенно ясно почувствовали путешественники огромность океана.
Ртуть термометра, который Гумбольдт неутомимо опускал за борт, застывала в одни и те же часы на той же черте. Температура медленно колебалась в течение суток – точно дышала гигантская грудь. Море в среднем было теплее воздуха. Казалось, оно жило отдельной жизнью и общая работа связывала его.
Гумбольдт прилежно отыскивал эти связи. День его, как всегда, был полон до краев. Тому, что он делал на фрегате «Пизарро», еще не скоро дадут имя: в то время еще не знали науки океанографии.
Он установил, что термометр иногда мог служить лотом. Глубина и донный рельеф отражались на температуре. Приближение мели давало о себе знать более холодной водой.
Стрелка компаса указывала на северную оконечность Америки, где лежал магнитный полюс. Изредка стрелка компаса начинала плясать: проносилась невидимая и неслышная магнитная буря. В это время на Солнце наступал максимум пятен. Общая работа связывала мир.
Ночами Гумбольдт направлял трубу на бархатно-черное небо, все засыпанное почти пылающими звездами. Он следил, как меняется картина созвездий. Местами на небе зияли проедины – глухие беззвездные пятна. Им уже удивлялся астроном Гершель. «Угольными мешками» метко называли их. Гумбольдт не астроном, но мир един, прекрасный и постижимый. Никогда Гумбольдт не был тверже уверен в этом, чем в те дни и ночи радостной ясности мыслей, когда ему представлялось, что природа там сама рассказывает себя. И в какую-то из ночей на «Пизарро» он видит простейшее объяснение тайны небесных проедин – не придумывает, а именно видит, доверяя непредвзятости своего зрения: звезды там заслонены темными, непрозрачными массами материи, холодной космической пылью.
Это то – проще простого – объяснение мрачных зияний на небе, которое и сейчас принято в науке.
От северной оконечности острова Зеленого Мыса «Пизарро» повернул на запад. На запад поворачивало и течение. Гумбольдт исследовал во всех подробностях эту мощную широкую струю теплой воды с тех пор, как корабль вступил в нее. Он сличал свои наблюдения с рассказами моряков, с описаниями старых путешествий. Производил сложные расчеты. И по расчетам выходило, что струя воды обходит в этой части Атлантики в течение двух лет и десяти месяцев круг в семнадцать тысяч километров. О скалы африканского мыса Лопец разбился, английский корабль. Через несколько лет океан вернул его груз – бочки с пальмовым маслом отправителю. Их понесло к Южной Америке, а оттуда к берегам Шотландии.
Ночью 4 июля над водой всплыли четыре блестящие звезды и ряд мелких, образующих две пересекающиеся линии. Это был Южный Крест.
На корабле начался тиф. С колосниками на ногах опустили в океан умершего девятнадцатилетнего астурийца, ехавшего в Новый Свет за счастьем. Капитан решил вести корабль в ближайшую южноамериканскую гавань.
13 июля показались крутые берега островов Табаго и Тринидада.
16-го они увидали город, похожий на Тулон; над ним высились горы, до самых макушек покрытые лесом.
Это была Кумана.
Жизнь всеобоживляющая
За двадцать пиастров в месяц Гумбольдт и Бонплан сняли домик. Им прислуживали две негритянки.
Друзья почти не бывали дома. Они гуляли по улицам, где изгороди из кактусов огораживали дворы. В крепостном рву жили крокодилы. Часть города была в развалинах – память о землетрясении 1797 года.

Карта путешествия Гумбольдта по Южной Америке.
Друзья видели кокосовые пальмы, пизанги, поинцианы с букетами ярко-красных цветов и целую толпу растений, которых не было ни в одном ботаническом справочнике. «Какие деревья! – восклицает Гумбольдт. – Какие цвета птиц, рыб, даже крабов – небесно-голубых и желтых! Страна настолько неизвестна, что только два года назад описали новый ботанический род. А это огромное дерево – мы его нашли сразу после приезда – шестьдесят футов высоты, с тычинками длиной в дюйм…»
Растительная жизнь вырывалась изо всех пор этой вулканической земли. Камень, положенный вчера, сегодня исчезал в зеленой пене безыменных трав.
«Мы бегаем, как дураки. Первые три дня ни за что не могли взяться. Бонплан уверяет, что сойдет с ума, если чудеса не прекратятся…»
Вечерами зажигались огромные тропически звезды. Венера казалась радужным кружком. Она светила, как маленькая луна, и при ее свете Гумбольдт разбирал деления на своем секстанте. Он записал:
«Я чувствую, что здесь буду очень счастлив».
4 сентября Гумбольдт с Бонпланом выехали в область каймасских индейцев.
Из почвы били ключи. В морщинах стволов гнездились орхидеи. Временами яростные, хриплые крики потрясали лес. Путешественники осторожно двинулись на крики. Кричала птичка величиной с дрозда. Ее гнездо, напоминавшее бутылку, висело на самом густом и высоком дереве.
Быть может, здесь Гумбольдту впервые и пришла в голову мысль о «всеоживленности» поверхности земли.
Жизнь! Что значат рядом с нею тощие Схемы Линнея, пыльные томы Гесснера, даже грядки с «естественными отрядами» растений, устроенные в Парижском ботаническом саду Жюссье, садовником республики?
«Куда ни обратит свой взор естествоиспытатель, везде встречает он жизнь или зародыш, способный произвести ее».
Однако леса, где думал Гумбольдт о всеоживляющей жизни, не были девственными лесами. Деревья расступались, открывая хижины среди сахарного; тростника, пизангов и кукурузы. Индейцы, голые или с повязкой на чреслах, трудились в поте лица на плантациях. По воскресеньям они крестили лбы, как выучили их добрые отцы, которым, впрочем, и принадлежал урожай земных плодов, выращенных краснокожими чадами.
Монастырь Карипе был административным центром местности. Католические падре играли большую роль в системе испанского управления колониями.
Старый приор удивлялся, как можно совершить столь далекий путь ради раскалывания камней и натыкания бабочек на булавки. Крепкокостый и меднощекий, он дал понять, что ничуть не верит, будто гости пересекли океан, чтобы размахивать сачками и отыскивать окаменелости.
Гумбольдт обезоружил его своей любезностью. Дело закончилось сытной трапезой.
– Камешки, бабочки, булавки, – бормотал приор. Медные щеки его пылали; он походил на седобородого бронзового Вакха. – Мы живем в местах, где наши поучения охотнее повторяют попугаи, чем индейцы. Но что такое скука, мы не знаем. Я скажу вам, вы сейчас молоды, но потом вы поймете. Хорошо изжаренный кусок свинины – большая радость. В этом видна благость господня. Ибо по его неизреченной милости мы никогда не лишены этого наслаждения, простого и – не надо кривить душой – прекрасного.
В долине Карипе зияла пещера Гуахаро. В индейских поселениях о ней рассказывали легенды. Проникнуть до конца пещеры не решался никто.
Гумбольдт и Бонплан вошли в пещеру. Они спугнули тысячи ночных птиц. Хлопанье их крыльев и крики под низкими черными сводами казались оглушительными. Помет сыпался дождем.
В воздухе Куманы появился красноватый пар. Густой туман окутал город и порт. Ночью удушливый воздух издавал, как показалось Гумбольдту, слабый серный запах.
Раздался подземный удар. Стены заколебались. Гумбольдт был в числе немногих, не поддавшихся панике. Он следил за стрелками компаса и электроскопа, за поведением животных – на них все виднее, чем на людях, – и, наконец, за самим собой. Впоследствии он записал: «С детства мы привыкли, что подвижна вода, земля – неподвижна. Во время землетрясения чувствуешь нечто вроде пробуждения. Одно мгновение уничтожает иллюзию целой жизни. Впервые видишь перед собой неизвестную силу. Впервые не доверяешь той почве, по которой так долго ходил. Землетрясение кажется чем-то вездесущим, беспредельным. От потока лавы можно уйти. При землетрясении же, куда ни беги, все оказываешься над самым очагом гибели».
Через восемь дней Гумбольдт и Бонплан стали свидетелями другого поразительного явления. Это был, ставший знаменитым после Гумбольдтова рассказа, дождь падающих звезд 12 ноября 1799 года. Гумбольдт впервые научно описал встречи Земли с гигантским метеорным роем. В течение трех часов небо бороздили пылающие полосы. Метеоры сверкали белым светом, рассыпая зеленоватые хвосты.
Гумбольдт предсказал, что огненные дожди должны периодически повторяться, ибо орбита Земли пересекается с орбитами метеорных роев, и моменты встреч могут быть вычислены.
Эта мысль вошла в азбуку астрономии. А в сотни учебников и хрестоматий вошла картинка, изображающая Гумбольдта и Бонплана на фоне неба в огнистой штриховке.
Но объяснение, данное Гумбольдтом, ставши азбучным, сделалось почти безличным. Нужно отвлечься от нашего современного уровня знаний, чтобы представить себе все значение сделанного Гумбольдтом. И в этом случае и во множестве других.
Между тем приближалось время дождей. Воздух терял прозрачность. Ночами звезды светили тускло.
Оставляя Куману, Гумбольдт испытал тоску разлуки.
Каракас [4]4
Нынешняя столица Венесуэлы.
[Закрыть], закрытый вечерним туманом, напомнил ему о пейзажах в горах Гарца.
В Каракасе он провел два с половиной месяца. Поднимался на гору Силлу, не слишком высокую, но на ней, как уверяли Гумбольдта, никто до него не был.
На лугах, у вершины, среди ежевики и желтых цветов, напоминавших лилии, Гумбольдт тщетно искал альпийские розы. Их не было во всей Южной Америке. И только потом, на плоскогорьях Мексики, он нашел розу Монтесумы.
Местностью «проклятой», по выражению испанских резидентов, путешественники отправились на запад. Они видели поля, дававшие урожаи сам-двадцать, и озеро Валенсию, вокруг которого хищнически вырубали роскошные леса. «Природа, – записал Гумбольдт, – раскрывает свои тайны и свою красоту только перед тем, кто способен понимать их».
Около фермы Барбула Гумбольдт, первый из натуралистов, увидел и описал коровье дерево. Оно росло на скале, листья его были сухи и жестки и казались мертвыми. На восходе солнца к дереву сходились индейцы. Они просверливали кору. И белый, густой, сладковатый сок лился в тазы и сосуды из тыквы. Одни пили молоко тут же, другие уносили его в хижины для своих детей.
В Порто-Кабелло остановились на несколько дней.
Отсюда предстояло двинуться в глубь страны, почти неведомой. Резиденты в Порто-Кабелло, как раньше в Каракасе и в Кумане, отговаривали обоих путешественников. Их пугали и желтой лихорадкой, и ягуарами, и дикарями. Резиденты жались к морским берегам. О внутренних областях они не знали почти ничего.
Золотая страна Эльдорадо
Степи были как море. Волны ветра пробегали по злакам, крошечным мимозам и «сонным травам», сжимавшим листья, когда их касался человек или животное.
Крапчатые олени, похожие на козлов, поднимали из травы морды и нюхали воздух. Кое-где группами и в одиночку росли пальмы. Литые шары деревьев какао бросали черную тень; издали в воздухе, струящемся от зноя, их можно было принять за черные шатры стойбища кочевников, мимо которого проносятся призрачные стада.
Сухой треск цикад сыпался из высоких трав. Жизнь, кишевшая в них, давала о себе знать шорохом, писком, свистом птицы. Иногда выкатывалась, словно выброшенная расступившейся водой, тупорылая морская свинка и в беспомощном испуге топталась на месте. У ручьев находили широкие, как блюдечки, следы ягуара. Лента, выдавленная на рыхлой земле, указывала, что тут проползла змея.
На юге громоздились облака, белые и крутые, как меловые горы.
В этих необозримых степях – льяносах – жили скотоводы. Их тростниковые хижины, покрытые воловьей шкурой, были отделены друг от друга двадцатью четырьмя часами пути. Льяносы стлались от Каракаса до горного кряжа на юго-западе, который конкистадоры, залитые кровью, некогда назвали «Прекрасным местом Вечного мира».
Днем небо было голубым, почти синим. Ночью, когда зажигались звезды, Гумбольдт видел недалеко от Южного Креста тусклое сияние Магеллановых облаков.
Магеллановы облака! Поверье о них сложилось давно, еще тогда, когда первых испанских завоевателей поразило это сияющее скопление звездной пыли, невидимое в Европе. Как, в чьей голове родилась нерушимая уверенность, что это отблеск Эльдорадо – скалы серебра и золота, скрытой в горах Париме, на южной границе льяносов?
Люди шли за обманчивым огоньком легенды об Эльдорадо.
Шли авантюристы и конкистадоры в шлемах и панцирях, с мушкетами, мечами и лопатами, глядя на золотые Магеллановы облака на южном небе.
Они не могли дойти до Эльдорадо, как не могли дойти и до звездных облаков. Люди гибли. Тропические ливни омывали их кости. Миновало два столетия – и охотники за золотом, смелые, алчные, жестокие, углублялись по-прежнему в льяносы, навстречу звездным облакам. Вместо шлемов они несли с собой географические карты отцов-иезуитов. Там была обозначена золотая скала среди Паримского озера, обширного, глубокого, как море, и золотой город Маноа на ней. И даже мадридским министрам снился плеск его волн и нестерпимое сверкание золота… О, если бы осенило оно нищую и дряхлую кастильскую корону! В 1775 году кабинет принял решение покончить, наконец, со всеми тяготами и неприятностями, так обильно выпадавшими на долю пиренейской монархии. Найти Эльдорадо! Снова сотни солдат тяжелым шагом двинулись через льяносы. Они не пришли обратно. И мечта трех столетий – золотая птица Эльдорадо – так и осталась не пойманной…
Это случилось всего двадцать пять лет назад. Гумбольдт шел к Сьерре Париме по пути испанских солдат. Но не сказка об Эльдорадо интересовала его. Он смотрел и считал, определяя по цианографу степень синевы темно-бирюзового неба. Земля горьких трав и серебристых злаков, безлесная земля льяносов делала небо сухим и прозрачным, как протертая линза. Дальше к югу оно мутнело. Туда долетало влажное дыхание великого леса, еще невидимого.
Земля и небо – это опять отчетливо увидел Гумбольдт – были связаны.
Восприятие мира у Гумбольдта было по преимуществу зрительным. Ни звуки, ни запахи для него не характеризовали природы, музыки он никогда не любил. Его картина мира и в этом отношении резко отличалась от картины мира поэтов-романтиков, «Лучшее описание мира, – говорил он, – есть то, при котором ухо обращается в глаз».
Огромные косяки диких мустангов пересекали дорогу каравану. Они срывались в галоп, ломая низкие заросли пальмы мавриции. Из сердцевины этой пальмы индейское племя гуаранов делало круглые хлебы. Сок гуараны сбраживали в вино. В дорогу брали плоды. Из лиственных жилок плели ткани. Из стволов строили хижины. Одна эта пальма могла прокормить, одеть и защитить от непогоды человека. Какое богатство природных возможностей, – и какая пустыня, какая нищета редкого бродячего населения, таящегося, как звери!
Он смотрел и считал.
В гербарий должны были войти, насколько это удастся, все образцы растительного мира. Но надо не просто привезти в Европу диковинку, а отыскать и указать связь между организмом и местом его обитания, – для Гумбольдта такая задача казалась сама собой очевидной. Она вытекала из той картины мира как целого, которую он видел и которая повелительно требовала искать, изучать всеобщие связи.
До Гумбольдта так не делал никто. Да и долго после него с такой точностью делали немногие. Гумбольдт помог научной географии растений выйти из младенческих пеленок.
Бонплан оказался идеальным спутником. Он был весел, в нем горел энтузиазм коллекционера. Он мог целыми днями собирать листья, ветви и цветы, весело балагуря, в то время как Гумбольдт с помощью барометра определял высоту того места, где найдено растение, отправляемое в гербарий.
Бонплан преклонялся перед Гумбольдтом, перед его неистовой работоспособностью, его умением видеть связь всех вещей.
Но зато Бонплан чувствовал себя как дома среди цветов, стеблей, крон неведомых деревьев, похожих на шатры, и среди ножниц, клея, бумажных листов и деревянных ящиков для ботанического гербария.
Друзья дополняли друг друга. Дополняли и в том, что Бонплан был беден, Гумбольдт богат; путешествовали на средства Гумбольдта.
Общей у них были живость характера и потребность друг в друге; и ясными вечерами оба они одинаково не жалели о том, что Магеллановы облака, более далекие, чем самые дальние звезды, никак не могут отражать блеска золотой страны – Эльдорадо.








