Стихотворения и поэмы в 2-х т. Т. I
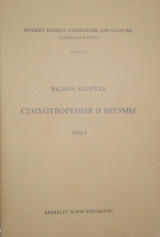
Текст книги "Стихотворения и поэмы в 2-х т. Т. I"
Автор книги: Вадим Андреев
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
«О грязца неземная трактира!..» [32]32
Моя горбоносая ночь – это ты!
Профиль отца и бессонница.
Мне памятна рухнувшая с высоты
Образов дикая конница.
Мне памятна ночь и в ночи – этот шаг
Прерванной повестью схвачена,
Растерянно входит слепая душа
В смерч для нее предназначенный.
Легчайшая знает – бороться не в мочь
С ветром, безумьем и тучами.
Твой профиль секирой врезается в ночь,
Ночь отступает, измучась.
Но ластится тьма, но не кончен рассказ.
Ночь ни на чем не основана.
И снова над серыми ямами глаз
Горечь морщины безбровной.
Мне памятен шаг за стеной. О мое
Детство, и ночь, и бессонница.
Вот снова ломает копье о копье
Образов отчая конница.
«О грязца неземная трактира…» – Я.
[Закрыть]
«Гляди: отмирает и все ж накопляется бремя…»
О грязца неземная трактира!
О бессмертная пыль у ворот!
Для кого эта голая лира,
Надрываясь, скрипит и поет?
Вновь шарманки старушечье пенье,
Вновь сухие ползут облака,
Вновь заборов пустое смятенье
И шлагбаумов желчь и тоска.
Этот мир – вне покоя и срока,
Этот мир неподкупной мечты,
Этот мир – лишь бессонница Блока,
Неотвязный позор пустоты.
«Время, прости! Облачк она закате…»
Гляди: отмирает и все ж накопляется бремя
Стихов и метафор – листвы у подножья ствола.
И в тех, что легчайшею молью затронуло время,
Зеленая жизнь незаметно уже отбыла.
И медленный ритм, так похожий на ритм Мандельштама,
Не мне одному указует на тонкую сеть
Прожилок и жил и на образы те, что упрямо
Живут, превратившись в прозрачную, милую медь.
Но в двадцать четвертую осень мою это бремя
Покойных стихов лишь слегка, лишь слегка тяготит.
Не знаю, что будет со мною, когда между теми
Листами увижу, что образ последний лежит.
«На гладкий лист негнущейся бумаги…»
Время, прости! Облачк она закате.
Смотрим жемчужной разлучнице вслед.
Уже и уже от долгих объятий
Солнца чуть розовый – там – полусвет.
Там, – над отливом, над морем, над пеной,
Там – и над крабьими спинами скал, —
Над горизонтом, – прозрачной и тленной
Тенью, – лишь ты – вне земли и песка.
Мир и земля, даже этот осколок
Камня, и я, мы запомним легко
Небо вне времени, сосны и смолы,
Море и талое – там – облачк о.
А. Гингеру
«Отстаиваясь годы, годы…» [33]33
На гладкий лист негнущейся бумаги
Какая сладость нанести, спеша,
Излучины, заливы и овраги,
Моря, к которым ластилась душа.
И островов растерянную стаю,
И широту и долготу земли —
Но вот уже на горизонте тают
Отчаливающие корабли.
Обратных парусов тугое трепетанье,
В лиловый мрак ушедшая земля.
Опять нас к новому ведет свиданью
Суровая походка корабля.
Не так ли мы на смертном, милом ложе,
Спеша, наносим карту наших дней
И доверяем нашу душу дрожи
Потусторонних и тугих огней.
«Отстаиваясь годы, годы…» – ВР, 1926/1927, № 12/1: под названием «Вино».
[Закрыть]
«Тупым ножом раздвинув створки…»
Отстаиваясь годы, годы,
В плену стекла и сургуча
Живут наследники свободы
Два черных, солнечных луча.
Страшась блаженства и покоя,
Стеклянным пленом тяготясь,
Набухнув нежностью слепою,
С подвальной мглою распростясь,
Густой струей, на край бокала,
Как бархат, – опершись слегка,
Пожаром влажного коралла,
Течет бессмертная река.
Так мы храним вдали от взоров
Земную молодость, но вот,
Преодолев покой затворов,
Она, расплавившись, течет.
А. Присмановой
Осина («Бог наложит к слою слой…») [34]34
Тупым ножом раздвинув створки
У чуткой раковины, мы
Находим в маленькой каморке
В перегородках влажной тьмы,
Немного призрачного ила,
Дыханье скользкой глубины,
Лучом подводного светила
Чуть озаряемые сны.
И вот, почти прозрачным шумом
Вдруг наполняется, спеша,
Всей нашей комнаты угрюмой,
Неразговорчивой, – душа.
Вот так же, чуть раздвинем створки
Неплотно пригнанных стихов,
Как в нашей слышится каморке
Незримый шорох голосов.
Осина – С2.
[Закрыть]
«Шахматы ожили. Нам ли с тобой совладать…»
Бог наложит к слою слой
В тесном мире древесины,
В мире, замкнутом корой,
В мире дрогнувшей осины.
Тишина на самом дне
Мира без дверей и окон
Расцветет в гнилом огне
Темно-розовых волокон.
Недоступна взорам смерть.
Лишь дрожит, шурша листвою.
Мира призрачная твердь
И лицо его земное.
Теплым мехом ляжет мох
Согревать огонь прохладный,
И протяжный стынет вздох
Перед темнотой громадной.
Д. Резникову
«Чаинки в золотом стакане…»
Шахматы ожили. Нам ли с тобой совладать
С черным и белым безумьем игры?
Мы не должны, мы не можем, не смеем собрать
И помешать им играть до поры.
Кто их сокрытую волю расторг и отверз?
Слышишь размеренный топот коней?
Мечется вдоль по квадратам грохочущий ферзь
В поисках черной подруги своей.
Ты вовлекаешься в эту слепую игру
Пешек, слонов, королев, королей.
Вижу, я вижу, – ты гладишь вспотевшую грудь
Взмыленных черных и белых коней.
Медленно, в пол-оборота ко мне обратясь,
Ты на себя надеваешь узду.
Ты как подарок берешь эту темную страсть.
Верно, я скоро к тебе подойду.
Улитка («Твой хрупкий и непрочный дом…»)
Чаинки в золотом стакане —
О влажный, выпуклый огонь!
Касается стеклянной грани
Чуть напряженная ладонь.
Огонь неуловимый пролит,
И жизнь на блюдце замерла:
Умрут от воздуха и боли
Чаинок влажные тела.
Чаинка, жизнь моя, ужели
И ты судьбой осуждена
Упасть из огненной купели
На край фарфорового дна?
«Строжайшей нежности вниманью…»
Твой хрупкий и непрочный дом
На выгнутой прозрачной спинке
В дыханьи влажном и густом
Ползет по чешуе корзинки.
Безглазая! Два лучика твоих
В тревожном воздухе не могут
Среди товарок, слабых и слепых,
Найти свободную дорогу.
Душа! среди тревожных слов
Твой путь, твой день, должно быть, краток.
Что могут лучики стихов!
Чем ты предотвратишь утрату!
«Эх, балалайкою тренькай…»
Строжайшей нежности вниманью,
Винтовка, ты передана.
Невестою обряжена
И приготовлена к свиданью.
Тебя прозрачною фатой
Окутает бездымный порох.
Ты жениха найдешь в просторах,
В прицельной рамке кружевной.
Поет над головой струна,
И брызжутся камней осколки.
Изменница, невеста, стольким
Ты в тот же день обручена!
«Лазурный ветер благостыни…»
Эх, балалайкою тренькай,
Плачь, неземная струна!
Здесь, у скамейки, маленькой
Тенором вторит весна.
Прячется за парапетом,
Там, над пустою Невой,
Отблеск вечернего света,
Отблеск совсем голубой.
Милая, милая, вдосталь,
Милая, нам до зари —
Там, у высокого моста
Гаснут с зарей фонари.
Спрятался месяц за тучку,
Больше не хочет гулять.
Дайте мне правую ручку
К пылкому сердцу прижать.
«Firenze divina! О pallida seta!..»
Лазурный ветер благостыни,
Небесной, емкой высоты —
В моей отторженной пустыне
Неукоснительней мечты.
О неповторная неволя,
Беленый, скучный потолок, —
Где ты, растрепанное поле
Цветов, волос, и губ, и строк?
Звезда наперсница свиданья,
Слепой покой монастыря,
О похладевшее лобзанье
И лжесвидетельство – заря!
Гляжу на неповторный иней —
О свет тлетворной пустоты,
О ножки, ножки, – где вы ныне,
Где мнете вешние цветы?
«Венеция! Наемный браво!..»
Firenze divina! О pallida seta!
О палевый шелк, облачко и закат,
И с севера брызжет лазурного света
Стремительной болью, в глаза, водопад.
Рвется томительный дым у подножья,
Хлещет огонь о бока.
Выше, костер! И простерта над ложью
Шелка – слепая рука.
Савонарола! Неистовство пепла!
Савонарола! И верой слепа
Болью, любовью гудела и слепла,
Билась толпа,
Точно огнем, озаренная страхом.
Верой сжигавший – сожжен.
О проповедник – и с огненной плахи
Каменный лик – в небосклон.
И тень налегла.
Но от века одета
Флоренция в палевый, облачный шелк.
Firenze divina! О pallida seta!
О память – в веках отдающийся голк.
«Неугомонный плащ и пистолетов пара…»
Венеция! Наемный браво!
Романтика и плащ, и шпага,
Лагун зеленая отрава —
Век восемнадцатый – отвага!
Венеция, невеста, вашим
Быть постоянным кавалером.
Адриатическая чаша
И теплый ветр над Лидо серым.
И бегство, – бегство Казановы,
Свинцовых крыш покатый холод.
Венеция! Последним словом,
Как ночь к плащу, – я к вам приколот.
ПОСВЯЩЕНИЕ
Пред Вами полтораста лет,
Послушные, сгибают спины.
Лагун и дней тогдашних свет
Знаком в глазах Марины
Цветаевой.
«Одичалые, русые косы…»
Неугомонный плащ и пистолетов пара
И снежной пылью пудренный парик.
Душа – несвоевременный подарок
И времени понятный всем язык.
Сквозь жизнь, сквозь ветер,
Сквозь пепел встреч
Единственную в свете
Не сметь
И не суметь сберечь.
Так, так, – вон там, из глубины зеркальной
Мелькнувшее в последний раз, – прощай.
Полсотни лет! Полет первоначальный
Его неугомонного плаща.
Сквозь жизнь, сквозь ветер,
Сквозь пепел встреч
Единственную на свете
Не сметь
И не суметь сберечь.
Полсотни лет! Там, в воздухе, недвижен,
Там, на стекле, чуть уловимый след.
Воспоминание! Что день, то ближе
Неумолимых дней великолепный бред.
Сквозь смерть, сквозь ночи,
Сквозь пепел лет
Все тот же почерк —
Oh, tu oublieras Henriette.
Невольник памяти! Он тот, кто верен
Сквозь жизнь и смерть – бессмертнейшей Henriette.
Что эта жизнь? Легчайшая потеря
Старинного плаща, и мира нет.
***
Это имя знакомо всякому,
Кто в мире, как он, – иностранец.
Джакомо
Казанова —
Венецианец.
«Воронье твое оперенье…»
Одичалые, русые косы,
Одичалые гривы коней.
О ночные, холодные росы
По-над волжских, дремучих степей!
Орда моя, звезда моя,
Золотая моя орда,
Голубая ночь и упрямая,
Упрямая моя звезда!
Храп и тяжелая пена,
Рвущийся ветер – пади!
Раковина – белое колено,
Раковина, – погоди.
Вой и плачь – звени, струна,
Пойте, злые удила, —
Ветер бьет, и ветер сыт
Диким топотом копыт.
Не подымешь то, что бросил,
Но осмелишься – и в кровь.
Гололобая и раскосая,
Татарская моя любовь!
Одичалый и пьяный, полынный,
По-над волжский, дремучий простор.
О курлыкающий, журавлиный,
Журавлиный и вольный шатер!
Орда моя, звезда моя,
Золотая моя орда,
Голубая ночь и упрямая,
Упрямая моя звезда.
«Две стрелки, – о на миг, к не новой встрече…»
Воронье твое оперенье.
Воронья, глухая звезда.
О черное вдохновенье.
Взрастившее городя!
Сцепленье гранита и страха!
Пока он безмолвен, восток.
Пока разговорчива плаха.
Куда как беспомощен рок!
О голос бессмысленной тучи!
Он бьется, тяжелый слепень.
Твой ветер, твой волжский, певучий.
Мечтательный стенькин кистень.
О тяжесть державного груза!
Трепещет года и года
Казненной рылеевской музы
Глушайшая в мире звезда.
Сменив николаевский штуцер
На маузер и пенье курка,
Ты белишь в дыму революций
Кирпичные стены Че-ка.
И все же, что может быть слаще,
Чем горькая радость моя —
Твоя от твоих тебе приносяща
О всех и за вся.
«Нам, постояльцам подозрительного дома…»
Две стрелки, – о на миг, к не новой встрече
Приблизит время, и опять они
Ползут, два близнеца, с плечей на плечи
Все тех же цифр, сквозь дни и дни.
Привычный круг без мысли огибая,
Вотще, бессмысленно спеша,
Не перейдет фарфорового края
Часов пружинная душа.
«Мы стряхиваем жизнь, как пепел папиросы…»
Нам, постояльцам подозрительного дома,
Который называется земля, —
Едва ли ведомы и даже вовсе незнакомы
Тяжелый ветр и тяжесть корабля.
Но накануне смерти, все сложив пожитки,
Мы вспоминаем – ах, ах в первый раз —
Две видовых, случайных две иль три открытки
И некий, смерть не заслуживший, час.
«Удостоверься: звездные лучи…»
Мы стряхиваем жизнь, как пепел папиросы,
Мы прожигаем сердце, брюки и жилет,
Но все забыв легко и все заботы сбросив,
Вдыхаем мы дымок сухих и теплых лет.
Когда же дряхлый день на баллюстраду парка
Присядет надолго, ах, насмерть отдохнуть,
Нам обжигает рот пригоркшая цигарка,
И пеплом пахнет жизнь – наш неуютный путь.
«А мира нет и нет. Кружась, отходят звезды…»
Удостоверься: звездные лучи
Не только глазом ощутимы.
К узнанью сердце приучи
Вниманием ненарушимым.
Почувствуй запах их и вес,
Пойми их матерьяльный голос.
Полны вещественных чудес
Скрещенья тьмы и звездных полос.
«Как тяжелы и непокорны тучи!..»
А мира нет и нет. Кружась, отходят звезды,
Бесспорные дряхлеют облака.
О смерти желтая река!
О пустотою пораженный воздух!
Ужели нам иного воплощенья
Обетованного – не обрести?
Бесполая земля, прости,
Мое к тебе сухое отвращенье!
«Податливое колебанье перекладин!..»
Как тяжелы и непокорны тучи!
И эта действенная мгла
Ужель кого-нибудь могла
Не сбросить с вероломной кручи?
Молчит неопытная твердь,
И рвется надвое дыханье.
Я жду: до первого свиданья,
Моя возлюбленная смерть!
«Увы, он бессмертен, рифмованный узел!..»
Податливое колебанье перекладин!
Прикрывшись облаком, мой сон глядит,
Как я карабкаюсь. А ветер беспощаден
И лесенка беспомощно звенит.
Качаясь над тугим пространством, – замираю —
Вот перетрется тоненькая нить,
Вот-вот. – Я это ощущенье называю
Невыносимым словом – жить.
«Тише смерти, тише жизни…»
Увы, он бессмертен, рифмованный узел!
Увы, мы не можем земные покинуть стихи!
Но отданы мы легкомысленной музе
И годы, как голос, вдоль нот отойдут на верхи.
Кто с музой и с жизнью не точно срифмован,
Тот должен покинуть исчерченный наш черновик.
И вместо досадного – новое слово
Суровый и неистощимый отыщет язык.
С. Луцкому
«Так повелось: скрипит упрямый флюгер…»
Тише смерти, тише жизни,
Шаг за шагом – в тот покой.
Все, ах все – в глазах отчизны,
И небесной, и земной.
Поступь звезд грустней и глуше —
Слух протяжен и высок.
Счастье нам, вручившим души
Белому покою строк.
«Вдыхая запах тишины…»
Так повелось: скрипит упрямый флюгер
И север жизни ищет клювом петуха.
Но за позором мглы, покорны праздной вьюге,
Лишь два стиха.
Линяет сердце и – стекает слабой краской
Туда, где места жизни даже не нашлось,
Где два стиха легли скупой повязкой —
– Так повелось.
Е. Комарову
«Что встреча нам, мы разве расставались?..»
Вдыхая запах тишины
И горький, обветшавший воздух,
Бесплотные мы сберегаем сны,
Падучие мы собираем звезды.
И в небольшой горсти лежит
Вся тяжесть голубого мира…
Как с небом неумело говорит
Земная, ниспровергнутая лира.
«Еще! Внимай признательному пенью…»
Что встреча нам, мы разве расставались?
Не мы у времени на поводу.
Словами, друг, немыми мы связались,
И нас ли дни, как стрелки, разведут?
Опять звезда на небе перетлела.
Наш теплый ветер замедляет шаг.
И через тонкий край простого тела
Перекипевшая бежит душа.
«Земли широкие и тяжкие пласты…»
Еще! Внимай признательному пенью
Земной оси – и обвивай плющом
Мои года. И верный вдохновенью
Земли и жизни, ах проси – еще, еще!
Мне ближе всех – о зыблемая радость.
И повторяю я, волнуясь и спеша, —
Останови ее, земную младость,
Впервые без вести пропавшая душа.
«Песком рыдают жаркие глазницы…» [35]35
Земли широкие и тяжкие пласты
Господний меч рассек земные недра.
И ты, как меч, – мой светлый недруг,
Ах, Муза, – ты.
И грудь рассечена. И пахнет солнцем свет
Возлюбленной и вдоволь горькой раны.
Так покидал земные страны
Мои – сонет.
«Песком рыдают жаркие глазницы…» – ВР, 1926, № 3: первая и вторая строки поменяны местами; ЛP3-2: в редакции ВР.
[Закрыть]
«Седая прядь, и руки Дон-Жуана…»
Песком рыдают жаркие глазницы.
На долгом солнце высохший скелет, —
Последний свет пылающей денницы,
И пыль горька, и горек палый свет.
О прах, о жаждой сжатые ресницы,
О кости стен, которым срока нет,
О голый город – долгий, мертвый бред
Любовью тифом вымершей больницы.
Лишь тленье памятно домам Толедо.
В глухие облака беззвездный понт
Дохнул, и ливнем полилась беседа.
На площади, врастая в горизонт,
Смывая запах битв, любви и пота,
Темнее облак, латы Дон-Кихота.
«Атлас и шелк и мертвая рука…» [36]36
Седая прядь, и руки Дон-Жуана
В сетях морщин роняют пистолет.
И в зеркалах зеленый бьется свет —
Самоубийства радостная рана.
Камзол прожжен, и мира больше нет.
И командоров шаг за проседью тумана.
И на земь падает притворная сутана.
И резче стали за окном рассвет.
О Дона Анна! Сладость грешной встречи,
И бутафория – весь закоцитный мир,
И пахнет нежностью нагорный клир,
И лиры вне – стенанье струн и речи.
Так озарит любовью хладный брег
Руководительница мертвых нег.
«Атлас и шелк и мертвая рука…» – ВР, 1926, № 3: варианты в первой строфе –
Атлас и шелк и мертвая рукаИнфанты, умершей задолго до рожденья.Скупая кисть – сухое вдохновеньеИ в мастерской влюбленная тоска. ЛР3.2: в редакции ВР.
[Закрыть]
«Склоненные рога, песок и ссора…»
Атлас и шелк и мертвая рука
Инфанты – смерть задолго до рожденья.
Сухая кисть – сухое вдохновенье,
И в мастерской протяжная тоска.
Карандашом запечатлев мгновенье,
Услышать ночь у самого виска,
Услышать, как, стеная, с потолка
По капле капает ночное бденье.
О в ту же ночь повержена громада
Всех корабельных мачт, снастей и звезд —
Ветрами победимая Армада.
На аналой склонясь, ломая рост
Часов – о сладость каменного всхлипа —
Молитва – долг безумного Филиппа.
«Еще любовью пахнет горький порох…» [37]37
Склоненные рога, песок и ссора
Плаща с быком – толпы и рев и плеск,
И тонкой шпаги неповторный блеск,
И смерть поет в руках тореадора.
В горах костра неугомонный треск.
Три карты – смерть. И не подымешь взора.
И после шпаг – язвительнее спора
Победных кастаньет голодный всплеск.
Любовь, любовь, сомкнувшая запястья!
И кисти рук, вкушая ночь и плен,
Изнемогают от огня и счастья.
И ревности и горести взамен
Поет вино в таверне Лиллас-Пастья,
И падает убитая Кармен.
«Еще любовью пахнет горький порох…» – СП, 1926, № 12/13: под названием «Сонет».
[Закрыть]
«В огне и дыме буйствует закат…» [38]38
Еще любовью пахнет горький порох,
Еще дымится теплый пистолет,
Еще звезда хранит тугой рассвет
И туч растерянный и долгий шорох.
Еще – и не забыть суровый бред,
И в чернореченских скупых просторах
Снега, и стольких лет смятенный ворох,
Глубокий, снегом занесенный след.
Еще, – ах снежной пылью серебрится
Слегка его бобровый воротник,
И утром невообразимо дик
Покой непробудившейся столицы,
И слово смерть – в конце земной страницы
Коснеющий не вымолвит язык.
«В огне и дыме буйствует закат…» – ВР, 1928, № 2: под названием «Сонет».
[Закрыть]
«На первом повороте – ночь. А там…»
В огне и дыме буйствует закат,
Скелет звезды в тоске ломает руки,
И плачет он. Сухая тяжесть муки
Безмолвием умножена стократ.
Но оглушенные, немые звуки
Ползут, и за окном тяжелый сад,
Одолеваемый, – проснуться б рад
И вырвать ночь – из-под покрова скуки.
Зачем душа безумствует моя?
Непостижимого небытия
Великолепное недоуменье.
По желобу стекает ночь. Рука
Опустит ставень. Снова облака
Плывут, как прежде, в ночь, без возраженья.
ПОСЛЕ СМЕРТИ [39]39
На первом повороте – ночь. А там,
За неизбежным поворотом – снова
Привычный хаос бытия земного
Прищурился, и кажется, что нам
Не одолеть вращенья карусели,
Что мы, наверное, осуждены
Толпой войти в безобразные сны
Земной, мимоструящейся метели.
Но вдруг протяжно взвоют тормоза
И остановится сердцебиенье,
И центробежный устремится ток,
И в широко раскрытые глаза,
Одолевая головокруженье,
Ворвется желтый, солнечный поток.
После смерти (1–3) – ВР, 1928, № 2.
[Закрыть]
Огонь, слегка метнувшись, потухает
Не сразу загустеет воск свечи,
И золотая капелька стекает
И мертвые с собой влечет лучи.
Душа – ты капля золотого воска,
Путеводительница корабля, —
Там, за бортом, покинутая роскошь
Твоих полей и запахов, земля.
Душа, путеводительница белых,
Большим пространством вздутых парусов,
Душа, ведущая корабль тела
Вдоль призрачных и медленных валов.
Кто смертью назовет мое томленье,
И паруса, и ветр, и этот путь,
Исполненный такого вдохновенья,
Что я не в силах прошлого вернуть.
Душа, о капля стынущего воска,
Ты телу путеводная звезда,
Когда оно, забыв земную роскошь,
Уходит в призрачные холода.
Судьба работает в убыток:
Напрасно силится она
Лучистый выплеснуть напиток
Упокоительного сна.
По смерти, вдруг, как бы спросонок,
Освобождается, спеша,
От надоедливых пеленок
Неугомонная душа.
И память, стертая до лоска,
Не сохранит для новых бурь
Удушье ладана и воска
И эту бедную лазурь.
Летит, в пространства тяготея
И от земли оторвана,
Разбуженная Галатея,
Поработительница сна.
ИЗ КНИГИ «ОБРАТНЫЕ ПАРУСА» (1925)
Воздух розовый и ломкий,
Твердь последней высоты.
Влагу золотой соломкой,
Сердце, тянешь ты.
И моей холодной крови
Остывающей струя
Оборвет на полуслове
Скуку бытия.
Вот, просторным дуновеньем
Невесомого крыла,
Ты над смертью и забвеньем
Медленно взошла.
Видишь, милая подруга,
Время замедляет шаг,
Видишь, из земного круга
Улетевшая душа!
Брониславу Сосинскому
Вытканные ветром горизонты кровель,
Фокусники сердца – флюгера.
Цоканьем копыт, пульсированьем крови
Стянутый, глухонемой парад.
Искони: обоев нет и подоконник —
Праздный суевер, скупой предлог.
Пальцами перелистать посмертный сонник,
Как закладку, выкинуть тепло.
Слышишь мертвое, как морг, дыханье, —
Из-под кожи – запах кумача.
Медленный покой. Священное Писанье
Теплого, как тело, кирпича.
И ночь стекла – о стеклый жир жаровень,
Жаворонком просыпавшаяся листва!
Перелистал, как ноты, – дни Бетховен —
Симфонии девятый вал.
Два близнеца, два пика Эльборуса,
Где осенью просеяли метель,
Ты в небо уронила наши бусы,
Не доверившись иной мете.
Смятенье, оскалившиеся скалы,
За тучами, внизу, Азербайджан.
Но и над этим снегом талым
Ресниц – ты все же госпожа.
И озарясь и озираясь, – зорче, зорче,
Уже добрел до бреши бред —
Ты сердце, точно раковину створчатую,
Девятым валом выплескиваешь на брег.
Ковшом черпала ты для чернецов и черни
Моей языческой музыки зык.
Любимая, ты только виночерпий
Начерно написанной грозы.
И ночь стекла.
Мы на океанах и на материках чужане,
Любовники-расстриги мы в любви.
Ветшающему солнцу милой дани
Мы не принесли в сухой крови.
Мы узкой скукой мерим на аршины
Предусмотрительные наши дни
И мимо, мимо – властолюбивые глубины
И опустошающие ночь огни.
Когда, как нянька, жизнь за руку
Внимательно ведет весна, —
Как перескажешь совестливую скуку
Неукоснительного сна?
Оскудевают милые слова,
И славой чванится твоя усталость.
Еще немного нам осталось
Словами славу целовать.
Но ты и ты – славянский говор, озимь,
Сладчайший Ильмень. Милая, покой
Над невозможною рекой —
Твои слабеющие слезы.
Твой мирный свиток и твой мерный меч,
И плаха хвоей мне щекочет щеки.
В последние, в сухие строки,
Мне, как в любовь, дано залечь.
Совиный ветер, соловьиное свиданье,
В последний раз поют перепела.
Ты в озимь зябкую вплела
Заупокойное метанье.








