Стихотворения и поэмы в 2-х т. Т. I
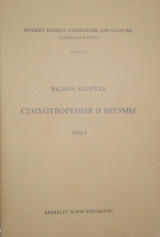
Текст книги "Стихотворения и поэмы в 2-х т. Т. I"
Автор книги: Вадим Андреев
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Б. Сосинскому
В знакомой комнате пустая мгла,
И в серой пепельнице пепел серый.
Привычный путь: от темного угла
До нескрипучей двери.
Железный ключ – закушенный язык —
Не повернуть – немыслимое бегство.
Лишь отчество со мной, слепой двойник,
Непреодолимое наследство.
Жизнь – за стеклом, за окном двойным.
Стекла – заплаканные щеки.
Заплесневелых улиц дым,
Как ненаписанные строки.
Привычный путь: лишь три шага. Молчу.
Мир за окном, как грузная громада.
Идут минуты: плечо к плечу,
Плечо к плечу – солдаты с парада.
Обруч – мое косноязычье.
Слова, как слипшийся комок.
О боль повторять по привычке
Только мертвую тень строк!
И точно плаха и пытка,
Скудных стихов тетрадь.
Душный, душный напиток
И пленные ветра.
Ночь – надоедливый нищий —
Снова, снова застой слов.
Напрасно бессонница ищет
Неповторимое слово – любовь.
Падай, падай тяжелым камнем,
Падай, падай на дно реки
Непобедимая память,
Черный, каменный крик.
«Там, наверху, широкоплечий день…» – Н, 1924, 27 января (№ 22).
[Закрыть]
Там, наверху, широкоплечий день
Привязан к палубе тугим причалом.
Северный ветер – рваный ремень
Серое море – конь чалый.
Я вижу там только узкий люк
И грузных туч рваные космы.
Мне кажется, что пальцы черных рук
Точно корни выкорчеванных сосен.
Сорву с защелки тяжелый болт,
Сжимая мускулы и скулы.
О раскаленная, темная боль,
Ржавый трюм и борт сутулый.
Уйду на дно – свинцовый час, —
Глотая едкий дым и пену.
И кровь с разбитого плеча
К обугленным прилипнет стенам.
«Над морем мутная, тусклая мгла…» – Н, 1924, 27 января (№ 22).
[Закрыть]
Над морем мутная, тусклая мгла.
Рыжий парус рвет облака.
Черную ночь надо мною дугою свела
Чья-то чужая рука.
Удар за ударом в смоленый борт.
Волна за волной взмет, взлет.
За высокой кормой большой багор
По воде с налету бьет.
За бугшпритом ночь черна.
Пенится пенный бег.
Ни одна звезда не видна,
Ни одна сквозь мокрый снег.
Мне навстречу холодный норд-ост
Бросает седые гребни.
Я, пьяный от ветра матрос,
Проглядел маяков огни.
[1923]
Ледокол, ломая грудью льдины,
Всползает на полярные поля.
Костлявые, ледяные спины,
Преломляющие каждый взгляд.
Дрожат гитарой борта от пара —
Струны вант тронул дым.
Над кормой золотой огарок,
Трудный всплеск мертвой воды.
О, как режет седое сиянье
Налегший всей грудью мрак.
Жизнь – набухающее восстанье —
Сцепившиеся в реях ветра!
«Скупая тишина – голодный скряга…» – MB.
[Закрыть]
Скупая тишина – голодный скряга.
Летящие над городом поезда.
От бьющихся колес вздрагивать —
Переплетенных стрелок сталь.
Ломая мрак, как бурелом копытом
Ломает перепуганный конь,
Пролететь над хребтами перебитыми
Крыш на семафорный огонь.
А потом вниз, в зев бреши,
В четырехугольную пасть.
Там, за окнами запотевшими,
Звезды захотели упасть.
А когда тишина под землею
Захлебнется гулом, точно водой,
Бросится скачущими перебоями
Сердце в перегонки с туннельной стеной.
Камень – нем, а память камень,
Немая глыба тяжелых строк.
Всклокоченный дым и низкое пламя,
Память! – неизлечимый ожог.
Никогда не забыть. Никогда не высказать.
Не поднять под тяжестью плеча.
И только знать, что близко, близко
Последний, непреодолимый час.
А после смерти все вспомнить наново.
А после смерти не болит плечо.
И пусть над гробом звенит неустанно
Веселой чечетки четкий чок.
Недостроенных лет почерневшие стропила,
Известка просыпанных дней.
Облаков вздувшиеся жилы
В фосфорическом гнилом огне.
Дождь ослеп и бьется в испуге
Кликушей о красный кирпич.
Если б стянуть этот мир подпругой
И дубленым ремнем скрепить!
О как дышат бока от бега —
Это не конь, это целый табун.
После гололедицы тающим снегом
Прижечь разодранную губу.
Но топор туп и подковы сбиты.
Опоенный конь. Недостроенный дом.
И сердце мое под копытом,
Как кровоподтек под бинтом.
«Рогожей прелою покрыта конура…» – Н, 1924, 3 февраля (№ 28).
[Закрыть]
Рогожей прелою покрыта конура.
Как шерсть дворняжки войлочные тучи.
На мокрых сучьях косолапый страх
Плетет плетень паучий.
Я выползу на грязный двор.
Мне мир покажется загнившей лужей.
И ночь, взглянувшая в упор,
Затянет тьмою горло туже.
Запомнят уголья-зрачки
Ржаной и ржавый месяц над собою.
И кисть раздробленной руки
Услышит сердца перебои.
А к утру неуклюжий труп
Вспугнет тревожные шаги прохожих.
И будет биться на ветру
Мой саван – прелая рогожа.
Скученных туч нависшая скука,
Вылущенной тоски оскал.
Не посох – клюка и сухие руки
И содранная кожа у виска.
Белый воск на лбу и бинт засален.
Зачитанные дни от доски до доски.
Не высушит весна солнцем сусальным
С прошлого года неубранных скирд.
Стужа и проголодавшийся омут.
Тучный и тусклый навес туч.
Я знаю, что сердца нету дома
И что скука не спит на посту.
Небо – захлестнутый капкан лучей —
Чертеж, вычерченный тушью.
Бьется на отсвечивающей свече
Оплывшее удушье.
Отмеченный, чугунный час,
Чугунных глаз запаянные ресницы,
Покат косой тяжелого плеча
И накипь губ – о, не молиться,
О, не кричать – дым на земле.
Чужой костер: там дым так легок,
И зависть – мой зачерствелый хлеб
Шершавая молитва Богу.
А на руке выжженный след.
Не зарубцевать память плетью,
Не выбрить на выцветшей земле
Слипшуюся шерсть тысячелетий.
Мне кажется, что я прокаженный —
Предостерегающий желтый звон.
По дороге выжженной и сожженной,
Распугивая, иду давно.
За холмом схоронился вечер.
Ветра жадный вздох.
Опустил сломанные плечи
Высохший чертополох.
Режет дорожный щебень
Острым краем струпья-ступни.
Голое, желтое небо
И пропыленные дни.
Сердце, бейся, как посох о камень,
И в каждом стучи гнойнике.
Не поднять, даже руками,
Опустившихся век.
Сжимайся, от запоя бледный
Выцветший рот пурги.
Время голодных обеден,
Срок гнилых литургий!
Оттепель, прель и голод,
И вспотевший лед на реке.
Разве сотрешь зеленым подолом
Гной на отмороженной руке?
Перегарный покой клячей
Тянет в разбухшую гниль.
Слов пересчитанная сдача
И пересчитанные дни.
Я простой и жадный огнепоклонник.
Слова – обугленные пни.
Сердце – неизданный сонник —
Несуществующие огни.
Огненное лето неповторимо:
Угарны лампады лесов.
Захлебнется рыжим дымом
Солнечное колесо.
И точно лохматая падаль
Вверху – задыхающаяся глубь.
Бросилась душной громадой
Память в косматую мглу.
Земле – Н, 1924, 18 мая (№ 112): без названия.
[Закрыть]
ЧЕТ ИЛИ НЕЧЕТ
Сердце – неуч – все в том же классе,
Все те же волосы и те же падежи.
Мне все равно весною не украсить
Сухое слово – жить.
О подожди – не выжечь вереск,
Не выбелить белилом лен.
На солнцепеке глаз заснувшим зверем
Мне сторожить не тающий и жаркий лед,
Прилег в проталине замшенный запах —
На травы выступивший пот.
Смотри, смотри, – там талый запад
От этих глаз – слепой.
Постой, не пой, не пой, не надо!
Мне ладан дан не для земли.
Здесь каждый лист от жажды жаден
И жалость жалобней цветущих лип.
О, как болит весенний просвет просек,
Как просят губ над лесом облака!
Опять, опять заносы сосен
Сжимают хвоей желтый скат.
Река поет и моет мели —
Купели земляных недель.
Метель лучей закружит и застелет
Оттаявшей земли постель.
В последний раз – не пой запоем
И вспомни перебои дней:
Пускай течет за полем поле
Мой час свинцовый на свинцовом дне.
Голод – тяжелая челюсть —
Ты доисторический восторг.
Слепые стихи, что бились и пелись,
Точно незрячий взор.
Сцепленных рук обрубленные сучья.
Рукопожатье – скреп.
Мне кажется, что все на земле в дремучей,
В непередаваемой игре.
Тело – косматый обрубок.
Рваный, сшитый шрам.
Разве поймут выщербленные губы,
Что ты только сестра?
Даже ресницы всклокочены любовью.
Расплавленные глыбы глаз.
Молчать и молчаньем славословить,
Как водой изгиб весла.
«Нежность, сорвавшаяся под откос…» – MB.
[Закрыть]
Нежность, сорвавшаяся под откос, —
Динамитом вырванные шпалы.
Разорвать бы и грудь вкось,
Чтоб она никому не досталась.
Наваленный грудой железный лом —
Спаянные болью колеса и оси.
Ветер косой косым крылом
Смятую траву не скосит.
Зачем из-под рессор глаза
Сквозь песок и разметанный щебень,
Точно сорвавшийся залп
Живой – в небо?
Надо мной огненная плеть
Стегнет по скрюченному железу.
Дымом набухающая медь —
Задыхающаяся нежность.
«Над нами грохочущий мост…» – MB.
[Закрыть]
Над нами грохочущий мост —
Походка грузного паровоза.
Заблудившийся в сваях норд-ост
Лица, точно реи, морозит.
Сегодня причал плеча
Туже, чем нахрип боли.
Г лаза – почерневший очаг,
Четыре луча и неволя.
Чет или нечет осекшихся слов?
Молчанья не сложить и не вычесть.
Отчаянный всплеск – сорвавшееся весло
Этих губ, и одурь – обычай.
Опять заплатанные песни
И перепев скупых страниц.
Склонись и вспомяни, – наместник,
Твой тесный мир в плену ее ресниц.
Молись иль не молись – ты не истратишь
Восторгом вытравленных глаз.
Расторгнув дни – в ночи сестра-тишь,
Ты плачешь и целуешь купола.
Из-за угла лететь – у водопоя поезд
Запомнит семафорные зрачки.
И ты у темных скирд воспой звезд
И насыпи сыпучие пески.
Твой скит, твой грубый сруб, наместник,
У самых губ, у самых глаз ее.
Поющий ялик, зыбь безвольных песен —
Твой тесный мир волною смят.
«Сегодня небо сошло с ума…» – Н, 1924, 10 февраля (№ 34).
[Закрыть]
Сегодня небо сошло с ума
И ночь оглохла от гула.
Перепутанных звезд кутерьма
И слепой, сутулый переулок.
Мой! Мой бетонный вздох
И губы, как под поездом рельсы.
Глаза – невероятный переполох,
Космами волос лоб разгорелся.
А плечи, как упор моста —
Тяжелый виадук рук легок.
Ночь и сытая пустота
У несуществующего порога.
Дым на дыбы – свинцовый выдох.
Улицы измызганы весной.
Мне сегодня солнцем выдан
Сверток ненабранных нот.
Никогда не сломать печати:
Въелся в бумагу сургуч.
Нет издателя, чтоб напечатать
Этих нот ночную пургу.
А как бились и прыгали взвизги
И заливался звоном рот!
Так только поют и бьются брызги
Строк.
Только ночь или только жалость?
О, как певуч косноязычный язык!
Вот опять, вот опять разбежалась,
Вздохнула грузная зыбь.
И запели, запенились ресницы,
Брызги, брызги и всплеск глаз.
Любовью, как чернилами, страница
Залита от угла до угла.
Но постой, – это вычеркнул цензор —
Все равно не поверят губам:
Все равно эту дикую цепь зорь
Не поймет уходящая на бал.
«Кирка, гранит и глыбы дней…» – Н, 1924, 18 мая (№ 112).
[Закрыть]
Кирка, гранит и глыбы дней.
Осколки строк в который раз на дне
Покинутой каменоломни.
От взрыва прах улыбкой преисполнен.
И помнят камни страшный и сухой
Ожог в дыму, – о догоревший шнур Бикфорда!
Полярной дышит пустотой
Тяжелый ветер с норда.
Молчи, молчи, от этих строк
И до запрокинутого крика
Лишь два шага. Разметанный песок
У самых ног. И скалы стыком
Легли на мертвый щебень слов.
И копотью, и дымной горечью свело,
Спаяло лавой ненависть и голод.
Так бурей сломанное весло
Не разорвет волны тяжелого подола.
Сорвавшийся с уступа стих!
Прости, прости, не отвести
Лавиной хлынувшей любви.
Мне тетивы не вырвать – лук дугой,
Тугой полет стрелы и губы ловят
Последний свист.
Молчаньем сломанные брови,
Бикфордов шнур и поцелуй сухой.
Гобои букв – и бредит медью
Бессонница – сухой висок.
О этих губ слепая соль
За медленной, ночной обедней!
О боль обоев! Ночь как роса —
Твоя коса и серый серп над садом.
Страшнее всех разбойничьих засад
Разметанных волос голодный ладан.
Не дым, а только горький привкус гнева,
И не огонь, а только тлеющий ночник
Возник в ночи, и рук тяжелый невод
Мне приказал – молчи.
Но не смолчать – вот на обоях просвет,
И хлещут ливнем хлынувшие ветра.
И по утрам подсчет таких утрат,
Что о пощаде даже боль не просит.
Дозором зорких зорь замучены ресницы.
Больней свалявшихся простынь
Мне режет лоб безволье ясновидца
И горечь оскопленной пустоты.
НЕДУГ БЫТИЯ (Париж, 1928)
Любить и лелеять недуг бытия.
Е. Баратынский
Посвящается О.А.
«Отяжелев, на голый лист стекло…»
«В упор глядел закат. Раскосых туч…» [28]28
Отяжелев, на голый лист стекло
Чернильным сгустком слово, —
И муза сквозь оконное стекло
Уже войти ко мне готова.
И вот, приблизившись, передает
Мне в руки камень вдохновенья.
Опять протяжным голосом поет
Мое холодное волненье.
И кажется, – я в первый раз постиг
Вот это трудное дыханье.
О скудный, суетный, земной язык,
О мертвое мое призванье!
«В упор глядел закат. Раскосых туч…» – ВР, 1926/1927, № 12/1.
[Закрыть]
«Не в силах двинуться, на подоконнике…»
В упор глядел закат. Раскосых туч
Не передать пустого выраженья.
Я опустил глаза, и желтый луч
Невольно повторил мое движенье.
Увы, природа! Страшен праздник твой!
Должно быть, это – насмерть поединок:
И видел я, как за моей спиной
Вскрывалась ночь, рвала покой личинок.
И запах трав, и желтый ствол сосны,
Последним взглядом вырванный из мрака,
Постой, постой, – ты видишь, как тесны,
Пусты объятья затхлости и мрака.
Звезда! Ах если ты ведешь дневник,
Ты на просторной занесешь странице
Число и месяц, год и этот миг,
Что я провел у жизни на границе.
«Незвучен свет, огонь неярок…» [29]29
Не в силах двинуться, на подоконнике,
Мы смотрим вниз, на ребра крыш и дней.
О как понятно всем, что мы сторонники
Потусторонних зарев и огней!
Томительно слепое созерцание!
Мы утешаемся и думаем, что нет
У жизни имени, у дней названия,
И все потусторонний ловим свет.
Ах, каждый сон уже рассказан в соннике!
И, как герани в глиняных горшках,
Мы на крутом и скользком подоконнике
Испытываем и покой и страх.
«Незвучен свет, огонь неярок…» – С1.
[Закрыть]
«Бессонница, расширясь, одолела…» [30]30
Незвучен свет, огонь неярок
И труден лиры северной язык.
О эта скорбь пустых помарок,
Беспомощный и трудный черновик.
Пером просторный лист пропахан,
И черная сияет борозда,
И полон нежности и страха
Твой голос, бедная моя звезда.
Но вот, бумажным, волокнистым,
Зеленым небом стих мой повторен.
Опять меня с блаженным свистом
Одолевает неповторный сон.
И мой несовершенный оттиск,
Двойник стиха, по-новому поет,
И странный вкус небесной плоти
Мне темным чудом обжигает рот.
«Бессонница, расширясь, одолела…» – Я.
[Закрыть]
«Я знаю, ты, как жизнь, неповторима…»
Бессонница, расширясь, одолела
И напрягла тревожный слух. Мое
По капле медленно стекает тело
В неуловимое небытие.
Касанье чьих-то невесомых пальцев.
О влажный холодок щеки!
Опять Глухая ночь на старомодных пяльцах,
Глухая, начинает вышивать.
Шуршанье тьмы и тусклый шорох шелка —
И розой выцветшей душа глядит,
Как ангел тряпочкой сметает с полки
Сухую пыль веселья и обид.
«Не оторвать внимательную руку…»
Я знаю, ты, как жизнь, неповторима.
По краю воздуха твой путь пролег.
Гляжу вослед тебе – прозрачным дымом
Твой путь, виясь, уходит на восток.
Но вот, теряя призрак тяготенья,
Я отрываюсь и взлетаю за тобой.
И я скольжу твоей легчайшей тенью,
Влеком потустороннею звездой.
Смущенных облак вспугнутая стая.
Прозрачны голоса, как синий лед.
И воздух отмирает, остывая,
И падает, и длится наш полет.
Вот, как воздушный шар отчалив,
Порвав докучливую нить легко,
Плывет земля, прозрачная вначале,
В иной покой, в такой покой, в такой —
Кто б думать мог, что время невесомо,
Что так похожи на полет года,
Что нам одним с рождения знакома
Нас в бытие уведшая звезда.
Душа душой, как солнцем, опалима.
Я сохраню твой золотой ожог,
Я знаю, ты, как жизнь, неповторима,
По краю воздуха твой путь пролег.
«О только б краешком крыла…»
Не оторвать внимательную руку,
Не отвести прижатую ладонь,
И пьет моя рука, подобный звуку,
Такой неутомительный огонь.
Прозрачной тишиной удвоен
Наш сон, наш мир, наш свет – века.
Пускай вдали, виясь, летят завой
Сей непомерной розы в облака.
И лепестки тяжелых молний,
И вой, и голоса в огне —
Зане наш мир покоем преисполнен
И мира нового – не надо мне.
Не оторвать, не потревожить —
Дороже жизни этот сон.
Распахнутую настежь мглу, быть может,
Оставить вовсе не захочет он.
Вне нас, ломая дикий воздух,
Цветет гроза, и в облачной пыли
Поет, недосягаемое звездам,
Поет, сердцебиение земли.
«Ладонь, ладонь! Отчетливым касаньем…»
О только б краешком крыла
Растерянной коснуться страсти —
Благоуханная зола
Недоказуемого счастья!
Мне тленье сладостно земли:
Непрочный мир послушно тает —
Так отлетают корабли
Вдруг перепуганною стаей.
И в обручальной тишине
Почти бесплотно напряженье.
О если б можно было мне
Не знать иного вдохновенья!
«Ведь это случайно, что здесь я, что слышу…»
Ладонь, ладонь! Отчетливым касаньем
Напряжена земная глухота.
Не мыслю выбрать я тебе названья
Успокоительная пустота.
Слова – ах эти слепки мыслей бренных —
Мы знаем оба, друг, на что они?
Гляди – лучами звезд иноплеменных
Озарены глухонемые дни.
Я ухожу в ладонь, в твое дыханье.
О если б это смог я перенесть!
Туда, туда, до первого свиданья,
Туда от утомительного «здесь».
«В который раз, тасуя карты…»
Ведь это случайно, что здесь я, что слышу,
Что звезды в окне и что мир недалек.
Ведь это случайно не тлеет за крышей
Зажженный твоими словами восток.
И я, прислоняясь к цветам на обоях,
Их мертвенный запах не смея забыть,
Не жду и не верю – я знаю – их двое,
Вон там, за стеной. Их не может не быть.
О как неотступны твои поцелуи!
И сырость сползает с цветка на цветок.
Я больше не смею, я слышу игру их.
Не надо, не надо! Скорее, восток!
«Прозрачен и беспомощно высок…» [31]31
В который раз, тасуя карты,
Их верный изучив язык,
Я слышу голос дивной кары
И пенье вероломных пик.
О верный ветр твоих пророчеств,
Освободительница смерть!
Что есть блаженнее и кротче,
Чем наша роковая твердь.
Но посторонний шорох внятен:
Он заглушает вещий звук.
Так по узору черных пятен
Ползет бессмысленный паук.
И приглушив дремучим страхом
Пленительный и милый зов,
Он и меня питает прахом
Уже давно умерших слов.
Но все же я, тасуя карты,
Их верный изучив язык,
Я слышу голос дивной кары
И пенье вероломных пик.
«Прозрачен и беспомощно высок…» – C1.
[Закрыть]
Лишь паутины тонкий волос
Блестит на праздной борозде.
Тютчев
«Случалось, что после бессонной…»
Прозрачен и беспомощно высок
Осенний голос красок в нашем мире.
О первый звук непостижимой шири,
Последний, чуть холодноватый срок.
Прислушайся: запечатленный голос
Еще звенит и тонет в синеве,
Еще поет на скошенной траве
Последней паутины звонкий волос.
Мы все равно не сможем уберечь
Сухие дни от босоногой смерти.
Ступне прохладной радуйтесь и верьте
И не жалейте прерванную речь.
«Пустой и голый взор слепого рока!..»
Случалось, что после бессонной
Ночи, наутро,
Весь мир, как на снимке туманном,
Вздвоен, он в тягость,
Он жалок, робеющий мир.
И только вдали этих облак
Мертвая груда
Глядит, как прощаясь с зарею,
Медленно гаснет
Последняя наша звезда.
И ветер бессилен, и ветер не смеет —
Ольга, ты помнишь?
Ты слышишь? Так разве же в этом
Чувственной смерти
Незыблемый, голый покой?
«О тяжкий пламени избыток!..»
Пустой и голый взор слепого рока!
Ты подступаешь к горлу, тяжкий день.
И вот уже – не принимая срока —
Ложится, обнажаясь, тень.
О тяжесть сумерек и увяданья!
Нет, мы не в силах сердце уберечь.
И спотыкается о гулкое дыханье
Вдруг приневоленная речь.
Он захлебнулся горечью и дрожью,
Над нами тяжко сникший небосвод.
Так лава пьет примкнувшее к подножью
Растерянное лоно вод.
«Свидетельница жизни скудной…»
О тяжкий пламени избыток!
Переливается шипя
За грань души сухой напиток —
Но в этом мире только спят.
Поет расплавленное благо.
Полуотверсты облака.
Сожженная суровой влагой
Пэоном схвачена строка.
О соблазнительный глашатай
Опустошительной мечты!
О ветр, безумием богатый
Осуществленной высоты! —
Он жжет меня, текучий камень!
Одолевающий зенит
Расплесканный и тяжкий пламень!
Но мир, сурком свернувшись, – спит.
«Так! Неопровержимый день рожденья!..»
Свидетельница жизни скудной
И скудного небытия,
Звезда над тьмою непробудной!
Душа бесплодная моя!
Увы, беспомощна денница!
Невыносимой высоты
Суровый мрак опять клубится
И еле-еле дышишь ты.
О лицемерное упорство, —
Не вынесет, о никогда,
Прекрасного единоборства
Порабощенная звезда.
Звезда над тьмою непробудной!
Мир пошевелится слегка
И приглушит твой пламень скудный
Неотвратимая тоска.
«Окно склоняется вот так…»
Так! Неопровержимый день рожденья!
Пять чувств, раскрытые цветком.
Мне целый мир сегодня не знаком,
Мне кажется, что он достоин удивленья.
Но после многих, многих лет, когда
Ты бледным и линялым оком
Отметишь тень на облаке высоком
И слово скучное и страшное услышишь – «никогда»,
Тогда-то восемь чувств совсем не много:
Три новых – боль, тоска и смерть,
И надо мною голубая твердь
Раскроет щупальцы – все восемь – осьминога.
Б. Поплавскому
Бетховен («Мы жизни с ужасом внимаем…»)
Окно склоняется вот так:
Окн о, окн а.
А за окном все тот же мрак
И та же ночь видна.
Крутясь, зеленоватый глаз
Звезды плывет.
Земля, тебя и в этот раз
Никто не назовет.
Все та же ночь, и в руки к нам
Плывет покой.
И тяжесть стелется к ногам,
И снова надо мной
Окно склоняется вот так:
Окн о, окн а.
О этот рок, о этот мрак
Бессмысленного сна!
Мы жизни с ужасом внимаем
И, пустоту прикрыв рукой,
Неощутимо отмираем,
Чтим соблазнительный покой.
Мы счастью хлопотливо рады.
Душа до дна оглушена
Предчувствием пустой отрады
Опустошительного сна.
Но вдруг отдергиваем руку —
Тоской разверстые персты.
Туда, туда, в глухую муку
Твоей блаженной глухоты.
Наш смертный грех – глухой Бетховен.
Не по плечу нам горький свет.
Вотще! День пуст и многословен.
Что значит ветер сотни лет?
Святая глухота! И вровень
Любви – на эту высоту
Нисходит горестный Бетховен,
Развертывая глухоту.








