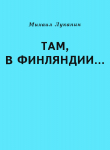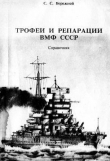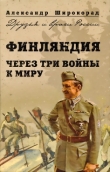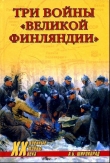Текст книги "Вступление Финляндии во вторую мировую войну 1940-1941 гг."
Автор книги: В. Барышников
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 19 страниц)
Позиция Пунтила относительно вступления страны во вторую мировую войну наиболее четко была изложена в его книге «Политическая история Финляндии». В ней, подобно А. Корхонену, он писал, что Финляндия оказалась «втянутой в водоворот мировой войны» против своей воли.[164]164
Puntila L. A. Suomen poliittinen historia 1809–1955. Hels., 1963. S. 180.
[Закрыть] Но, излагая суть проводившейся внешней политики страны, он утверждал, что тогда «официально не предусматривалось никаких идей возмещения или возврата… утраченного» и в Финляндии «верили, что со временем без новых военных усилий будет признано ее правое дело и утраченные территории будут возвращены обратно».[165]165
Ibid. S. 178.
[Закрыть] Из чего следовало, что Финляндия против своей воли была опять вынуждена вступить в войну в силу «советской угрозы», прибегнув при этом к помощи Германии.
В таком же духе в это время высказался также Джон Вуоринен – известный американский исследователь, занимавшийся в США финляндской проблематикой. Он еще в молодости покинул Финляндию и переехал в США. Вуоринен стал профессором Колумбийского университета и еще в 1930-е годы написал ряд работ о Финляндии. В 1942–1945 гг. он служил в «Стратегическом ведомстве» начальником Скандинавско-Балтийского исследовательского отдела. Именно он, как уже отмечалось, в 1948 г. помог А. Корхонену издать в США книгу об участии Финляндии во второй мировой войне. Вместе с тем в 1965 г. сам он также издал большую работу по истории Финляндии, над которой работал в течение тридцати лет.[166]166
Wuorinen J. A History of Finland. New York; London, 1965. P. IX.
[Закрыть] События 1940–1941 гг. оказались в ней изложены, соответственно сформулированным положениям финской пропаганды периода второй мировой войны. «Трудно понять, – писал Вуоринен, – как Финляндия могла избежать вовлечения в войну в 1941–1944 гг.»[167]167
Ibid. P. 385.
[Закрыть] Поясняя эту мысль, далее он заметил, что страна «вступила в войну не в результате своего собственного выбора или союза с немцами… Это произошло в силу общих обстоятельств…»[168]168
Ibid. P. 386.
[Закрыть] Таким образом, у Джона Вуоринена получалось так, что все-таки не от Финляндии исходило желание участвовать в войне.
Ответственность за произошедшую трагедию автор всецело возложил на СССР: «Нацию привела к войне неспровоцированная советская агрессия», поэтому «финны могли избежать войны… если бы только подняли белый флаг в ответ на военные действия Советов в июне 1941 г.».[169]169
Ibid. P. 369.
[Закрыть] Читая это, финский историк В. Ниитемаа дал такую оценку работе Д. Вуоринена, из которой следует ее националистическая направленность.[170]170
Niitemaa V. Suomen historiaa amerikkalaisen silmin // Historiallinen Aikakauskirja. 1966. N 2. S. 133–136.
[Закрыть]
В целом в первой половине 1960-х годов откровенно консервативные взгляды преобладали в научно-исследовательских работах финских историков. Устойчиво продолжали сохраняться и старые представления о том, что «страна оказалась в войне под ногами великих держав против ее желания».[171]171
Junnila T. Suomen taistelu turvallisuudestaan ja puolueettomuudestaan: katsaus Suomen ulkopolitiikkaan maan itsenäisyyden aikana. Porvoo; Hels., 1964. S. 141.
[Закрыть]
Показательной в этом отношении стала книга финского историка Хейкки Яланти, посвященная событиям 1940–1941 гг. Издав ее первоначально в 1966 г. на французском языке в Швейцарии, затем он опубликовал ее и в Финляндии.[172]172
Jalanti H. La Finlande dans l'eteau germano-soviétique 1940–1941. Neuchâtel (Suisse), 1966; Jalanti H. Suomi puristuksessa 1940–1941. Hels., 1966.
[Закрыть] Как сам предмет исследования, так и концептуальные построения Яланти оказались в целом недалеки от взглядов А. Корхонена. В книге почти все внимание сосредоточено на отношениях Финляндии с Германией и СССР. Общую же картину он изобразил следующим образом: «между мартом и июнем 1941 г. Финляндия стала жертвой не зависящих от нее событий» и даже «оказалась пешкой на германской шахматной доске».[173]173
Jalanti H. Suomi puristuksessa 1940–1941. S. 368, 369.
[Закрыть] Вопрос же о том, «могла ли Финляндия избежать войны, не представляется возможным выяснить путем исторического исследования», – считает X. Яланти.[174]174
Ibid. S. 374.
[Закрыть]
Позднее в финской исторической литературе отмечалось, что работа Яланти позволила лишь сделать отдельные уточнения, но не внесла ничего существенного в изучение событий 1940–1941 гг.[175]175
См.: Rusi A. Lehdistösensuuri jatkosodassa. Sanan valvonta sodankäynnin välineenä 1941–1944. Hels., 1982. S. 37.
[Закрыть]
Однако именно тогда, когда позиции Корхонена в исторической науке, казалось, являлись незыблемыми, а его выводы о периоде 1940–1941 гг. представлялись безупречными, все же некоторые финские историки концепцию Корхонена стали уже осторожно критиковать. Первым в Финляндии, кто пытался объективно оценить события, связанные с участием ее в войне на стороне Германии, был исследователь уже нового поколения – Туомо Полвинен, ставший затем профессором Хельсинского университета. В опубликованной им в 1964 г. работе «Финляндия в политике великих держав 1941–1944 гг.»[176]176
Polvinen T. Suomi suurvaltojen politiikassa 1941–1944. Porvoo; Hels., 1964.
[Закрыть] он уже отходит от господствующих тогда взглядов Корхонена. Хотя Полвинен в предисловии к своей работе и выражал А. Корхонену благодарность за то, что он «полностью прочитал подготовленную рукопись и сделал многие ценные замечания»,[177]177
Ibid. S. VI.
[Закрыть] само содержание этой работы уже не подтверждало прежние концептуальные построения Корхонена.
Опираясь на новые документальные материалы и на расширившийся к тому времени круг источников, Т. Полвинен убедительно продемонстрировал, как Финляндия сама определила свой путь в бурных событиях войны, а вовсе не двигалась по воле стихийного течения. Фактический материал, который приводится в работе, позволял уже начать процесс «потопления сплавного бревна». Однако книга этого исследователя в целом была посвящена более позднему периоду – участию Финляндии в войне, и поэтому пока было трудно утверждать, что концепция А. Корхонена в явном виде была поставлена под сомнение именно этим научным исследованием.
Но уже тогда начала подниматься «новая волна» изучения вопроса о вступлении Финляндии во вторую мировую войну. Толчком для более серьезного рассмотрения финскими историками данной проблемы стало появление за рубежом новых работ, посвященных периоду 1940–1941 гг. и политике Финляндии.[178]178
См.: Reimaa M. Puun ja kuoren välissä. Rytin toinen hallitus (27.3-20.12.1940). Ulkopoliittisten vaihtoehtejen edessä. S. 11; Seppälä H. Suomi hyökkääjänä 1941. S. 6.
[Закрыть] На основе ранее неизвестных документов в середине 1960-х годов вышли весьма обстоятельные исследования историков Ханса Кросби (США) и Антони Аптона (Великобритания).[179]179
Krosby H. P. 1) Nikkelidiplomatiaa Petsamossa 1940–1941. Hels., 1966; 2) Suomen valinta 1941. Hels., 1967; 3) Finland, Germany and the USSR, 1940–1941. Milwaukee and London, 1968; Upton A. F. 1) Finland in Crisis 1940–1941. London, 1964; 2) Välirauha. Hels., 1965.
[Закрыть]
В них достаточно аргументировано опровергалась теория так называемого «сплавного бревна». Авторы показали несостоятельность утверждения о стихийном вовлечении Финляндии в войну, подтвердив фактическим материалом то, что финское руководство целеустремленно шло к военному сотрудничеству с Германией, а все детали агрессии против СССР были с нею заранее согласованы.
В частности, опираясь на проведенный им анализ фактического материала, X. Кросби пришел к следующему заключению: тогда «нейтралитет Финляндии уже был заменен тайным договором, согласно которому боевые части Германии сосредоточились у восточной финляндской границы с единственной целью осуществить нападение на финского соседа – нападение, о котором Финляндия, вне всякого сомнения, знала и, со своей стороны, стремилась в нем участвовать».[180]180
Krosby H. P. Suomen valinta 1941. S. 11.
[Закрыть] Выводы, к которым пришел X. Кросби, были сделаны на основе использования ряда новых немецких архивных материалов дипломатического и военного характера.
Однако введенные им в научный оборот источники не являлись такими, которые все безусловно и четко доказывали. И, естественно, на это сразу обратили внимание оппоненты Кросби. В частности, отмечалось, что «автору из-за недостатка источников приходится заполнять пробелы своими собственными рассуждениями».[181]181
The English Historical Review. Vol. 85. N 336. P. 634.
[Закрыть]
В свою очередь, в исследованиях А. Аптона большое внимание уделялось тому обстоятельству, что определяющим судьбу Финляндии в 1940–1941 гг. оказался «небольшой круг лиц». Именно его представители решающим образом повлияли на выбор Финляндией пути участия во второй мировой войне на стороне Германии. Критически подходя к позиции, занятой финскими историками в оценке рассматриваемых событий, он, в частности, квалифицировал взгляды профессора Л. Пунтила как несостоятельные, особенно это касалось его утверждений о том, что правительство Финляндии якобы «не могло в 1940–1941 гг. помешать своему военному руководству приступить к военному планированию вместе с Германией».[182]182
Ibid. Vol. 92. N 365. P. 939.
[Закрыть]
В Финляндии публикации Аптона были встречены весьма неодобрительно. Так, в хельсинкском историческом журнале генерал-лейтенант финской армии Т. В. Вильянен подверг суровому разбору ряд положений Аптона, содержащихся в его книге «Финляндия в кризисе 1940–1941 гг.».[183]183
Viljanen T. V. Suomen kriisi 1940–1941 // Historiallinen Aikakauskirja. 1965. N 1. S. 44–46.
[Закрыть]
В целом, однако, переведенные на финский язык книги Кросби и Аптона оказали существенное воздействие на научные круги интересующихся историей страны. Стремление понять, как случилось, что Финляндия оказалась вовлеченной в войну, стали проявлять многие, это касалось и руководящих политических деятелей. Президент Урхо Кекконен, неоднократно касавшийся этого вопроса, в одном из публичных выступлений определил свое отношение к нему так: «Финляндия фактически присоединилась к этому фронту (гитлеровской коалиции. – В. Б.) в 1940 году. Не полностью выяснено, когда и как это произошло».[184]184
Кекконен У. К. Финляндия и Советский Союз. Ì., 1975. C. 222.
[Закрыть]
Естественно, высказывание президента не могло остаться незамеченным. Позиции А. Корхонена и его последователей в этой обстановке были заметно поколеблены. Более того, о необходимости пересмотра прежних исторических концепций начали активно выступать наиболее авторитетные финские исследователи. В частности, академик Кустаа Вилку-на выступил с критикой концепции А. Корхонена, обратив внимание на сам факт атаки с территории Финляндии СССР уже 22 июня 1941 г. Он отметил, что такое действие происходило абсолютно согласованно между германскими и финскими военными лицами, и, ссылаясь на имевшиеся в его распоряжении документы, заявил, что финский маршал был информирован о плане «Барбаросса» еще 20 декабря 1940 г.[185]185
См.: Бартеньев Т., Комиссаров Ю. Тридцать лет добрососедства. К истории советско-финляндских отношений. М., 1976. С. 44.
[Закрыть]
Такие выступления побуждали продолжить исследование событий минувшей войны. Это прежде всего касалось историков послевоенного поколения.[186]186
См.: Nevakivi J. Historioitsijan kysymyksiä “Suomelle 1941”. S. 148–149.
[Закрыть] Теперь наступила очередь сказать свое слово новому поколению финских исследователей, которые не были отягощены грузом консерватизма прошлых лет. К тому же на рубеже 1960-1970-х годов появилась возможность изучать ранее закрытые документы финляндских и зарубежных архивов, а также и другие важные источники.
Одним из первых, кто по-новому подошел к рассмотрению проблемы вступления Финляндии во вторую мировую войну был военный историк X. Сеппяля.[187]187
Seppälä H. 1) Taistelu Leningradista ja Suomi. Porvoo; Hels., 1969; 2) Itsenäisen Suomen puolustuspolitiikka ja strategia. Porvoo; Hels., 1974; 3) Suomi hyökkääjänä 1941.
[Закрыть] Он начал свою активную творческую научную деятельность в конце 1960-х годов, возглавив тогда военно-исторический отдел в исследовательском центре финской армии. Само служебное положение обусловило его больший доступ к финским архивным документам и другим источникам того периода. С другой стороны, прошедший сложный путь от солдата – участника войны 1941–1944 гг. до старшего офицера, научного работника, X. Сеппяля мог более глубоко анализировать участие Финляндии в войне. В результате он не стал последователем взглядов приверженцев схемы Корхонена и своего руководителя, начальника исследовательского центра генштаба полковника К. Микола, считавшегося тогда одним из ведущих в исследовании военной истории Финляндии.[188]188
К. Микола являлся автором концептуальной по тем временам статьи «Оценка форм и причин германо-финского сотрудничества в 1940-41 гг.» (Mikola K. F. Vuosien 1940–1941 suomalais-saksalaisen yhteistoiminnan tarkoitusperien ja muotojen tarkastelua // Taide ja Ase. 1967. N 25), где весьма активно поддерживал взгляды А. Корхонена.
[Закрыть]
В своей первой крупной работе «Битва за Ленинград и Финляндия» X. Сеппяля пришел к выводу, что «после окончания зимней войны в Финляндии сравнительно скоро начали искать пути сближения с Германией», поскольку финское руководство считало, что «Германия может помочь Финляндии или, во всяком случае, окажет политическую поддержку» в противостоянии Советскому Союзу.[189]189
Seppälä H. Taistelu Leningradista ja Suomi. S. 98.
[Закрыть] К тому же, отмечал он, «обе стороны стремились к улучшению отношений, причем финны не меньше, чем немцы».[190]190
Ibid.
[Закрыть] Естественно, что такое утверждение совсем не укладывалось в схему Арви Корхонена о «плывущем по течению бревне».
Владея русским языком, X. Сеппяля имел возможность пользоваться разносторонней источниковой базой и достиг значительно больших результатов, чем другие историки, при этом он смог критически оценить существующую мемуарную литературу. В частности, Сеппяля весьма внимательно прослеживает процесс установления тесных связей финского военного командования с вермахтом и цели, которые преследовало в этом отношении политическое и военное руководство своей страны.
Еще более обстоятельно X. Сеппяля изложил развитие событий в указанном направлении в следующей своей работе – «Финляндия как агрессор 1941 г.», которая затем частично была переведена на русский язык.[191]191
Seppälä H. Suomi hyökkääjänä 1941 (русск. перевод: Сеппяля X. В кильватере Германии // Север. 1988. № 7).
[Закрыть] В ней он отмечал, что «финские исследователи и авторы мемуаров не едины относительно… того, как Финляндия вступила в войну». По его мнению, это стало следствием того, что «в распоряжении исследователей были противоречивые исходные материалы и к тому же молодые авторы относятся к данному вопросу весьма чувствительно».[192]192
Seppälä H. Suomi hyökkääjänä 1941. S. 5.
[Закрыть] Вместе с тем, считал Сеппяля, нередко исследователи, которые уже ранее занимались вопросом вступления Финляндии во вторую мировую войну, по политическим соображениям стремились «отбрасывать действительные факты или, не зная правды, защищали решения финского военного руководства».[193]193
Ibid.
[Закрыть]
Со своей стороны, X. Сеппяля подошел к этой теме с точки зрения военного исследователя-историка и попытался ответить на вопросы: почему Финляндия включилась именно в агрессивную войну, и служило ли участие в ней Финляндии стратегическим целям Германии?[194]194
Ibid. S. 6.
[Закрыть]
Автор подчеркнул, что финляндское руководство совершило ряд стратегических ошибок. «Грубейшая ошибка при определении целей войны Финляндии, – считал он, – заключалась в несоизмеримости замыслов со своими собственными силами». Причем избранный курс основывался на уверенности в победе Германии и недооценке военных возможностей Советского Союза.[195]195
Ibid. S. 110.
[Закрыть] Далее финский историк в одной из своих работ, анализируя оперативные планы Финляндии в связи с участием ее в войне на стороне фашистской Германии, отмечал их явно наступательный характер, поскольку в них выражалось стремление отторгнуть от Советского Союза часть его территории, причем проявлялась особая «заинтересованность в Восточной Карелии». Реализация же стратегических целей, считает Сеппяля, находилась по существу «в зависимости от действий вооруженных сил Германии, от ее успехов или поражении».[196]196
Seppälä H. Itsenäisen Suomen puolustuspolitiikka ja strategia. S. 212–213.
[Закрыть]
Бесспорно, решительно выразив отличные от общеизвестных в Финляндии взглядов, Хельге Сеппяля занял особое место в финляндской исторической науке. По существу его творчество отразило новое направление в Финляндии историографии второй мировой войны.
В то время и за рубежом продолжали появляться исследования, касавшиеся отдельных проблем, связанных со вступлением Финляндии в войну. В 1973 г. вышла книга шведского историка Вильгельма Карлгрена «Шведская внешняя политика 1939–1945».[197]197
Carlgren M. W. Svensk utrikespolitik 1939–1945. Stockholm, 1973.
[Закрыть] Эта работа и в настоящее время является едва ли не основным произведением, в котором довольно подробно рассматриваются вопросы, касающиеся международного положения Швеции в годы второй мировой войны. Причем отличительной чертой книги стало то, что она была написана с использованием значительного количества документов внешней политики Швеции, которые прежде были недоступны для историков и которые использовал в своей работе В. Карлгрен.
В этом отношении особое внимание привлекает глава, посвященная событиям 1940–1941 гг. В ней автор затронул политику, характеризовавшую шведскую солидарность в отношении Финляндии и позицию СССР по данному вопросу. В. Карлгрен на весьма обширном материале показал, как в Швеции летом 1940 г. проявляли большую тревогу по поводу возможного нового обострения финляндско-советских отношений и опасались возникновения в такой ситуации войны.[198]198
Ibid. S. 206–210.
[Закрыть]
В целом работа Карлгрена свидетельствовала о наличии перспектив в изучении проблемы вступления Финляндии во вторую мировую войну, поскольку далеко не все в этом вопросе было исследовано. По этому поводу профессор Т. Полвинен особо отметил, что в Швеции все еще сохраняются ограничения в доступе к дипломатическим документам, касающимся Советского Союза и Финляндии.[199]199
Polvinen T. Ruotsin ulkopolitiikka 1939–1945 // Historiallinen Aikakauskirja. 1975. N 1. S. 79.
[Закрыть]
Показателем интереса шведских историков к рассматриваемой теме явилась и вышедшая тогда же работа «Швеция перед операцией «Барбаросса». Шведский нейтралитет в 1940–1941», которая была написана Лайфом Бьеркманом.[200]200
Björkman L. Sverige inför Operation Barbarossa. Svensk neutralitetspolitik 1940–1941. Stockholm, 1971
[Закрыть] Заметим, что через четыре года она была издана в сокращенном виде и на финском языке под названием «Путь Финляндии в войну 1940–1941».[201]201
Björkman L. Suomen tie sotaan 1940-41. Hels., 1975.
[Закрыть] В аннотации к этой книге отмечалось, что в ней прежде всего представляет интерес, как «шведские дипломаты и военные получали от финнов сведения, которые они скрывали от других», и что «шведы имели даже от военного руководства Финляндии данные о планах сосредоточения войск, о перемещении и размещении немецкой армии и другую чисто конфиденциальную информацию». Таким образом, в этом исследовании была предпринята попытка выяснить проблему вступления Финляндии в войну под углом зрения анализа той информации, которая тогда поступала в Стокгольм.
В своей работе Бьеркман опирался прежде всего на секретные архивные документы шведского Министерства иностранных дел, а также оборонительного штаба. Автор подчеркнул, что ему удалось «просмотреть все те материалы, которые хотелось бы видеть».[202]202
Ibid. S. 13.
[Закрыть] Что же касается картины, которую он реконструировал, то она не оставляла никаких сомнений в том, что Финляндия последовательно сползала в лоно фашистского блока и тем самым исчерпывала «возможность оставаться нейтральной в конфликте между Германией и Советским Союзом».[203]203
Ibid. S. 8.
[Закрыть] Из работы следовало, что период 1940–1941 гг. отличало заметное сужение финско-шведских контактов на правительственном уровне, а это привело к тому, что «весной 1941 г. Швеция оказалась уже неспособной влиять на Финляндию в принятии ею каких-либо решений». Причем в Стокгольме даже дипломаты пришли в это время к выводу, что Финляндия «зашла так далеко, что основополагающие решения в отношении внешней политики страны не могут уже приниматься в Хельсинки»[204]204
Ibid. S. 8–9.
[Закрыть] (имелось в виду, что они стали исходить из Германии).
Однако полное отсутствие ссылок на используемые источники и литературу, которые бы подтверждали приводимые автором сведения, безусловно, несколько снижали научную значимость данной работы. Существенным недостатком являлось и то, что в книге очень ограниченно привлекались новые оригинальные сведения, почерпнутые из архивных источников относительно финско-советских отношений.
Тем не менее процесс вступления Финляндии во вторую мировую войну продолжал приковывать внимание за рубежом, и это было отчасти свидетельством того, что финские исследователи сами еще не смогли до конца ответить на ряд кардинальных вопросов этой проблемы. Известный финский историк О. Вехвиляйнен вынужден был откровенно признать, что «в первой половине 1970-х годов стало очевидно, что раскрытие картины участия Финляндии во второй мировой войне находится далеко не на самом высоком уровне, особенно, если сравнить с тем, каково положение в данном смысле в других странах». По его словам, в соседней Швеции, в частности, был «дан ход обширному и хорошо финансируемому проекту "Швеция и вторая мировая война"».[205]205
Vehviläinen O. Toisen maailmansodan ajopuukeskustelun jälkeen – kysymyksiä, tuloksia, tavoitteita // Historiallinen Arkisto. 1986. N 88. S. 156.
[Закрыть]
И все же настойчивость финских историков в 1970-е годы в исследовании проблемы участия Финляндии во второй мировой войне дало свой результат. Начал осуществляться научно-исследовательский проект по дальнейшей разработке истории Финляндии в годы второй мировой войны, условно названный «Суома».[206]206
SUOMA. Suomi toisessa maailmansodassa – projektin julkaisuja. Hels., 1975; Historiallinen Aikakauskirja. 1975. N 4. S. 328–330; Sotilasaikakauslehti. 1981. N 9. S. 619–621.
[Закрыть] Сама идея этого проекта возникла в «Историческом обществе Финляндии» в 1971 г. и свидетельствовала о желании финских ученых создать фундаментальный труд, в котором были бы представлены все аспекты участия страны во второй мировой войне. Реализация этого проекта осуществлялась группой ведущих финских историков во главе с профессором Олли Вехвиляйненом. В программе предпологалось обратить особое внимание исследователей не столько на сам ход боевых действий, которые были уже подробно освещены, сколько на недостаточно разработанные вопросы: внешнеполитическое положение Финляндии, экономические проблемы, влияние войны на общественную жизнь, деятельность различных партий, а также на развитие культуры и религии.
К середине 1980-х годов в рамках принятого проекта было выполнено 8 диссертационных работ, и в целом на новый более высокий уровень поднялось исследование периода 1939–1945 гг. в ряде университетов страны и в военно-научном центре финской армии.[207]207
Historiallinen Arkisto. 1986. N 88. S. 157; Kansakunta sodassa. Osa 1. Hels., 1989. S. 8.
[Закрыть] Кроме того, успешная реализация проекта «Суома» позволила, несмотря на имеющиеся различия во взглядах ряда финских историков, достигнуть определенного единства на платформе реалистического отражения событий второй мировой войны, осуществить издание трехтомного труда «Нация в войне».[208]208
Kansakunta sodassa. Osa I–III. Hels., 1989–1992.
[Закрыть]
Отличительной особенностью этой фундаментальной работы явилось то, что в ней были представлены новые положения и выводы, изложенные в 1970–1980 гг. финскими историками, которые стремились сделать ее содержание ярким и интересным для широкого круга читателей. Сам факт того, что в большой коллективной работе были объединены усилия историков с далеко не одинаковыми взглядами и оценками событий войны, свидетельствовал о процессе сближения их позиций. Во всяком случае чувствовалось, что приверженцы концепции А. Корхонена уже не были столь консервативны в своих суждениях и заключениях, как это проявлялось прежде, а представители либерального направления к ним не проявляли нетерпимости. Оценивая позицию финского руководства, вовлекшего страну в войну, автор проекта О. Вехвиляйнен сделал важное признание, особо подчеркнув, что Финляндия не шла к началу войны «с закрытыми глазами».[209]209
Ibid. Osa I. Hels., 1989. S. 333.
[Закрыть]
Тем не менее в завершенной большой работе лишь частично затрагивалась проблема вступления Финляндии во вторую мировую войну. Дальнейшим ее изучением занимались прежде всего те исследователи, которые в 1970-1980-е годы придавали особую важность глубокому анализу событий «межвоенного периода» 1940–1941 гг. Среди рассматривавшихся тогда вопросов особое внимание привлекало не то, насколько сознательно Финляндия шла к новой войне, а когда конкретно она примкнула к Германии, оказавшись соучастником готовившейся агрессии против СССР и было ли то действительно следствием «советской военной угрозы».[210]210
Vehviläinen O. Toisen maailmansodan ajopuukeskustelun jälkeen – kysymyksiä, tuloksia, tavoitteita. S. 158.
[Закрыть] Именно эти аспекты оказались в центре внимания таких уже хорошо известных историков как Мауно Ёкипии и Охто Маннинен, а также Маркку Реймаа.
Несомненный интерес, в частности, вызвала тогда книга Маркку Реймаа «Между деревом и корой. Второе правительство Рюти (27.3-20.12.1940) перед внешнеполитической альтернативой».[211]211
Reimaa M. Puun ja kuoren välissä. Rytin toinen hallitus (27.3-20.12.1940). Ulkopoliittisten vaihtoehtejen edessä.
[Закрыть] Автор этой работы почти десять лет посещал семинары профессора Л. А. Пунтила. Вместе с тем на формирование его взглядов большое влияние оказали такие видные финские историки, как К. Корхонен, X. Сойкканен и Ю. Суоми.[212]212
Ibid. S. 9.
[Закрыть] Серьезное воздействие на творчество М. Реймаа также оказало и то обстоятельство, что он затем работал в Министерстве иностранных дел Финляндии, где его изыскания, надо полагать, встретили поддержку.
Деятельность М. Реймаа в качестве сотрудника МИД позволяла ему не только вникнуть в особенности дипломатической работы, но и достаточно подробно познакомится с архивными фондами Финляндии, Швеции, Германии и Англии, что стало фундаментом его исследования. Сам же хронологический отрезок времени весны-зимы 1940 г., который М. Реймаа серьезно изучал, являлся весьма важным периодом, поскольку он во многом определил последующий внешнеполитический курс Финляндии. В частности, автор указывает на вполне осознанные действия финляндского руководства и подчеркивает, что «отношения с Германией развивались на протяжении всего этого времени и дали положительные результаты».[213]213
Ibid. S. 244.
[Закрыть]
Появление книги М. Реймаа совпало с весьма оживленной дискуссией, которая развернулась на страницах ведущего финского исторического журнала «Хисториаллинен Айкака-ускирья», между профессором М. Ёкипии и в то время доцентом О. Манниненом по поводу политики финского руководства, приведшей Финляндию к войне.[214]214
Historiallinen Aikakauskirja. 1977. N 1–4.
[Закрыть] Причем обе стороны выражали, как можно было понять из публикаций, неприятие известной теории А. Корхонена.[215]215
Ibid. N 4. S. 350.
[Закрыть]
Именно тогда Мауно Ёкипии уже активно вел исследование периода вступления Финляндии в 1941 г. в войну. Созданный им капитальный труд «Рождение войны-продол-жение» был издан в 1987 г.[216]216
Jokipii M. Jatkosodan synty.
[Закрыть] Эта работа получила заслуженное широкое признание и в самом конце 1990-х годов была переведена с некоторыми сокращениями на русский язык.[217]217
Йокипии М. Финляндия на пути к войне. Исследование о военном сотрудничестве Германии и Финляндии в 1940–1941 гг. Петрозаводск, 1999.
[Закрыть] Автор писал в предисловии к российскому изданию: «Своими корнями это исследование уходит к большой дискуссии о „теории сплавного бревна“… Моя первая статья из этой области увидела свет в ежегоднике, издаваемом учителями истории (1975)… Впоследствии практически ежегодно публиковалось что-либо новое».[218]218
Там же. С. 6.
[Закрыть]
Действительно, как справедливо писал об этой книге эстонский историк Херберт Вайну, автора отличала исключительная «научная добросовестность» в изложении той части событий, где он до мельчайших деталей описал подготовку к вступлению Финляндии в войну и ввел в научный оборот «весомые аргументы против теории "плывущего бревна"».[219]219
Вопросы истории. 1990. № 4. С. 175.
[Закрыть] На основе документов было четко показано, как конкретно осуществлялось сотрудничество генеральных штабов, а также взаимодействие вооруженных сил Германии и Финляндии при подготовке к агрессии против СССР. М. Ёкипии старался ничего не лакировать, вскрыв суть договоренности, закрепленной оперативным планом нападения на Советский Союз. Он заметил: «Тот, кто и после этого пожелает остаться на старых позициях, должен сначала задаться вопросом, почему архивы переполнены документами, на основании которых создается новая, более динамичная и более критическая, нежели чем ранее, картина».[220]220
Йокипии М. Финляндия на пути к войне. Исследование о военном сотрудничестве Германии и Финляндии в 1940–1941 гг. С. 6.
[Закрыть]
Однако вызывает удивление то, что в этой работе М. Ёкипии все же не отказался от прежнего утверждения, сохранившегося со времени введения его официальной финской пропагандой, о том, будто бы именно Советский Союз «начал в июне 1941 г. войну против Финляндии». В силу такого объяснения ее, как «оборонительной» с финской стороны, утрачивалась сама логика правдивого и обстоятельного анализа предшествующих событий, предложенного М. Ёкипии. При переиздании книги на русском языке автор не использовал и открывшиеся для исследователей российские архивные документы, чтобы сделать более взвешенный научный вывод.
Здесь же коснемся и приковывающей внимание непоследовательности, наблюдающейся в изложении событий участия Финляндии во второй мировой войне другого финского историка профессора Охто Маннинена. Для этого обратимся к ряду его работ.
В 1980 г. он опубликовал весьма интересную книгу «Контуры Великой Финляндии. Вопрос о будущем и безопасности Финляндии в политике Германии 1941 г.».[221]221
Manninen O. Suur-Suomen ääriviivat.
[Закрыть] Важным в ней было признание, что у финского руководства существовали замыслы расширить территорию Финляндии за счет Советского Союза.[222]222
Ibid. S. 153, 259.
[Закрыть] Иными словами, это означало, что финское руководство готовилось не к оборонительной, а к захватнической войне.
Но далее сказанное выше не получает своего развития в работах О. Маннинена, когда он уже излагает цели Финляндии в войне. Это прежде всего видно по опубликованной в 1987 г. многотомной истории страны, где был помещен его раздел «Финляндия во второй мировой войне».[223]223
Manninen O. Suomi katsoi eteensä. Hels., 1985. S. 266.
[Закрыть] Здесь его оценки практически не отличаются от трактовок предшественников, описывавших события войны.
Заметим, что уже 1980-е годы Маннинен выдвигается в ведущие историки военного периода и становится главным редактором исторического журнала. Ежегодно о событиях 1939–1944 гг. он публиковал целые серии статей в научной периодической печати. В военном журнале «Сотиласайкака-услехти» он регулярно выступал с краткими публикациями о своих новых изысканиях о войне. С другой стороны, благодаря знанию русского языка О. Маннинен пользовался российскими источниками и прежде всего документами ряда российских архивов.
Оценки событий в этих работах Охто Маннинена в целом соответствовали установившимся в Финляндии трактовкам периода второй мировой войны. В частности, присутствует и тезис о «советской угрозе», которая, по его мнению, подтолкнула Финляндию к «братству по оружию» с фашистской Германией. В результате этого он выборочно использовал те источники и публикации некоторых российских авторов, которые соответствовали его концепции,[224]224
См.: Stepakov V. Sodalla on hintansa. Hels.; Keuruu, 1996. S. 7-12; В отдельных, чаще всего периодических изданиях Финляндии в 1990-х годах заметна тенденция уделять внимание материалам, подготовленным в России, в которых авторы придерживаются традиционных концепций финской историографии. Иногда такого рода публикации выглядят в финских научных изданиях чуть ли не как «сенсация», хотя они не имеют ничего общего с действительным ходом исторических событий. Нелепости, содержащиеся в них, обычно связанны прежде всего со слабой компетентностью их авторов и заведомым искажением самой сути используемых источников. Особенно показательны в этом отношении «изыскания» преподавателя из Петрозаводска Ю. М. Килина (См.: Kilin J. 1) Karjalais-suomalainen Sosialistinen Neuvostotasavalta // Kahden Karjalan välillä. Kahden Riikin riintamaalla. Joensuu; Tampere, 1994. S. 195; 2) Rajaseudun väki kahdesti panttina 1939–1940 // Historiallinen Aikakauskirja. 1993. N 3. S. 205).
[Закрыть] что сказывалось на сути его исследований.
Таким образом, ошибочным было бы считать, что консервативные взгляды отдельных финских авторов в новых условиях уже полностью уступили дорогу реалистическим оценкам. Модифицируя концепцию так называемого «сплавного бревна» в финской историографии, сторонники Корхо-нена стали тогда представлять внешнюю политику Финляндии рассматриваемого периода в виде «управляемой лодки», двигавшейся в русле германской политики. Управляемость же ею понималась в смысле решения сугубо своих целей в войне, когда требовалось «миновать пороги и уметь заблаговременно при приближении их правильно определить соответствующий курс».[225]225
Kallenautio J. Suomi katsoi eteensä. Hels., 1985. S. 266.
[Закрыть] По словам военного историка Анси Вуоренмаа, когда «Финляндия с помощью Германии стремилась проплыть мимо „советских рифов“», то «лодка, оказавшись во власти волн в русле огромного течения, становилась неуправляемой».[226]226
Vuorenmaa A. Välirauhan ainoa – mietteitä vuosilta l940 ja 1941 // Sotilasaikakauslehti. 1981. N 6–7. S. 436.
[Закрыть] Так, теория «сплавного бревна» несколько видоизменилась и предстала уже в качестве «полууправляемой лодки».
В результате для исследований проблемы вступления Финляндии в войну на стороне фашистской Германии, осуществленных в 1980-1990-х годах характерен определенный отход значительной части финских ученых от тех взглядов, которые формировались под влиянием сложившихся в период войны, но этот процесс явно еще не завершился. Не поставлена и точка в исследовании той проблемы, которая связана с полным выяснением скрытой договоренности между Германией и Финляндией в 1940–1941 гг., а также характера ее оформления. Требовалось строго научно подойти и к выяснению утверждения о существовавшей для Финляндии «военной угрозы» со стороны Советского Союза, поскольку оно вошло в финскую историографию на прежней пропагандистской основе. Важно было прояснить и степень информированности Москвы о развитии германо-финляндских контактов в 1940–1941 гг., и какова была реакция руководства СССР на эти контакты.
М. Ёкипии, конечно, был прав, когда в заключении своего фундаментального труда о вступлении Финляндии в войну особо отметил следующее: «К настоящему времени сложилось лишь два исследовательских этапа: первый в 1945–1970 гг. был связан с использованием немецких источников, второй, наметившийся в 1970-е гг. и продолжающийся до сих пор, основан на документах западных стран и отечественных архивных материалах. Третий масштабный этап, базирующийся на открывающихся архивах России, еще впереди».[227]227
Jokipii M. Jatkosodan synty. S. 652–653.
[Закрыть]
Как же обстояло дело с исследованием рассматриваемого вопроса в Советском Союзе?
По существу в течение первых двадцати лет после окончания второй мировой войны этот вопрос в СССР не привлекал внимания исследователей. В советской историографии господствовало весьма твердое представление о том, что Финляндия являлась безусловным союзником Третьего рейха и особо останавливаться на проблеме о том, почему конкретно так произошло, не считалось, очевидно, нужным.