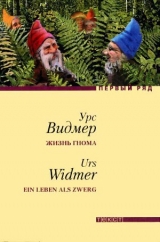
Текст книги "Жизнь гнома"
Автор книги: Урс Видмер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 8 страниц)
III
Проходили дни, месяцы, годы. Березы перед окнами стали высокими, а вишня выросла такой огромной, что Злюки повысили степень сложности восхождения с четырех до восьми с половиной. Полка, на которой мы стояли, все темнела и темнела и под конец стала цвета солодового пива, а на «второй миле», заканчивавшейся башней, построили еще три дома, похожих на виллы, обследовать которые мы даже и не помышляли, потому что они находились в запретной зоне. Как и прежде, мы не выбирались за пределы нашего мира, это было безопаснее, мы ведь уже знали в нем каждый уголок. Даже Злюки, не говоря уж о больном Новом Злюке, теперь не каждый день поднимались на Большую Антенну или на северную стену. Время шло, как ему и положено, в гномовском ритме, а он соизмерим только с вечностью. Вечность минус один день – так мы чувствовали жизнь, и последний день казался нам еще очень далеким. Да и мы оставались все теми же. Мы не менялись. Ну ладно, кое-какие изменения все-таки были, причем к худшему, но о них не стоило и говорить. Новый Злюка – ну, это был несчастный случай. Исключение. Дырочка в носу Старого Дырявого Носа стала больше, заметнее. У кого-то совсем стерлась краска, особенно пострадали животы у Лазуриков, которые (и не без причин) постоянно на что-то натыкались, так что стала видна голая резина. Да и со мной не все было ладно. Я крошился. Я старался не обращать на это внимания, да это еще почти и не было заметно, однако резина левой подошвы становилась ломкой. Правда, по сравнению с тем, как крошился Красный Зепп, у меня все было в порядке. А он, единственный из всех нас, разрушался по-настоящему. Он уже тогда выглядел как прокаженный, хуже, чем я сегодня. Его лицо напоминало местность, испещренную кратерами, а руки, казалось, вот-вот отвалятся, они и в самом деле скоро отвалились. Будущее у него было довольно мрачное. Возможно, вскоре у него останутся поллица да часть живота, а больше ничего.
И все-таки в этом доме менялись не мы, то есть мы тоже менялись, но совсем чуть-чуть. На наших глазах менялись обитатели дома, и так быстро, что можно было прийти в ужас. Я не стану упоминать о рыбках в аквариуме, которые десятками всплывали кверху брюхом. Умолчу и о волнистом попугае, который выглядел все более общипанным и уже вовсе не зеленым, а потом умер и свалился со своей жердочки. О кошке и Мальчике, дремавшем целыми днями перед входной дверью. Я расскажу про Нану и Ути. Вот это перемены! Мы видели, как они превращались в новых людей. Сильно выросли, всего за несколько лет изменились так, что я почти не узнавал их и удивлялся, почему Мама и Папа знают, кто это. (Папа поседел, а Мама потолстела.) Из Наны, которая когда-то была пухленькой и маленькой, размером с сигару, выросла долговязая девушка с бледным лицом и, позволю себе сказать, длинноватым носом, а Ути стал просто великаном с низким голосом, он начал носить бриджи, а иногда надевал настоящие длинные брюки, как Папа. Оба они все реже играли с нами, и, по мне, так это было даже хорошо. Когда с тобой все время играют, это очень действует на нервы. А то, что это начало конца, мне, безмозглому глупцу, и в голову не приходило. Еще какое-то время Нана, как и прежде, с удовольствием играла с нами, а Ути, правда нехотя, составлял ей компанию. Двигал нас туда и сюда, с безразличием опытного игрока и совсем без всякого азарта. Потом он забастовал. Нана поплакала – и стала играть одна. Говорила нашими голосами, хотя раньше это всегда делал Ути. Но она играла все реже, словно думала о чем-то другом, а однажды мы заметили, что она вообще больше не приближается к нам. Иногда мы видели, как она проходит по дому, а потом уже и этого не видели. Надо сказать, что нам это очень даже нравилось. У нас вдруг появилось невероятно много времени. Это было просто замечательно, ведь гномы никогда не скучают. Мы всегда что-нибудь придумывали, каждый день какое-нибудь новое ребячество. Например, строили пирамиды, как это делают атлеты, понятно, гномовские пирамиды: внизу, у основания, расставив ноги, стояли самые крепкие из нас, у них на плечах – гномы второго порядка, и так далее. Получалась башня из гномов, которая чем становилась выше, тем больше раскачивалась. Проблема заключалась в том, что если в основании стояли шесть гномов, то наверху не хватало еще одного – верхушка пирамиды получалась из двух гномов. А если мы уменьшали основание до пяти гномов, то наверху оказывались три гнома, каждый стоял на плечах у предыдущего. Самым верхним всегда был Красный Зепп, потому что он рассыпался бы на тысячу кусочков, даже если бы на него взгромоздился всего один гном. Вначале я стоял в нижнем ряду – Фиолеты крепко скроены, но из-за моей левой ступни меня освободили от этой обязанности, и постепенно я передвигался все выше.
Вскоре мы превратили недостаток в достоинство, и раз у нас не получалось построить правильную пирамиду из всех семнадцати гномов, то мы уменьшили основание. Теперь внизу находились три гнома, остальные же двенадцать гномов стояли один на плечах другого. А один раз опорой пирамиды были всего двое. Эта пирамида, скорее обелиск, оказалась настолько неустойчивой, что продержалась всего несколько секунд, а потом, хохоча и радостно крича, мы попадали на пол. Конечно, мы пытались строить и пирамиды с основанием всего из одного гнома, но у нас ничего не вышло, потому что для Кобальда, на плечи которого забирались остальные, это оказалось чересчур, а может, потому, что у Красного Зеппа никак не получалось быстро залезть наверх до того, как башня начнет заваливаться на бок. А потом – визг, ор, крики «хо-хо!» – и все падали. Конечно, мы по-прежнему соревновались в подскоках, но Зеленый Зепп так и не смог обрести свой прежний кураж и достичь былого мастерства. Того невероятно элегантного полета вверх, той точности, о которой остальные могли только мечтать. Правда, он больше этого не стыдился, он смирился со своими неудачами, так же, как и все мы. Лучшими прыгунами теперь стали Новый Лазурик Второй и Старый Злюка.
Некоторое время нам нравилось играть в игру, когда два гнома вставали друг против друга (победитель переходил во второй круг) и одновременно поднимали пальцы правой руки, один, два или три, четыре или все пять. При этом мы хором выкрикивали какое-нибудь число между единицей и пятью. Надо было угадать, сколько пальцев поднимет противник. Кто первым называл правильное число, тот становился победителем. Для этой игры требовались в равной степени наглость и знание психологии. Например, Кобальд, богоподобный, почти всегда поднимал все пять пальцев, так что не было никакого смысла, оказавшись с ним в паре, кричать: «Один!» А Новому Дырявому Носу, наоборот, было сложно сосчитать и до трех, поэтому, играя против него, я всегда поднимал четыре или пять пальцев. Понятно, что я все время выигрывал и у Кобальда, и у Нового Дырявого Носа. С холодными прагматиками, вроде Старого Злюки, было сложнее.
Как ни странно, мы почему-то почти всегда играли в эту игру на итальянском языке. Уно, дуе, тре. Иногда пытались говорить и на других языках. Уан, ту, фри или эдь, кеттё, харом. Но красивее всего звучал итальянский.
То было дивное время. Я почти не могу без слез вспоминать о нем. Зимой мы любовались ледяными цветами на окне, а летом – никогда уже лето не было таким жарким, как то, единственное, – лежали на знаменитом подоконнике и грелись на солнышке. Тем ужаснее был конец. Расставание. Разумеется, всякая катастрофа внезапна, но, если ты, как я тогда, даже и в страшном сне ни о чем таком не думал, она еще ужаснее. А случилось это так: мы все, кое-как построившись, стояли на своем месте, на полке, когда в комнату вошла Мама. Разумеется, мы тотчас замерли. Но я все-таки увидел, что она держит в руке большую коробку и решительными шагами идет к нам. И вот она уже бросает всех гномов, одного за другим, в коробку. Я видел, как кувырком полетели в нее Голубой Зепп, Фиолет Новый Первый и Фиолет Новый Второй, Старый Лазурик и Новый Дырявый Нос – все, один за другим. А еще я видел Ути, моего ставшего огромным Ути. Он небрежно стоял у двери, тихонько насвистывая, прислонившись к косяку и скрестив ноги. Засунул руки в карманы брюк и наблюдал, как Мама совершала свое чудовищное злодеяние. Он тоже преступник, раз допустил такое. И все-таки Мамина цепкая рука все ближе подбиралась ко мне, вот она уже схватила Серого Зеппа, Старого Злюку, Нового Лазурика – и в тот момент, когда она наконец потянулась ко мне, Ути сказал:
– Фиолета Старого оставь! – Мама в недоумении посмотрела на него, и он добавил: – Ты его как раз держишь в руке.
Мама бросила меня ему, он рассмеялся (смехом убийцы) и засунул меня в карман брюк. Там плохо пахло, просто воняло, и я не знал, спасен ли я или стал единственной настоящей жертвой, потому что меня разлучили со всеми, кого я любил.
Воспоминания о них – а гномы никогда ничего не забывают – со временем потеряли свою остроту, потому что иначе эту боль невозможно было бы перенести.
Карман брюк стал моим новым жилищем. Я больше не видел мира, я только чувствовал его запахи. Годами я делил свое жилье с носовым платком (иногда, не часто, его меняли на новый), футляром для очков, карандашом и мелкими монетками той страны, по которой Ути путешествовал в данный момент. Марки и пфенниги, франки, драхмы. Ему не сиделось на месте, он все время был в разъездах. (Я больше так никогда и не увидел свою родину. Полку, подоконник, вид из окна на башню.) Марсель пах рыбой, Прованс – лавандой, Берлин – слезоточивым газом, Лиссабон – прорванной канализацией, Энгадин – сосновыми иголками, а Париж – луковым супом. Но все места пахли Ути. А многие – как, например, мыс Сунион, или Штирия, или Берн – имели настолько слабый собственный аромат, что я чувствовал только запах Ути.
Редко, совсем редко он вытаскивал меня из кармана. Тогда я стоял всю ночь на чужом туалетном столике и таращился на закопченные обои нульзвездного отеля. На одном из островов Киклады – кажется, это был Наксос – я провел несколько дней на голубом столе и смотрел на яркий, до рези в глазах, свет, ярко-белую стену и кусочек неба, еще более голубого, чем стол. Поздно вечером приходил Ути и укладывался рядом на постель, а один раз даже заговорил со мной.
– Всё paletti, Фиолетти? – спросил Ути, но он ведь не ждал ответа, так что я не смог спросить его, почему он не скучает по моим друзьям, которых бросил на произвол судьбы.
Нечего и говорить, что я страдал. Но гном привыкает ко многому, и со временем я начал находить бесконечные поездки даже увлекательными и познавательными. (Кстати, странно, что мне ни разу не пришло в голову просто вылезти из кармана. Когда брюки лежали на стуле, а Ути спал глубоким сном, я без труда мог бы распрощаться с носовым платком и мелочью и выбраться на свободу. Через окно, в огромный мир, навстречу неизвестности. Тот же Наксос был чудесным местом. Этот яркий свет! Это жаркое солнце! Но по какой-то причине я держался за Ути, словно мы с ним были неразрывно связаны.)
И я учился слушать! Я слышал места высочайшей европейской культуры! (Ути не пропустил ни одного музея от Северного моря до Гибралтара.) Никогда не забуду голос из громкоговорителя в Сикстинской капелле – неужели это был сам Папа? Все время, что Ути, а значит, и я вместе с ним маленькими шажками продвигались вперед, он, не замолкая, торжественно сообщал на всех языках, что скоро мы вступим в Сикстинскую капеллу. А потом, что вот мы и вступили в Сикстинскую капеллу. В конце же, когда было пора уходить, он сообщил, что теперь мы должны покинуть Сикстинскую капеллу, и благословил нас всех. Цистерцианская церковь где-то к югу от Рима запомнилась мне потому, что там женщина пела как ангел и звуки ее голоса, казалось, уходили в вечность.
И разумеется, я слушал непрерывно шумевшие волны (Ути обожал море), гудки пароходов, урчание мотороллера Ути, шум подъезжающих поездов метро, музыку, прорвавшуюся сквозь хрип транзисторов (мне больше всех нравился Шарль Азнавур, его голос был похож на мой, да и произношение тоже, а еще Джильола Чинкветти), звон бокалов и стук тарелок в разных забегаловках, объявления в аэропортах. Но больше всего меня интересовали люди. Иногда стоял такой ор, ведь Ути не самый спокойный и тихий человек в мире! Громкий смех, крики, почти как у нас, гномов! Правда, чаще всего Ути разговаривал с женщиной, у которой был тихий голос. Тогда и Ути не очень-то кричал. (Позднее появился еще и ребенок, девочка, щебетавшая совсем как эта женщина.) Из-за них – из-за женщины и ребенка – я не раз рисковал собой, карабкаясь вверх, хотя Ути должен был чувствовать каждое движение в кармане. Тщетно. Когда я наконец высовывал голову наружу, женщины и ребенка давно уже не было рядом, а Ути, не глядя, шлепал меня по голове, потому что думал, будто у него чешется нога.
Но однажды эти бесконечные путешествия закончились. Ути научился жить на одном месте и освободил меня из моего матерчатого заключения. Он поставил меня на новую этажерку, рядом с глиняным зубным врачом и его глиняным пациентом. (Новая этажерка ничем не напоминала старую. Белая краска, из окна вид на «вторую милю» не длиннее дюжины гномовских футов, а больше ничего.) Как я уже сказал, Ути работал и спал в этой комнате. И все. Иногда я слышал голоса со второго этажа. Тихие, далекие, в доме была хорошая звукоизоляция. Но я все равно различал голос Ути – его бас ни с кем не спутаешь, – и вполне возможно, что второй голос, нежный, принадлежал той женщине, которую я знал еще со времен жизни в кармане. Но ко мне вниз она не спускалась никогда.
Девочка, вероятно, больше не жила в доме, наверное, и она стала такой же большой, как когда-то Нана. Может, второй женский голос, который я временами слышал, принадлежал ей. А потом появился еще один ребенок, опять девочка, и она тоже щебетала так, словно это исключительно для нее только что начала вертеться Земля.
Редко, очень редко появлялась Эсперанца, уборщица, которая отламывала от меня кусочек за кусочком.
Ни один гном никогда не делал такого, что потом стал делать Ути. Часами колотить по клавишам пишущей машинки, выдергивать лист из каретки, комкать его, вставлять новый. Терпеть неудачу, начинать по новой, терпеть еще большую неудачу. Нет, это и в самом деле не про нас. Но у всех у нас, пока мы еще были вместе, в голове крутились истории. У каждого и в любом количестве. И мы все снова и снова рассказывали их друг другу. Это был почти ежедневный праздник. Мы усаживались вокруг рассказчика. Не сводили глаз с его губ, смеялись, плакали, потели от волнения. У каждого из нас приготовленный для друзей рассказ был сформулирован в голове с точностью до единого слова, а некоторые, честолюбивые и одаренные, тщательно шлифовали свои истории – пока слова не начинали как бы светиться. (Другие – ленивые и очень одаренные – импровизировали.) Разумеется, не всем одинаково хорошо удавалось придумать занимательный рассказ и увлечь слушателей. Новый Дырявый Нос, например, всегда рассказывал одинаковые приключенческие истории, герои которых умели летать и спасали попавших в беду гномов от мести пышущих пламенем догов. Несколько верных друзей, и я в их числе, несмотря на скуку, всегда сидели вокруг него. А вот Старый Злюка был рассказчик совсем другого калибра. Мы часто собирались подле него, и он докладывал, стоя неподвижно, словно статуя, о приключениях гномов-альпинистов, когда английские прагномы вначале освоили вертикальное восхождение на комоды своей родины, а потом на стены коттеджей и, наконец, на Биг-Бен. Мы просто видели, как гном, идущий первым – лидер в связке, – в снежный ураган пересекал северный фасад Дома парламента, и, пока он висел, удерживаясь лишь кончиками пальцев, высоко над оживленными в часы пик улицами Лондона, стена все больше покрывалась льдом.
Но самым замечательным рассказчиком был все-таки Зеленый Зепп, пожелтевший Зеленый Зепп. Казалось, что во время путешествия он обменял у своего великана умение подскакивать на дар рассказывать истории. Перед исчезновением, когда он был еще зеленым и скакал, как молодой бог, он мог только бурчать себе под нос, да так тихо, что мне ни разу не удалось услышать всю историю до конца. Ничего удивительного, что у него всегда было очень мало слушателей. Но после того как он вернулся желтым, никто из нас ни разу не пропустил ни одного его выступления. Стоило ему сказать: кстати, я тут опять кое-что придумал, как насчет трех часов около аквариума? – и все мы, все шестнадцать, окружали его плотным кольцом и не сводили с него глаз. Мы верили каждому слову Зеленого Зеппа, хотя все его истории были очень запутанными. Он говорил четко, живо и с таким чувством, что в нужных местах у нас на глазах выступали слезы, у всех, у каждого, а у него – нет. Мы корчились от смеха. А он оставался серьезным. Мы все время к нему приставали, чтобы он рассказал еще, и он рассказывал. Нередко сразу же начинал вторую историю, он вообще любилрассказывать. А потом, когда, взмокнув от долгого выступления, заканчивал последнюю, самую последнюю, совсем крошечную заключительную историю, мы, раскрасневшись от удовольствия, стояли вокруг него, хлопали его по плечу и говорили:
– Замечательно, Зепп! Потрясающе!
И только Кобальд уже обдумывал свое выступление, он всегда хотел рассказывать сразу после Зеленого Зеппа, потому что надеялся «унаследовать» его зрителей. Мы еще обнимали Зеленого Зеппа, находясь под впечатлением от услышанного, улыбались друг другу, а в это время уже раздавался его громоподобный голос. Мы кидались врассыпную и прятались по другую сторону аквариума, под шкафом с голубыми дверцами или даже за вудуистскими куклами. Кобальд стоял в одиночестве перед рыбами и потрясал кулаком. Один или два раза ему удалось ухватить Серого Зеппа за куртку: тот долго колебался, куда бежать. В первый раз Кобальд прокричал ему в ухо притчу о блудном гноме, а во второй – расписанный по секундам ход дня Страшного суда, от нуля до двадцати четырех часов.
Я тоже любил рассказывать. И тоже, думается, делал это неплохо. Я и в самом деле собирал иногда по десять или даже больше гномов. Большей частью мои истории были абсолютно новыми – во всяком случае, в первые годы, – но время от времени я объявлял, что собираюсь повторить какой-нибудь из моих лучших рассказов, и повторял, разумеется, слово в слово что-нибудь из старого. Такие мои выступления вскоре стали очень популярными, некоторые из моих собратьев в первый раз пропустили историю и, следовательно, слушали ее теперь как новую, но большинство ее помнили – причем, как и я, дословно, – и они проговаривали текст хором вместе со мной. Гномы произносили слова в нос, надрывая животы от смеха, хотя мои истории были серьезны и трогательны. Вначале это сбивало меня с толку, потом я тоже стал смеяться и все чаще устраивал эти ностальгические выступления, которые скоро так же полюбились гномам, как и рассказы Зеленого Зеппа.
Позднее, оставшись один, я стал все отчетливее понимать, как это ужасно, что меня больше некому слушать. Нет ни одного друга, ни одного собрата, даже кошки или волнистого попугая. Поначалу было еще ничего, я просто мысленно рассказывал истории себе самому. К тому же я все время переезжал с одного места на другое, и это отвлекало. Но еще обретаясь в кармане брюк, я начал бормотать себе под нос. Потом на этажерке я говорил уже в полный голос и смотрел при этом на зубного врача и его пациента. Некоторое время мне и впрямь удавалось делать вид, что они – внимательные слушатели. Однажды, рассказывая, как я залез на обеденный стол и танцевал на его зеркальной поверхности, словно Нуриев, я почувствовал настоящий исполнительский азарт и некоторое время говорил, склонив голову и пытаясь держать руки в красивой позиции, как это обычно делают танцоры. Когда я закончил, у меня появилось чувство, будто оба глиняных истукана стоят не на своем месте. Что они немного придвинулись ко мне. Неужели возможно, чтобы у них было так же, как у гномов, что я для них – то же, что Ути для меня? Неужели они тоже живые и застывают в какой-либо позе лишь за сотую секунды до того, как на них упадет мой взгляд? Я содрогнулся при этой мысли, меня бросило в дрожь – и вопреки всему, что я знал, я начал пытаться застукать этих двоих, оглядываясь на них быстро и неожиданно, и, разумеется, всегда опаздывал на ту самую сотую секунды. Всякий раз оказывалось, что они застыли в своей глиняной кататонии. И все-таки? Разве дантист не стоял только что немножечко дальше? А рот пациента разве не был открыт чуточку шире? Если эти двое были живыми, то наверняка испытывали ко мне не самые дружелюбные чувства. У зубного врача в руке были щипцы, которыми он мог разорвать меня на кусочки. (Пациент выглядел тупым, непроходимо тупым, но для помощи в убийстве большого ума и не надо.) Теперь я старался не поворачиваться к ним спиной. Сидеть на краю полки, болтать ногами и заключать пари с самим собой: кто сейчас пролетит перед окном – дрозд или воробей. Я оглядывался через каждые две секунды. Зубной врач и его приспешник стояли неподвижно, но, могу присягнуть, они приближались, как Бирнамский лес. Если они столкнут меня в пропасть – а внизу лежит блестящий твердый паркет, – то у меня отвалятся ноги. Гному, у которого остались только голова и тело, далеко не уйти. Если его не найдут, он так и останется лежать. Тело и голова. А если его подберет человек, то гном окажется в мусоре. Потом в контейнере, в мусоровозе и, наконец, отправится с остальными дурно пахнущими отходами в жар печи, чем ближе, тем жар будет сильнее, и пламя станет последним, что он увидит.
Потом случилось нечто неслыханное. То, о чем я так тосковал каждую секунду в прошедшие десятилетия, о чем я ни разу не решился подумать хоть на мгновение. Я стоял, прислонившись к стене, напротив дантиста и его пособника – я больше никогда не выпускал их из поля зрения, – когда издалека донесся слабый шум. Далекое шарканье или неуверенные шаги. Сразу же, в основном потому, что этот шум был едва слышен, я понял: это – послание, касающееся сути моей жизни. Сердце мое остановилось. Я помчался к краю полки и посмотрел вниз. Внизу, далеко подо мной, шел Кобальд. Решительными шагами он направлялся к двери, которая, как всегда, была открыта, Кобальд шел наклонившись, подняв правую руку, словно держал в ней фонарь. Конечно же он вел свою колонну, хотя и был один. Впередсмотрящий и замыкающий в одном лице. Он шел так стремительно, что почти сразу же стала видна только его спина.
«Кобальд! – закричал я, то есть хотел закричать. – Я здесь!» Но я только стоял с открытым ртом, не в силах произнести ни слова, а когда ко мне снова вернулся голос и я смог что-то прохрипеть, Кобальд уже перевалил через порог и исчез.
У меня закружилась голова. Откуда он пришел? Куда направлялся? Когда я немного успокоился, то сказал себе, что он наверняка вернется. Раз он пришел слева, от лестницы, значит, назад ему надо будет тоже налево, это же логично. А тогда ко мне уже вернется голос, в этом я был уверен. Второй раз он не пройдет мимо меня. Чтобы голосовые связки меня не подвели, я все время кричал: «Кобальд!», или «Эй!», или «Алло!» Я кричал всю ночь. Ути в другом конце комнаты лежал на кровати и храпел. Бамбук перед окном стал вначале голубым, потом зеленым, а Кобальд все еще не возвращался. Тут я решил рискнуть всем, даже своей жизнью и спуститься на пол. Но в это время встал Ути, зашел в ванную и на минутку на второй этаж, а потом долго сидел, как пришитый, за своим столом. Как раз в этот день он работал без перерыва, не вставая, то есть он звонил, потягивался, крутил головой в разные стороны, листал то одну книгу, то другую, съел обезжиренный творог, несколько яблок, читал газету, менял батарейки в будильнике, насвистывал под радио мелодии из концерта по заявкам и время от времени стучал по клавишам своей пишущей машинки. Уже давно стемнело, бамбук превратился в темные джунгли, и тут он наконец встал, выключил машинку и настольную лампу и пошел на второй этаж. Я еще немного подождал, еще раз прикинул расстояние между мной и дантистом – бесполезно, потому что не был уверен, не сам ли я сдвинул зубного врача, – и начал спускаться. Я внимательно все осмотрел сверху и предполагал осторожно и плавно спускаться с доски на доску. Но полетел камнем вниз, потому что не смог удержаться на первой же доске. Я приземлился так жестко, что, казалось, слышал, как хрустнули мои ноги. Однако остался цел и невредим. Уф-ф-ф!
Я как раз собирался направиться в сторону туалета, когда из-за угла появился Кобальд, он шел от лестницы. Или я пропустил его в темноте, что маловероятно, или он поднялся на второй этаж по другой лестнице. Энергичными шагами он шел прямо ко мне, вроде как не узнавая. Может, у него запотели очки? Я уставился на него – он шагал, словно Каменный Гость, потом ринулся ему навстречу с воплями: «Кобальд! Кобальд!» Упал ему на грудь. Прижал лицо к его бороде, к щеке, обнимал его, целовал. Из моих глаз лились слезы.
– Ты тут! – рыдал я и прижимал его к себе еще крепче. – Наконец-то!
Кобальд не шелохнулся, а я, переполненный счастьем, лежал у него на груди. Я бы еще долго сжимал его в объятиях, но тут он резко высвободился из моих рук. Отступил на шаг, осмотрел меня сверху донизу и спросил:
– Мы знакомы?
– Это я, Фиолет Старый!
– А что тытут делаешь? – удивился Кобальд, он снял очки и начал протирать их своей бородой. – И почему ты так выглядишь?
– У меня проказа, – ответил я чуть потише. – Слишком много солнца, да и резина неважного качества… Ну до чего же я рад тебя видеть!
Да, я чувствовал, как меня наполняет тепло, оно поднималось откуда-то из живота и разливалось по всему телу, вплоть до кончиков пальцев. Оказывается, я, сам того не понимая, был словно мертвый, мертвый уже много лет, десятилетия; а теперь я снова ожил.
– Как я тосковал по всем вам!
Кобальд снова надел очки, пригладил бороду и посмотрел на меня своими синими глазами.
– Вообще-то я вполне обхожусь без всей этой банды, – произнес он наконец. – Правда, мне не хватает Серого Зеппа.
– Серого Зеппа?
– Он был такой душевный. – И Кобальд наконец-то улыбнулся. – Как мы с ним смеялись, Серый Зепп и я. Я всегда рассказывал ему свои истории. Он был моим лучшим другом.
Мы помолчали. Кобальд хорошо сохранился, гораздо лучше меня, его ноги все еще напоминали опоры моста, а крошился только большой палец его кулака. И даже куртка оставалась такой же синей, как когда-то, и красная краска шапочки потрескалась только в двух местах.
– Ну, мне пора, – сказал он и протянул мне руку. – Был очень рад.
– Но ведь мы только что нашли друг друга, – пробормотал я. – Я думал, остаток вечности мы проведем вместе.
– В таком случае я должен перестроиться. – И Кобальд снова пригладил бороду, на этот раз обеими руками. – Как ты думаешь, ты сможешь забраться на лестницу?
Я быстро закивал. Я чувствовал, что силы переполняют меня. И в самом деле, я почти без труда залез на второй этаж – Кобальд на каждой ступеньке протягивал мне руку и тянул наверх. Большое помещение, почти зал, и тоже все из углов, как и комната внизу. Одновременно и кухня, и гостиная. Плита, раковина, посудомоечная машина, холодильник, и тут же – кресла, пианино и телевизор, стоявший на уровне моего роста на полу. Я помахал нашему отражению в матовом телеэкране, Кобальд помахал в ответ. Потом он указал на маленький ящичек из некрашеного дерева, висевший так высоко на стене, что даже людям приходилось тянуться, чтобы достать до него.
– Там я живу, – сообщил он. – Днем. Экспедиции в дневное время невозможны. Здесь полно людей… Ах, как же хочется опять пройтись в колонне. А тебе?
– Мне это снилось каждую ночь, – ответил я. – Я уже не верил, что когда-нибудь снова смогу…
Он кивнул, встал, расставив ноги на ширине плеч, и закричал:
– В колонну стройся, стройсь! – И я занял свое место, которое теперь было сразу за ним. Я стал новым замыкающим. Кобальд поднял правую ногу и кулак – для этого ему пришлось сильно наклониться налево – и пошел вперед. Он сразу же задал стремительный темп, и поначалу я не совсем уверенно ковылял за ним на своих хромых ногах, но вскоре попал в ритм, который каждому из нас знаком от рождения. Бодрое раскачивание. Шаги Кобальда были замечательно точными, равномерными, так что я мог, как и положено, идти следом за ним, мой живот почти прижат к его спине, мои ноги не дальше расстояния стопы от его ног. У нас сразу же все получилось, так что мы действовали, как один организм. Это было восхитительно. Казалось, и Кобальд тоже радуется тому, что ветер свистит у нас в ушах от скорости.
– Приятно идти в колонне, правда? – прокричал он через плечо и запел.
Я тут же подхватил, и мы пропели весь наш репертуар, от «Эй, гном» и «Гномы рано поутру» до «Чу, кто это там?». Вдоль перил лестницы мы прошли в другую часть комнаты. Низкий столик, на котором стояло много баночек с краской для рисования пальцами, да и сам столик в нескольких местах был перепачкан краской. Еще одно кресло. Стереоустановка, тоже на полу. Мы обогнули следующий поворот перил, и на меня уставилась все та же вудуистская кукла; я так испугался, что наступил Кобальду на ногу.
Потом мы промаршировали по длинному коридору в темную комнату, где стояла одна кровать с горой подушек и одеял, из них торчал острый нос, один только нос, больше ничего, он шумно втягивал воздух и с храпом выпускал его.
– Это Изабель! – крикнул мне Кобальд и свернул налево.
– Кто такая Изабель? – так же громко спросил я, хотя мой рот находился прямо возле уха Кобальда.
– Ну, женщина, которая живет с Ути.
Распевая «Прощай, казарма», мы зашагали в следующую комнату, кабинет или мастерскую, а может, ателье, потому что пол был завален бумагой и остатками материи. У одной стены – компьютер, у другой – швейная машина. Книги и рулоны материи.
Наконец мы снова пришли в кухню-гостиную, где, уже стоя, но все равно в походном порядке, пропели «Отец и сын отправились в путь». Только после этого Кобальд вздохнул – ему ведь тоже наш поход доставил удовольствие – и пробормотал:
– Колонна, разойдись, вольно! Вольно!
Я уселся на бахрому ковра и наблюдал, как Кобальд без труда взбирался по зеркально-гладкой стене в свое орлиное гнездо. Поднявшись, он встал на край ящика, вскинул кулак и прокричал:
– До завтра, дружище!
Я помахал ему в ответ и побежал вниз по лестнице, словно новенький, только что с конвейера. Внизу, на паркетном полу, я скорее танцевал, чем шел, и с легкостью взлетел на свою полку.






