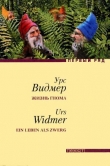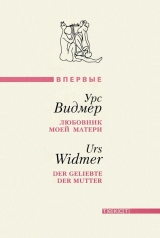
Текст книги "Любовник моей матери"
Автор книги: Урс Видмер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 7 страниц)
Большой дядя тоже не пережил войны. Кругом лай фашистов, да еще собственный сын лает громче всех. Борис теперь был хозяином в «I Leoni». (Оба маленьких дяди приросли к бочке с граппой, а тетя сновала в черном по коридорам.) Борис стал толстым и криво усмехался. Он каждый день ездил на «ягуаре» своего отца в Альбу, где в салоне ветхого дворца XVI века, сидя на ренессансном стуле среди паутины и рваных занавесок, как зачарованный слушал уже не очень молодую даму. У нее были стальной синевы глаза, крашеные светлые волосы и лошадиный прикус. Это была Анастасия, последняя дочь царя. По крайней мере, Борис в это верил, а может быть, что и сама лже-Анастасия считала, что она настоящая. Откуда бы иначе взялся ее резкий смех, царственные движения, божественная манера ставить чайную чашку на стол. Борис приносил ей все свои деньги. Они вместе собирались заполучить сокровища царской семьи. В награду Анастасия обещала ему половину янтарной комнаты. Это значительно перевешивало то состояние, которое исчезало на его глазах в ридикюле обожаемой им дамы. Теперь, когда никто не следил за порядком, «I Leoni», конечно, пришло в некоторое запустение. Трава и цветы снова разрастались на церковной колокольне, на террасе бушевала крапива, да, да и вино снова стало на вкус таким, каким было, когда еще имение называлось «I Cani» и правили там враждебные божества. В прежние времена негр не смог победить их окончательно, и теперь они мстили. Борис витал в облаках. Он был знаком с царской дочерью, она его, именно его предпочла всем! Он разбогатеет, станет несметно богат, богаче, чем кто-либо в Пьемонте и даже гораздо дальше.
Эдвин воспользовался войной, чтобы заняться фирмой. Сразу после ввода Гитлером войск в Польшу он позволил избрать себя председателем совета правления – в конце концов ему принадлежало семьдесят три процента акций – и оказался стратегически мыслящим и одаренным предпринимателем. Прежде всего он пригласил в руководство высокопоставленного военного, бригадного генерала, подчиненного Генеральному штабу «до особых распоряжений» и занимавшегося главным образом идеологической обороной страны. Он кое-что смыслил в руководстве и открыл для машиностроительного завода некоторые двери. Он был непосредственно подчинен Эдвину, чем-то вроде его правой руки, а вскоре стал в каком-то смысле даже другом. Во всяком случае, он время от времени, хотя и не слишком часто, сидел в каминном зале, выкуривал гаванскую сигару (и откуда только Эдвин в разгар войны добывал гаванские сигары?) и пил мутон-кло-дю-руа далеких предвоенных лет, запасы которого у Эдвина были такими, что хватило бы на тридцатилетнюю войну. Каждое утро в семь бригадный генерал должен был подавать Эдвину рапорт: дневной оборот, положение с заказами, новое определение долгосрочных целей, а также неполадки – Эдвин сидел при этом за своим письменным столом, внимательный, серьезный, а позади него посверкивало озеро, – и получал распоряжение на день. Бригадный генерал стоял. (Форму он носил, только если в тот же день ему надлежало ехать в Берн. И тем не менее ему стоило некоторого усилия не щелкнуть каблуками, когда Эдвин отпускал его кивком головы.) Война открыла продукции машиностроительного завода рынки таких масштабов, что у человека послабей, чем Эдвин, голова бы пошла кругом. У собственной армии, да и у вермахта тоже, была чудовищная потребность в машинах всякого рода. Главный укрепрайон поглощал тонны металла, для похода в Россию нужна была бездна автомобильных днищ и железнодорожных осей. У Эдвина голова нисколько не кружилась, он расцвел, ходил по коридору скорым шагом и без стука заглядывал в бюро. Беда, если сотрудник в этот момент стоял у окна и мечтательно смотрел вдаль! Эдвин проводил оживленные вечера с членами бундесрата и генералом. Не было ни одного приказа о мобилизации, который не обсуждался бы с ним. Производительность всегда вступала в спор с обороноспособностью. «Ah, Edwin, – воскликнул генерал в тот памятный вечер в марте 1943 года, когда они сидели в салоне отеля «Швайцерхоф» в Берне. – Ah, Edwin. Si je vous écoutais, та petite armée n'aurait plus de soldat du tout![19]19
Ах, Эдвин, если бы я вас слушал, в моей маленькой армии не осталось бы ни одного солдата (фр.).
[Закрыть]» Оба рассмеялись от всего сердца, и даже советник Кобельт, который как раз вернулся из туалета и услышал только конец генеральской шутки, присоединился к общему смеху. Машиностроительный завод разрастался так стремительно, что уже на второй год войны все мощности были использованы и Эдвину пришлось перенести производство многих деталей на средние и мелкие предприятия в полукантон Базельбит и вплоть до самой Юры. Их работники порой были лучше, чем на основном предприятии; особенно в Юре, где отклонение от допустимых размеров в десятую долю миллиметра даже в народе считалось основанием для увольнения. Скорее благодаря случаю – в первый раз так вышло само собой – Эдвин заметил, что такое предприятие попадало в катастрофическую ситуацию, если он внезапно отзывал крупный заказ. Тогда он мог купить его за безделицу. В первый раз такое произошло с «Хенни и наследники» в Гельтеркиндене, семейным предприятием, которое до войны производило алюминиевые оконные рамы и дверные ручки, а потом, как поставщик комплектующих машиностроительного завода, переключилось на стандартные алюминиевые элементы. Эдвин, тоже благодаря случаю, получил гораздо более выгодное предложение от «Штинер А. Г.» в Ваннгене и перенес заказ туда. С наследниками Хенни было покончено, и они – два брата, их жены, пятеро детей – были в конце концов еще и благодарны Эдвину за то, что он не подверг их тяготам банкротства, а купил фирму, хотя и гораздо дешевле ее стоимости. Эдвин испробовал эту систему еще несколько раз, и с неизменным успехом. Так что к концу войны завод, и сам увеличившийся на три корпуса, был окружен кольцом высокопроизводительных заводов-спутников, причем на некоторых из них изготавливалась нередко действительно уникальная продукция. Миниатюрные шарикоподшипники, винты с резьбой в волос толщиной или стальные тросы, весившие несколько граммов, но выдерживающие нагрузку на растяжение почти в тонну. На 31.12.1945 оборот машиностроительного завода десятикратно превышал оборот 1939 года. Эдвин, который и раньше был небеден, теперь сделался очень богат. (Его жена, не интересовавшаяся деньгами, покуда они были, покупала одну картину за другой, сказочных Сезаннов и Homme à la pipe[20]20
Мужчина с трубкой (фр.).
[Закрыть] Альберта Джакометти.) Он прогнал бригадного генерала со всей торжественностью и большими почестями, обзавелся цивильным первым помощником, специалистом из торгового банка. У него оставалось мало возможностей работать с оркестром. Слишком много музыкантов ушло на военную службу, слишком мало было слушателей. Так что за всю войну он дал всего два концерта на радио – традиционные программы, не останавливающиеся даже перед вальсом из «Лебединого озера» Чайковского, – и один концерт для военнослужащих в Цофингене, составленный в народном духе и заканчивающийся национальным гимном, который все выслушали стоя. После войны Эдвин сразу же возобновил концерты «Молодого оркестра». Все музыканты были в порядке, воинская служба на границе оказалась нелегкой, но не смертельной. (Правда, не было концертмейстера, а еще виолончелистки.) Даже перед первым концертом наплыв публики был таким – люди изголодались по музыке, – что Эдвин попросил разрешения выступать в Штадтхалле. Это был оплот филармонии, и ее дирижер, косный музыкальный чиновник, изо всех сил интриговал против Эдвина и его оркестра. Он говорил об осквернении богатого традициями места – сам Вейнгартнер и Фуртвенглер дирижировали здесь – какофониями всяких Бергов и Шёнбергов. Но Эдвин все-таки получил зал, и притом точнехонько на тех же условиях, что и филармония. Шесть четвергов и шесть пятниц в сезон. Так что первый послевоенный концерт состоялся в Штадтхалле 13 сентября 1945 года. Моцарт, KV 201, Двойной концерт для струнного оркестра, фортепьяно и литавров Богуслава Мартину и Маленькая симфония для арфы, чембало и двух струнных оркестров Франка Мартина. Мать теперь сидела на балконе, далеко от Эдвина. Между ним и нею, глубоко внизу, лежала бездна паркета. Эдвин вышел на сцену, зрители захлопали, а когда погас свет и все стали слушать, затаив дыхание, у нее снова, как прежде, появилась потребность громко закричать. Как раньше, когда она сидела с отцом, и все, даже папа, выглядели как мертвецы. Теперь она боялась, что сама принадлежит к мертвым. Но не закричала. Она неподвижно смотрела вниз и видела Эдвина, как всегда скупым жестом дававшего музыкантам знак к вступлению. Моцарт был великолепен, Мартину громок, а на Мартине она так замечталась, что ничего не слышала и даже не заметила, что арфистка была той самой молодой женщиной, которую Эдвин обнимал на парижской фотографии, но постаревшей, как и она сама. В антракте, однако, она получила полное удовольствие. «Добрый день, госпожа доктор! Добрый вечер, господин профессор!» Все они снова были здесь, а некоторые здоровались в ответ. Профессор фон ден Штайнен, медиевист и антропософ, даже задержался и спросил, как она поживает. Мать от радости вся горела. Аплодисменты по окончании концерта были бурными. Эдвин, как всегда, кивнул. После четвертого выхода на сцену он скупым движением приказал оркестру подняться в знак благодарности. Все вскочили и стояли с инструментами в руках у своих стульев. Тут только мать заметила, что на месте ее подруги, виолончелистки, весь концерт сидел молодой человек с бледным лицом; ее преемник.
Странность матери состояла уже не в том, что она стояла поленом в углу, как когда-то в детстве. В ознобе от возбуждения, со сжатыми кулаками, с закатившимися глазами, с мыслями о королях и убийцах, чьей жертвой и повелительницей она была. Она не скакала больше по своим светлым внутренним ландшафтам, пока ее оставшаяся на земле телесная оболочка бесформенно стояла в углу. Нет. Ее странность теперь заключалась в том, что она стала точно такой же, как все люди. Нормальной. Да, она была нормальнее самых нормальных – потому что безошибочно могла отделить правило от исключения. Она никогда не позволяла себе, как они, немного что-то сократить, сделать перерыв, перевести дух, но всегда шла предписанным законом путем. Она была аккуратнее самых аккуратных, пунктуальнее самых пунктуальных. (Ей самой так не казалось, в ее глазах она всегда оставалась недостаточно совершенной. Никто, не говоря уж о ней самой, не имел абсолютно чистой кожи, лишенной каких бы то ни было загрязнений.) Если она стелила постели, то на веки вечные. Если здоровалась с кем-нибудь – «Добрый день, господин профессор! Добрый вечер, госпожа доктор!»– то улыбка ее была еще чуточку теплее, чем у тех, кто ей отвечал, голова склонялась еще чуточку ниже. (В снах она была не такой. Ей снилось – или это снилось ее ребенку? – будто ее ребенок ест собственное сердце, потому что боится материнской пищи. Он сошел с ума, ее ребенок, у матери сумасшедший ребенок, про это даже в полиции уже знают, и соседи, да все. Ей грезилось – или ее ребенку, – что у нее окровавленная страшная пасть.) Теперь она много говорила, практически не умолкая, и громко. Она всегда стояла слишком близко. Так что любой – мужчина, женщина, ребенок и даже собака – сразу же отступали на шаг назад. Она, конечно, сразу же придвигалась. Она начинала разговор в дверях и долго не заканчивала у садовой калитки. Те, кто говорил с ней, рано или поздно сдавались, измотанные, уставшие. Соглашались со всем, что она говорила, даже с самыми странными вещами. Она полностью высасывала силы из своих жертв, оставляя пустую оболочку. Это было ее победой. Когда мать бывала одна, она по-прежнему шептала про себя. Непрерывно сновала по дому, словно облаченная в невидимые доспехи, сочленения которых производили эти странные звуки. Она по-прежнему вступала в рьяные споры, дискутировала с кем-то невидимым, мужчиной или женщиной, в полный голос и с использованием весомых аргументов. Вина – о, сколько там было вины! Она не сдавалась, и голос не сдавался тоже. «Я не могу больше!» – рыдала она, если голос получал слишком уж сильный перевес. Или назначал слишком ужасное наказание. Слишком зло унижал. Способы смерти она тоже проборматывала про себя как молитву – еще чаще, чем прежде. Повеситься, спрыгнуть, утопиться: не было вида смерти, который бы отсутствовал в ее списке. О, она, разумеется, по-прежнему считала, что должна забрать ребенка с собой. Ни одна хорошая мать не оставляет своих детей. Ночей она тоже боялась по-прежнему. Она лежала в темноте с открытыми глазами и ждала своих убийц. На нее без слез невозможно было смотреть – комочек грязи, который хотел быть гранитом. Казалось, взять бы молоток, да и разбить эту магнитную гору. На тысячи кусочков, а там, где рот продолжал бы шевелиться, еще пару раз стукнуть. Да, она часто повторяла: «Меня надо прибить до смерти». Смеялась, а в глазах стоял панический ужас. «Сама по себе я не умру». И в самом деле, никогда у нее не было ни гриппа, ни зубной боли. Боли она не испытывала совсем. Не чувствовала ни жары, ни холода. Теперь ее странностью стало то, что она всегда была здорова.
Тянулись дни, летели годы. Деревья вокруг дома так разрослись, что его уже не было видно от садовой калитки. В доме завелась кошка, ловила себе мышей, умерла. Мать ухаживала за садом, в котором росло все меньше овощей и все больше цветов. Декоративные вишни, тюльпановое дерево. И снова сирень. Теперь ей помогал некий господин Йенни, таможенный чиновник, который в свободное время нанимался в дюжину садов в городе и делал свою работу бегом. Поливал цветы, сгребал листья, полдничал. Наверное, он и мочился на бегу, и уж точно при этом еще и разговаривал. Разговоры, да еще быстрота перемещения связывали его с матерью. Она бегала за ним следом – казалось, она гонит его перед собой – и говорила ему в спину, а он отвечал ей через плечо, громко, как трубы Страшного суда. Его звали господин Керн, а не господин Йенни. Они хорошо понимали друг друга, этот господин Керн и мать. Однажды, раскаленным августовским днем, господин Керн бежал с двумя пустыми лейками и матерью за спиной к бочке с водой. Он резко обернулся, и, продолжая бежать спиной вперед, посмотрел на мать огромными, круглыми от ужаса глазами и упал на землю. Мертвым. Собака, Джимми, тоже умерла, а потом и следующая, Валли. Муж матери тоже внезапно умер, вообще-то еще не достигнув возраста, в котором умирают мужчины. Она похоронила его, но не в семейной усыпальнице. Ее отец бы этого не хотел. Много народу пришло на похороны, очень много; большинство из пришедших она не знала. Мать не хотела больше жить вдали от большого дяди из «I Leoni». Она убедила Бориса разрешить ей пользоваться домом из камней в летнее время и выгребла оттуда весь мусор. Все эти пыльные пустые бутылки, разбитые упаковочные ящики, тележные колеса и полозья от саней. Она мыла и мела, пока дом, или, скорее, пещера, не засияла, как во времена негра. Она оставила все таким, как было в его время, во времена погонщика, времена молодости ее отца, готовила при свете свечи и целый день держала дверь открытой, чтобы хоть что-то видеть. Собирала дрова в лесу и колола их на чурбане, стоявшем позади дома. Качала насосом воду. Спала на узеньком матрасе, брошенном на решетку из деревянных планок. Часто, да практически каждый день, она поднималась на гору, устремлявшуюся ввысь прямо перед ней, которую местные называли Il Cattivo, злюка; правда, она никому не причиняла вреда, просто грозила из-под тяжелых облаков, и благодаря случайному расположению каменных россыпей под ее хитрыми глазками вечно сидела кривая ухмылка. Как будто она знает про некую катастрофу, которая случится прямо сейчас, или завтра, или через тысячу лет. Мать так часто поднималась на Il Cattivo, что протоптала тропинку между дверью дома и вершиной. Теперь она каждое лето бывала в доме из камней и уже никогда не ездила в другие места. Позднее ее изгнали и оттуда, когда Борис разорился и ему пришлось отдать «I Leoni» своему злейшему конкуренту. (Анастасия давно исчезла со всеми деньгами, которые он вложил в нее и в янтарную комнату, а злейший конкурент воспользовался неосторожностью Бориса и соблазнил его секретаршу, которая в конце концов навсегда осталась в постели конкурента, прихватив все служебные документы.) Борис попытал счастья как сборщик трюфелей. Но его свиньи ничего не находили или пожирали самые ценные грибы, прежде чем он успевал оттащить их за поводок. Потом он два сезона держал купальню в Нерви. Он был управляющим или чем-то вроде инструктора по плаванию, который еще и продавал лимонад и мороженое. Наконец, сделав последнюю попытку вырваться из нужды, он занялся торговлей недвижимостью. Тогда он снова стал носить с собой повсюду толстые пачки денег – не своих – и нахваливал немцам-инвесторам дома, которые грозили развалиться уже во время переговоров о продаже. Однажды он попал под суд, ему пришлось выступать как свидетелю – речь шла об отмывании денег, – он весь раскраснелся, пот тек ручьями, запутался в бесчисленных противоречиях, но вышел сухим из воды. Тогда он решил вернуться на виллу Домодоссола, в дом из кучи камней, потому что другого дома у него не было. У него ничего больше не было, только его «ягуар», который, добравшись до дома из камней, тоже испустил дух. Сломался бензонасос, а у Бориса не было денег, чтобы заказать новый в Англии. Он и мать в одном доме, – наверное, на пару недель это было можно устроить, но с Борисом была тетя и оба маленьких дяди, которые сразу же по-домашнему расположились во всех углах дома. Мать, ни о чем не подозревая, явилась со всеми пожитками как раз в тот момент, когда дяди все вместе принимались за выпивку по поводу своего прибытия. Тетя смотрела неподвижным взглядом птицы. Борис сожалел, что не может отвезти ее обратно на вокзал: ну как же, ведь насос полетел. Оба дяди стояли, прислонившись друг к другу, и ухмылялись. Мать взяла свой чемоданчик и пошла. Этикетки на нем выцвели так сильно, что только она одна и могла их прочесть. «Сувретта» – далекий образ, «Даниели» – дуновение иных времен. С тех пор она оставалась в своем доме на окраине, даже летом. Дом давно уже стоял не на окраине, его окружили новые здания. На месте пшеничных полей были теперь сады с высокой живой изгородью. Небольшие подъездные дорожки с площадкой для разворота. Раза три-четыре она не выдерживала и отправлялась в психиатрическую клинику, которую никогда не называла психиатрической клиникой. Она говорила – санаторий. Каждый раз это был другой санаторий. Университетская клиника, Хайлигхольц, Зонненберг. Ее лечили лекарствами, от которых она становилась тихой. Бессловесной. Не очень твердым шагом ходила по посыпанным гравием дорожкам. Скорее даже не ходила, а парила, глаза ее проплывали мимо глаз тех, кто пришел ее навестить. Электрошока она больше не получала. И по-прежнему не могла плакать – никогда, ни слезинки. Она посещала каждый концерт «Молодого оркестра». И все больше походила на королеву в изгнании, Queen mother, напудренная добела дама со строгим очарованием. Концертами она наслаждалась и присутствовала при всех памятных событиях. «Жанна на костре» Артура Хонеггера! «Идоменей», удивительно серьезный Эрнст Хэфлигер! Шёнберговский «Лунный Пьеро». Все новые, например Вольфганг Фортнер! Штокхаузен! Кельтерборн! Вильдбергер! И Барток, вновь и вновь Барток. Ах, как они были прекрасны, эти концерты «Молодого оркестра». Потом наступил день рождения, когда Эдвин не прислал орхидею. Никакой карточки с надписью фиолетовыми чернилами «Всего доброго, Э.». Мать стояла у окна и неподвижно смотрела на садовую калитку. Этот день, этот день рождения, был страшным, просто ужасным днем, самым плохим за долгие-долгие годы. Еще позже она стала вытворять странные вещи. Она, уже старая дама, присела отдохнуть на рельсы пригородной железной дороги. Машинист остановил поезд – участок дороги был хорошо виден – и помог матери взобраться на насыпь. Она радовалась его помощи и смеялась. Теперь она снова стояла у озера и время от времени забредала в него; хотя никогда не заходила так далеко, как раньше. Она переходила улицу где и когда хотела, не глядя по сторонам. Скрежет тормозов, сигналы машин, лязг металла и звон стекла не выводили ее из равновесия. Став глубокой старухой, она начала путешествовать – чем опаснее, тем лучше – и ездила, например, автобусом по всей Восточной Турции. Один раз всем пассажирам пришлось прятаться за земляным валом, потому что турки стреляли в курдов, или наоборот; во всяком случае, поверх их автобуса. Мать присела на корточках рядом с молодым, побелевшим как мел мужчиной и подмигнула ему. Еще она была в Нью-Йорке и каждый день, надев ботинки, выглядевшие как утиные лапы, и непромокаемую куртку, отправлялась исследовать Бронкс, Бруклин или подземку. У нее всегда в правом кармане куртки лежала десятидолларовая бумажка – на случай, если на нее нападут. Тогда бы она произнесла фразу, которую тщательно отрепетировала: «There you go, young man![21]21
Хорош, нечего сказать, молодой человек! Ну и ну! (англ.)
[Закрыть]» и дала бы ему деньги. Но на нее никогда не нападали. Однажды в Гарлеме она пила чай, стоя у стойки бара на одной из соседних с Третьей авеню улиц. Это было кафе для гомосексуалистов, для черных гомосексуалистов, и мою мать обслуживали, очень веселясь. Ее английский звучал так, как ее учитель представлял себе оксфордский английский. «There you go, young man!» – сказала она, расплачиваясь.
17 февраля 1987 года мать убрала постель в доме для престарелых, в котором она теперь жила, выровняла серебряные вазочки и подсвечники и написала на листочке бумаги: «Я больше не могу. Продолжайте жить и смеяться. Клара». Почерк ее теперь походил на трепыхание больной птицы. Мать открыла окно – она жила на седьмом этаже – и еще раз посмотрела на освещенный солнцем другой берег. «Эдвин», – сказала она. Потом прыгнула. И тогда она – я так думаю – закричала. «Эдвин». Внутри нее бушевало все, что было выстрадано за восемьдесят два года. Ревели стихии. Бешеный поток воздуха выжал слезы. «Эдвин!» Она ударилась о крышу машины управляющего домом, «фиат» 127 модели. На ней был только один ботинок, другой – один из тех утиных башмаков – зацепился за оконную раму и застрял там. Церемония прощания проходила в одном из залов городского кладбища. Пара подруг, ее ребенок. Я. Никакого священника. Она, которая всегда хотела все делать как все, не желала иметь никаких дел со священниками. Так что никто не говорил речей. Первый скрипач «Молодого оркестра» – он давно уже покинул оркестр, он стал – и он тоже – стариком, – дрожащими пальцами играл Баха. Никакого венка от Эдвина. Ни карточки, ни фиолетовых чернил. Гроб покатился неожиданно, без предупреждения, без звуков трубы, к внезапно открывшемуся люку, в огонь, куда все, с ужасом в душе, неотрывно смотрели. Люк опять закрылся. Несколько участников траурной церемонии поднялись, посмотрели налево, посмотрели направо – не знают ли они кого-нибудь из присутствующих, и пошли по домам. Урна с прахом матери через несколько дней была похоронена в семейной гробнице на городских укреплениях. Слева от нее стоит урна ее отца, а место справа все еще свободно. Управляющий домом, «фиат» которого оказался поврежден, еще почти целый год судился со страховой компанией умершей матери. Он полагал, что сумма возмещения ущерба, которую ему выплатили, слишком мала.
История рассказана. Это история страсти, упорной страсти. Это реквием. Это поклон тяжело прожитой жизни. И может быть, еще вот что. Недавно, еще и недели не прошло, я пошел в Этнографический музей, чтобы посмотреть коллекцию Верна. Бродил по залам, рассматривал дикие маски демонов и восхищался реконструкцией хижины благородного обитателя, скорее всего самого Верна. Гамак, правда, был не из золота, гамака вообще не было, но в деревянной чаше лежали две давно уже высохшие, свернутые вручную сигары, которые очень походили на сигары Верна. Стол, два табурета, циновки. Украшения – вероятно, принцессы. А еще деревянная посуда и деревянные ложки. Глиняные горшки с прекрасными узорами. В музее я был один. Полная тишина; матовый свет из высоких окон. Только когда я пришел в зал с мужским домом – крупным экспонатом, занимающим всю стену, – я увидел еще одного посетителя, старика, который рассматривал ксатиру, черного быка выше человеческого роста, сделанного из чего-то вроде папье-маше, который использовался для погребения знати. Своего рода магический гроб. Рядом с гигантским быком мужчина выглядел таким маленьким, словно священное чудовище могло его проглотить. Оба стояли неподвижно, демон и человек. Поединок? Молитва? Меряются силами? Вдруг я узнал этого человека. Эдвин. Он состарился, стал глубоким стариком, но отнюдь не развалиной. Он едва не подпрыгивал, когда вырвался из колдовского круга чудища и перешел к деревянной роже, которая выглядела не столь опасной. Я переходил от объекта к объекту, пока не оказался рядом с ним. Эдвин тем временем осматривал лодку из цельного ствола, у которой была морда крокодила и в которой лежали два весла и три тыквенные бутыли для воды. Никогда еще я не видел Эдвина так близко. У него не только нос походил на клюв хищной птицы, но и глаза следили за всем зорко и внимательно. Он, конечно же, давно меня заметил и теперь быстрым взглядом окинул сбоку. Вокруг складчатой шеи Эдвина был повязан безупречно белый шейный платок.
– Я сын Клары, – сказал я.
– Кого? – Он по-прежнему рассматривал замаскированного под лодку крокодила.
– Клары. – Я назвал ее прежнюю фамилию. – Молинари.
Он повернулся ко мне.
– Клары Молинари? – спросил он. – Что-то не припомню такого имени. Я встречаюсь со столькими людьми.
– Я бы попросил! – воскликнул я, внезапно заволновавшись. – Клара была первым почетным членом вашего оркестра! Уж это вы наверняка должны помнить!
Эдвин стукнул себя рукой по лбу и воскликнул:
– Ну конечно! Старый друг Клара! Как она там поживает?
– Она умерла.
– Да. – Он кивнул. – Мы теперь всё чаще умираем.
Широким, охватывающим весь зал движением он указал на мужской дом, быка и лодку-крокодила.
– В высшей степени интересная культура. Очень сложное, крайне эффективное сплетение родственных отношений. Патрилинейное, но с сильным доминированием женщин. – Он поправил галстук.
– Почему вы больше не присылали Кларе орхидей? – сказал я.
– Орхидей?
– Да. С карточкой. Фиолетовые чернила. Всего доброго, Э. Я так и вижу ваш почерк, как сейчас.
– Такие вещи у меня проходят через секретариат. – Эдвин сожалеюще пожал плечами. – Вероятно, новая секретарша выбросила списки клиентов.
Я кивнул. Да. Это было правдоподобное объяснение. Я молчал. Эдвину разговор, похоже, тоже наскучил, потому что он поспешил наискосок через зал к витрине с демоническими свиными и собачьими головами.
– Вот еще что, – крикнул я, когда он дошел до другой стороны. – Почему вы заставили Клару вытравить вашего ребенка? Вашего ребенка?
– Кто это вам такое сказал? – Нас разделяли теперь двадцать−тридцать метров паркета, и голос его гремел. – Я никаких женщин ни к чему не принуждаю. Никогда. У меня четверо детей. И я всегда был щедр по отношению к их матерям. Крайне щедр.
Я пошел к нему, быстро, шаги звучали, как ружейные выстрелы. Может быть, мне хотелось дать ему пощечину, или ударить между ног, или хотя бы накричать на него.
– Я слушал все ваши концерты, – сказал я вместо этого, когда приблизился. – Всех Бартоков. Либерман! Хартман! Циммерман! Чудесно. – Правда, голос мой – громкий и почти такой же высокий, как у матери, – выдавал, что правая рука и правая нога у меня все еще подрагивали. Теперь он заулыбался. Вдохнул. Выдохнул. Да, он прямо-таки сиял.
– Послезавтра, – сказал он, – у меня концерт. Лигети, Барток, Бек. Вы, однако, приходите, приходите! – Он дружески потрепал меня по щеке, повернулся и быстрыми уверенными шагами пошел к выходу. Исчез в черноте двери, и я было собрался заняться свиными и собачьими масками, как он снова появился, раскрасневшийся от удовольствия. – Будь ваша история правдой, – сказал он со смешком, – вы были бы моим сыном! – Он поднял обе руки и снова уронил их. – Не повезло, молодой человек.
Он исчез так быстро, что не видел, как я постучал пальцем по лбу. «Вы что, думаете, без вас никак нельзя обойтись?» – орал я. Потом просто стоял и прислушивался к его удаляющимся шагам. К смеху, становившемуся все глуше. Хлопнула дверь, и снова стало тихо. Все демоны молчали, как уже много веков. Только бык в мужском доме, казалось, теперь смеется, так беззвучно, так раскатисто, что я тоже ушел из музея.
Сегодня похоронили возлюбленного моей матери. Я опоздал – стирал рубашки, так глупо, – и пришел к большому собору, когда церемония уже началась. Вся площадь заполнена скорбящими, которые уже не смогли войти в собор. Тысячи людей, вся площадь черна до самых домов гильдий на другом конце. Я все-таки сумел, проталкиваясь и работая локтями, пробраться внутрь церкви. Я застрял у тяжелой романской колонны, и мне пришлось встать на цыпочки, чтобы хоть что-то увидеть. В церковном нефе неподвижно, будто они и есть покойники, сидели дамы в черных шляпах с опущенными вуалями и господа – кое у кого цилиндр на коленях. Впереди сановники, многие в форме. Предположительно парочка членов Совета конфедерации, верхушка экономики и культуры. С такого расстояния я не мог рассмотреть их получше. Первый ряд занимали, конечно, семейства Бодмеров, Лерметьер и Монтмолин. По белым волосам я узнал старейшину Монтмолин, столетнюю даму, про которую в народе говорили, что даже гремучие змеи удирают от нее. Когда я пробился к купели, как раз говорил Президент. Я хорошо его видел. Он дал понять, что без музыки двадцатого века его жизнь была бы беднее. «Молодой оркестр», уже состарившийся, играл «Мавританскую траурную музыку» Моцарта и что-то похожее на Баха, чего я не знал. Правда, дирижера я не видел. Кафедра закрывала его так, что я мог рассмотреть только правую руку с дирижерской палочкой, да и то лишь тогда, когда он хотел уж очень распалить оркестр. Скорее всего, это был если не Пьер Буле, то Хайнц Холигер или же Вольфганг Рим. Кто-то из них, близких к молодому поколению. После окончания последнего произведения – стеклянно-модернистскому вскрику боли всех духовых инструментов, несомненно, какого-то современного композитора, возможно, самого дирижера – разразились безумные аплодисменты, fauxpas[22]22
Оплошность (фр.).
[Закрыть], который всех так огорошил, что они, продолжая хлопать, еще и поднялись со своих мест и устроили мертвому овацию стоя. Я давно уже стоял, но, не знаю почему, тоже хлопал. До боли отбил ладони. Аплодисменты все никак не прекращались – хотя гроб, скрытый в цветах, не поклонился, – и священнику большого собора, пожилому человеку с доброй улыбкой, пришлось погасить их, успокаивающе помахав рукой. У всех скорбящих были красные лица и сияющие глаза, как после особенно удачного концерта. Когда я вышел из собора, дождь лил ручьями. Море черных зонтов. Весь город хотел проводить покойного на кладбище, уж не знаю на какое. Я пошел домой, прежде чем тронулся катафалк, черный лимузин с белыми занавесками. Гремели колокола собора, а также всех церквей города. Позднее я еще пару часов просидел у телевизора и смотрел передачу по случаю ухода из жизни Эдвина. Этапы его жизни, страдания и триумфы. «Фигура эпохальная». Я видел Эдвина с Бартоком, Эдвина со Стравинским, Эдвина с молодой английской королевой, и один раз, когда камера пробежала по зрителям в Штадтхалле, в середине балкона, далеко, на какие-то секунды промелькнула тень, которая могла быть моей матерью.