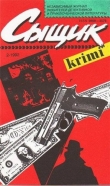Текст книги "Шутник"
Автор книги: Уорнер Лоу
Жанр:
Юмористическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
– А мне объяснение кажется вполне вероятным,– заметил Хэкстон.
Случается и почуднее,– поддакнул Моэм. Я едва ли не слышал, как скрипят от натуги его хитроумные мозги.– А в общем, хотелось бы взглянуть и на остальные картины. Пусть даже и подделки, но они могут представлять ценность... как диковинка.
– Так пойдемте, джентльмены,– я поднялся и двинулся к бойлерной, они – следом, не чуя даже, что за сюрпризец я для них припас! Стервятники.
По узким ступенькам мы спустились в бойлерную. Там было сумрачно, свет проникал лишь через окошко под потолком! В центре – печь, топящаяся углем. Везде валяются ящики с пустыми пивными бутылками. Я пригласил их присесть на скамейку под окном.
Бутылку бренди я припас заранее. В ней была вода, но бутылка была коричневая.
– Постойте-ка,– бормотал я, тычась в полумраке,– где же картинки-то? – и нашарил бутылку.– Извините, требуется освежиться.– Я приложился к горлышку и хорошо отхлебнул.– И куда ж это они запропастились? – Я опять потыкался по углам.– Боже! Уж не спалил их их туземец? Жалко-то,– и услышал, как джентльмены на скамейке охнули.– Хотя, если это подделка, как вы говорите,– невелика потеря.– Я опять отхлебнул.– Нет, погодите. Может, там.– Я извлек картины из темного угла.– О! Так и есть! Вот они! – и швырнул полотна на пол.– Ох, а пылищи-то! – Я схватил щетку и стал ожесточенно тереть одну.
– Не надо! – взмолился Моэм.
Я остановился и, сметя пыль тряпкой, показал им картины.
– Вот, джентльмены. Посмотрите не спеша.– Я повернулся и громко хлебнул «бренди», наблюдая за ними уголком глаза: они рассматривали одну картину за другой.
Пора. Уже должен был сказаться эффект от «бренди». Я нетвердо подошел к ним.
– Ну как, джентльмены? Подделка? Или нет?
Моэм с Хэкстоном переглянулись.
– Боюсь, дружище, все-таки подделка,– высказался Хэкстон.
– А ваше мнение, мистер Моэм?
– Так вот сразу не определишь,– замялся Моэм. Надо отдать ему справедливость, он, похоже, не такой наглый лжец, как Хэкстон.– Но я рискну, куплю их.– Нет, и он лжец.
В Папеэте был сумасшедший, совершенно "безвредный, его свободно пускали болтаться по улицам, но глаза он закатывал по-дикому. Я, пошатываясь, дико закатил глаза.
– Нет, сэр. Не продам.
– Почему же? – рванулся Хэкстон.
– Потому, джентльмены, что это – подделка. Сами же говорите! – Осушив бутылку, я жахнул ее оземь.
– Опять нализался! – прошептал Моэм.
– Почему вы так уверены? – спросил у меня Хэкстон.
– Я их сам писал! Вот почему!
– Совсем спятил! – пробормотал Моэм.
Пошатываясь и спотыкаясь, я подошел к ним.
– Да! Их написал я! Я – великий художник!
– Пусть даже так,– подольстился к сумасшедшему Моэм.– Но у них есть и свои достоинства, и я все равно готов купить их.
– У них есть свои достоинства! – радостно закричал я.– Ох, благодарю вас, сэр. Спасибо! Вы первый, кто оценил мои работы!
– Даю пятьдесят фунтов. За все.
– Целых пятьдесят? Искушаете меня, сэр. Вы искушаете меня. Нет.– С мрачной решимостью я взглянул на них.– Нет. Ни за что! Я хотел узнать – вы ведь разбираетесь в искусстве,– стоят ли чего мои творения?
– Стоят, стоят! – заорал Хэкстон.
– Нет, джентльмены, нет. Мои картины не на продажу. А ну как они попадут в руки бессовестных ловкачей, а те возьмут да и продадут их за подлинные! Гогеновские! Такого нельзя допустить! – Я собрал картины, одну выхватил из рук Хэкстона.– Их надо уничтожить! – и понес холсты к печи.
Нет! Остановитесь! – вскрикнул Моэм.
– Нет, только уничтожить! – я швырнул в топку две, они тут же вспыхнули.
– Вы соображаете, что творите?! – взвизгнул Хэкстон.
Я швырнул третью.
– Остановите его! – крикнул Моэм Хэкстону, и тот подскочил ко мне.
Я поднял лопату и рубанул воздух.
– Картины мои! Я имею право делать с ними, что пожелаю! – и швырнул в печь четвертую и пятую и захлопнул дверцу.– Вот! И конец!
– Боже! Боже! – стонал Моэм.
– Но, мистер Моэм, спасибо вам – вы вдохнули в меня жизнь. Обласкали. Без вас я бы, пожалуй, вовсе забросил живопись.
Я вышел, оставив их одних. Моя месть его высокоблагородию Моэму свершилась. Даже сейчас я хихикаю, вспоминая эту сцену.
(Примечание. Хихикает! Такое глумленье! Чем, в конце концов, Моэм так уж разобидел дядю Фрэнка? Обругал и пнул разок – в отместку на самую издевательскую провокацию?)
От горничной в гостиной я услышал, что после этого эпизода Моэм слег и три дня не мог ни работать, ни есть. Меня начала покалывать совесть. Поскольку счеты с ним я свел, я решил, что надо загладить свою вину. Хоть немножко, так сказать, возместить ущерб. Я отправился в кустарник к заброшенному дому, в котором разыскал стеклянную дверь со стеклянными панелями, двойник той, которую я разбил. Я снял ее с петель, отпилил нижнюю часть и приволок к себе в хижину. Там я принялся ее раскрашивать. Изучив полотна Гогена (все пять по-прежнему, конечно, хранились у меня), я усвоил, что художник частенько писал один и тот же предмет в различных позициях.
На той первой двери обнаженная женщина с плодом хлебного дерева была справа. Я нарисовал ее на левой стороне. Белый кролик был слева, я написал его справа. В оригинале море за женщиной было зеленое, я сделал его синим.
Так как краска была свежей, я положил на дверь груз и подержал под водой несколько дней. Потом вытащил и подсушил на солнце. Я кидал в нее камешками, тер песком и молотым кофе. Ко мне часто забредал щенок, и я стал брать его и опускать над дверью так, чтобы лапы чуть касались стекла. Конечно, собачонка выдиралась и царапала лапами краску. Этой уловкой я особенно восхищался: здорово изобрел. После моей искусной обработки дверь стала обшарпанной, но все-таки еще оставалась в лучшем состоянии, чем дверь-оригинал.
Я обернул ее в газету и отправился в отель – эти двое опять сидели на веранде и пили.
При виде меня Моэм тяжело задышал, в глазах у него появился страх.
– Уходите! – твердо велел Хэкстон.
– С чем бы вы ни пришли,– добавил Моэм,– я ничего не желаю слушать!
И все-таки я приблизился к столику.
– Извините, мистер Моэм, за мое тогдашнее поведение. Во всем виновато нервное расстройство.
– Я... мне тоже так показалось.
– Я посчитал, что самое правильное – уничтожить подделки. Но, мистер Моэм, у меня тут кое-что есть. Может, вас заинтересует.
– И смотреть не желаю.
– Это, сэр, стеклянная дверь. Мне она показалась похожей на ту, которую я, по несчастью, разбил,– я снял газету, и они уставились на дверь.
– Прошу вас, унесите.
Но отчего же, мистер Моэм?
– Потому что... стоит мне выказать хоть малейший интерес, и вы обязательно – нечаянно, конечно,– уроните ее. А не то, разъярившись, нарочно растопчете. Нет, нет, я сыт по горло. Мне больше не выдержать ваших сумасбродств.
(Примечание. Молодец, Моэм!)
– Вы, что же, желаете продать ее мистеру Моэму? – спросил Хэкстон.
– Упаси боже, сэр. Я желаю ему подарить. Хоть немного возместить ту дверь, что я разбил.
Моэм рассматривал дверь.
– А вы, случаем, не сами нарисовали на ней картину?
– А как же! Всю сам. Как вы думаете, есть у нее свои достоинства?
– И когда же вы ее написали? – осведомился Хэкстон.
– Несколько дней назад.
– Вот как? Несколько дней назад! – Хэкстону не терпелось доказать, что я врун. Надо же, тупоголовый какой! – А почему ж она такая обшарпанная!
Моэм покашлял, стараясь поймать взгляд Хэкстона и глядя на него с выражением, которое ясно расшифровывалось – придержи же, наконец, язык, идиот! Но Хэкстон ничего не замечал.
– Понимаете, сэр... я... ну то есть я...
– У картины значительные достоинства,– резко вступил Моэм.
– Вы очень добры, сэр.
Тупица Хэкстон не отступал и выпустил еще заряд.
– А подписали «ПГО». Это значит подделка? Надо ее уничтожить?
– Хэкстон,– жестко сказал Моэм,– мне бы хотелось обсудить с вами ваше плавание в Новую Зеландию!
– А? Плавание?..– наконец до него дошло.– Ах, ну да!
Как же вы правы, сэр! А я-то и не подумал! Конечно, уничтожить! Немедля! Ну и дуралей же я! – Я поднял дверь.
– Подождите! – крикнул Моэм. Я остановился.– Я считаю, вы правильно уничтожили те подделки. Потому что таких картин у Гогена не существовало. Но дверь – это же совсем другое. Дверь, расписанная Гогеном, была. А вы, к несчастью, разбили ее. Лишили мир красоты. А сейчас вы заменили ее другой. Еще красивее.
– Вот тут, сэр, вы попали в точку.
– Поэтому, прошу вас, позвольте мне принять ваш... щедрый подарок. Я отвезу ее к себе на виллу во Францию и вставлю... вместо окна. Лучи солнца будут заливать комнату красотой. Чтобы защитить ваше имя – не сомневаюсь, вы не желаете, чтобы вас знали как подделывалыцика...
– Нет, что вы!
– Я буду всем говорить, что ее написал Гоген. Правду будем знать только мы трое. Что скажете?
– Лучше не придумаешь, сэр!
– Так, пожалуйста, передайте дверь Хэкстону.
Я направился к Хэкстону, не отказав себе в удовольствии «нечаянно» споткнуться по пути. Оба затаили дыхание. Но я благополучно вручил подарок секретарю и отошел.
– Завтра я уезжаю на Маркизы, – сообщил я. Это была правда.– Так что, до свидания. Надеюсь, еще встретимся.
– А... да. Конечно.– Моэм с трудом выдавил улыбку.– Еще раз – спасибо.
Я ушел от них, лишь разок оглянувшись: они хихикали и фыркали над дверью.
Я отправился на север, на Маркизы. Мне надоела монотонность жизни на Таити, хотелось перемены мест. Но главный остров Хива-Оа показался мне ужасно противным, и я решил уехать следующим пароходом.
В Атуане, где Гоген прожил последние годы, я наведался к нему на могилу. Вместо памятника лежала безобразная цементная плита, заросшая травой. Я просидел там с часок, смакуя кларет и размышляя.
Прошло десять лет. Я менял работу, города, страны. Австралия, Тасмания, Новая Зеландия. К несчастью, я начисто лишен честолюбия. Мне хочется наслаждаться всем, что может предложить жизнь, и только. Работа для меня всего лишь неизбежное зло.
С американской ветвью нашей семьи я поддерживал связь через моего единокровного брата Хартланда.
(Примечание. Мой дедушка.)
К 1928 году я скатился на самое дно. Поселился в Новой Зеландии, в Веллингтоне, как гость Армии спасения. И не имел представления, за что же взяться.
Но тут я вспомнил про свои пять картин Гогена – подлинники, которые по– прежнему хранились у меня. Тщательно и надежно упакованные. Связь с внешним миром я поддерживал через лондонскую «Таймс», из нее я узнал, что Гоген получает все большее и большее признание, лучшие его работы уже оцениваются не меньше чем в тысячу фунтов.
В отчаянии я понял, что придется продать картину: больше ничего не остается. Я вытащил полотна и стал рассматривать. Даже с одной расставаться было мучительно, но все-таки я выбрал ту, что поплоше, и потащил к торговцу картинами.
Стены магазинчика, куда я вошел, украшала жутко слащавая мазня. Из задней комнатушки выкатился толстячок, он довольно презрительно оглядел мое одеяние.
– Да? Что угодно?
– Доброе утро, сэр. Принес вот картину. На продажу. Гоген.
– Кого?
– Поля Гогена. Слыхали о нем, конечно.
– А... ну да. Тот парень с Таити. Слыхать слыхал, но картин видеть не доводилось.– Я развернул полотно.– Ох! Ну и пачкотня! Кто ж это видел синюю лошадь или оранжевую воду? Бедняга, видно, зрением страдал. Да и рисовать не умел!
Спорить я не собирался. Я просто протянул ему пачку вырезок о Гогене из «Таймса».
– Взгляните, сэр.– В газете были и репродукции. Черно-белые. Надо отдать ему должное – он внимательно прочитал все.
Что ж, пусть лично я считаю, что картина – дрянь,– проворчал он,– но, может, и найдется какой идиот – польстится на нее. Дам 20 фунтов.
– Двадцать! Да ей цена – тысяча!
– У меня – нет.
– Извините, за столько не продам.
Ну, пятьдесят. Это – потолок.
– Извините, нет.– Я ушел. Еще не хватало – продавать Гогена за пятьдесят фунтов. Да я лучше буду улицы мести.
Этой ночью, ворочаясь без сна на карте рельфа, которая в Армии спасения сходила за матрац, я вспомнил слова Моэма: так как я уничтожил дверь Гогена, мой долг – заменить ее, иначе мир лишается произведения искусства. Пусть доводы его покоились на ложной предпосылке, но в них была своя логика. Мне припомнились гогеновские полотна, которые я пустил по невежеству на растопку печи. Разве возместить их не мой долг перед миром? К тому же природа и обстоятельства соединились, предоставляя мне возможность осуществить задачу. Глубина мысли потрясла меня, и я не спал всю ночь. К утру я уже знал, что делать.
С утра пораньше я отправился на поиски средств. Я просил и занимал у друзей и знакомых и даже у прохожих на улице. Мне удалось наскрести фунта три. На них я купил все необходимое для рисования и съестные припасы – мясные консервы, крекеры и немножко дешевого вина. Джутовые мешки и дерево для рам подобрал задарма.
Неподалеку от Веллингтона на заброшенном пляже я соорудил немудрящую лачугу и принялся копировать картины Гогена, как тогда на Таити.
Эти копии не шли в счет тех пяти, воссоздать которые было моим долгом. Пока что моя задача – сколотить денег, чтобы выполнить мою миссию. Сейчас я совершенствовался в манере Гогена. Вышла такая дрянь, что у меня рука не поднималась ставить его имя. Но ведь и Гоген небрежничал в подписях. То подписывал ПГО (кто его знает, что это значит), то П.Гоген, иногда – Гоген, а то и просто обходился без всякой подписи.
Через неделю получилось две фальшивки, мерзкие – жуть. Я их «состарил», снял с подрамников и поволок к торговцу.
– Я передумал, сэр. Эти, может, и продам,– я развернул свои «творения».
– О! Почему сразу эти не принесли? Куда красивее той мазни!
– Они относятся к более позднему периоду.
– Вижу, рисовать он все-таки научился. Хоть лошадь на лошадь похожа. А небо! Синее и прекрасное! Дам по 75 фунтов за каждую.
Я протянул ему вырезку из «Таймса». Ротшильд заплатил за Гогена по две тысячи фунтов.
– Ну ладно. По сотне.
Я согласился, забрал деньги и ушел. Я вдруг понял, как чувствует себя проститутка, когда первый раз берет деньги у мужчины.
В те времена двухсот фунтов хватило заплатить за путешествие в Англию первым классом. Во время плавания я почти не выходил из каюты, трудясь над картинами Гогена,– первыми двумя из тех пяти, которые я хотел возместить миру. Просто копировать с подлинников мне не хотелось: они уже существуют, а моя задача – нарисовать произведения взамен уничтоженных мной. Фантазируя, заимствуя разные элементы с подлинников, я создавал две новые.
Когда пароход приплыл в Лондон, у меня были готовы два превосходных полотна Гогена, хорошо вымоченных в соленой ванне, высушенных и «состаренных» моим обычным методом.
Обнаженные Гогена по-прежнему меня смущали, но я все-таки воспроизвел их, надеясь, что картины не станут показывать невинным детям.
В Лондоне я усовершенствовал технику продажи фальшивок. Имея независимый доход, я бы преподнес их миру в подарок, но денег не было, а жить на что-то надо.
Я не заявлял, что это картины – Гогена. Я только замечал, что вот полотно, похожее на гогеновское. Не набивался я и на продажу. Я выступал в роли коллекционера со скромными средствами, который подозревает, что попавшее ему в руки полотно – подделка, и желает получить совет у коллекционера богатого, сведущего в творчестве Гогена. Не так давно изобрели научную экспертизу по определению возраста картины, но в те времена такого не существовало и подлинность определялась по «догадке» и «наитию», а всякого, кто потом смел спорить, считали либо дураком, либо лгуном.
Коллекционер погружался в раздумье, а я старательно тыкал в детали, возбуждавшие мои подозрения, утверждая, что на других своих картинах Гоген, насколько мне известно, никогда не писал того-то и того-то. Коллекционер, если ему вообще были знакомы гогеновские картины, исподтишка ухмылялся, жалеючи меня за темноту. Очень скоро он заключал, что подозрения мои пусты, а стало быть, полотно – подлинник. Тут он принимался уговаривать меня продать картину, и я полегоньку поддавался уговорам.
Мне удалось продать оба полотна за пять тысяч долларов (если учесть, что тогда фунт стоил почти пять американских долларов, а жизнь была чуть не вполовину дешевле нынешнего, то, понятно, что сумма очень даже солидная).
Денег мне хватило на четыре года, и пожил я совсем недурно. Когда капитал иссяк, я обосновался на севере Испании и за несколько недель состряпал третьего Гогена. Картину я продал в Риме итальянскому князьку. За три с половиной тысячи фунтов. Цены на гогеновские полотна все росли.
Через три года, снова поистратившись, я создал четвертое произведение. На греческом острове. Его получил египетский миллионер за семь тысяч фунтов, и я продержался еще четыре года. Но затем – виновата моя склонность к роскошной жизни – я снова оказался пуст.
В запасе оставалась всего лишь одна картина – я был должен миру пять. Больше я поклялся не рисовать. А значит, чтобы мне не пришлось прозябать, эта последняя должна стать шедевром Гогена, и тогда я выручу за нее крупную сумму.
Я снял коттедж на итальянском побережье и приступил. В 1939 году появилось много репродукций Гогена, они послужили мне хорошим подспорьем. Больше месяца корпел я над последней картиной и когда наконец закончил, то – ура! – шедевр получился!
Картина была очень большой для Гогена – 38 на 37 дюймов. Передний план занимало экзотическое растение, усыпанное цветами, похожими на желтых бабочек.
За ним темно-синий пруд в оранжевых мазках. От пруда вышагивал большой красный конь, а на нем голая таитянка. Стайка туземных ребятишек плескалась в пруду под густым сплетением ветвей. Пейзаж венчали горы Таити, поднимающиеся в синее небо в точках белых облаков. Сам Гоген возгордился бы, а назвал бы он ее «Красный Конь».
Картина была так великолепна, что я решил продать ее не меньше чем за 25 тысяч фунтов. Цена, конечно, огромная, но я не сомневался, что выручу такую. Одного я не учел – гримас судьбы.
Я разыскал английского герцога – не буду называть его имени; о нем писали как о самом богатом человеке Англии и самом алчном коллекционере. Отправился в Лондон, договорился о встрече и понес «Красного Коня» к нему во дворец, в Риджент парк. Герцог принял меня в картинной галерее. Повсюду шедевры живописи. У него висело три Гогена, ужасно приятно было увидеть среди них одного своего. Я написал его, когда плыл из Новой Зеландии. Я развернул принесенное полотно. Минут пять герцог вглядывался молча.
– Где вы ее взяли? – наконец резко осведомился он.
Я рассказал, как нашел пять картин Гогена в бойлерной и так далее. Если он решит, что эта – одна из них, его дело.
– Она продается?
Да, ваша светлость.
– Цена?
– Двадцать пять тысяч фунтов.
– За Гогена? С ума сошли! Последнюю, вон ту, на стене, я купил за десять.
– А за эту, ваша светлость, вам придется заплатить двадцать пять.
– Мм,– он вооружился лупой и принялся изучать полотно, дюйм за дюймом. Прикрепил его к доске и рассматривал с разных позиций, расхаживая по залу.
– Да, красивая, ничего не скажешь,– он чуть улыбнулся.– Но я собираю картины уже много лет, и у меня развилось шестое чувство,– он выдержал драматическую паузу.– Сэр, картина – подделка.
Я указал на своего Гогена на стене.
– А та – подлинная? Что вам подсказывает шестое чувство?
– Разумеется. С первого взгляда видно! И эксперты со мной согласились.
– Ясно,– я взял холст и свернул его.– Пойду к другим, пусть и они выскажутся.
– Куда ж это? – Глаза его сузились.
– Да хоть, например, к лорду Додсо– ну.– Это был самый его ненавистный конкурент.– У него, конечно, тоже имеются картины Гогена.
– Ваш Додсон не отличит Ван Гога от Тициана!
– Ну и что же! – Я направился к дверям.
– Подождите,– остановил меня герцог, вся его вера в шестое чувство улетучилась.– Один шанс против ста, что я все– таки ошибаюсь. Сделаем так: оставьте картину у меня. Я приглашу экспертов – пусть взглянут.
– Пожалуйста, ваша светлость.
– Приходите завтра. В четыре.
Я ушел. Чего мне тревожиться? Если эксперты, которые установили подлинность моего предыдущего Гогена, объявят «Красного Коня» фальшивкой, продам картину в другом месте. Делов-то!
На другой день герцог принял меня в кабинете. Свернутая рулоном картина лежала на столе. Он встретил меня злорадно, мстительно усмехаясь.
– Ваше полотно исследовали эксперты. По отдельности. Они единодушны. Это подделка.
– Очень печально.
– Шестое чувство никогда меня не подводит.
– Не сомневаюсь, ваша светлость.
– Теперь, когда установлено, что картина – фальшивка, вы не станете, конечно, продавать ее кому-то еще.
– Нет, конечно.
– Хорошо. Но на всякий случай – вдруг передумаете – должен вас предупредить, что картину пересняли. Фотографии и письмо, удостоверяющее, что это – фальшивка, будет разослано торговцам картин, музеям и коллекционерам по всему миру. У нас своя система зашиты.
– Ясно.– Прахом пошли шесть недель работы в Италии. Но в конце концов можно и новую нарисовать.
– Должен также сказать, сэр,– строго взглянул на меня герцог,– шестое чувство подсказывает мне, вы и раньше знали, что полотно – фальшивка. Может, вы попытаетесь продавать и другие подделки. Поэтому в письме есть ваше подробное описание и предупреждение: остерегаться покупать у вас картины, в особенности полотна Гогена.
Самая черная минута моей жизни. Мало того, что не продать пятую подделку, теперь и подлинного Гогена не продашь! Что делать? На что жить? Тьма и безысходность.
– Ну вот и все,– герцог поднялся.
Я тоже встал. Взял картину. В этот момент дверь отворилась.
– Здравствуйте! Надеюсь, я не опоздал к чаю?
– Входите, Уилли, входите!
Я повернулся – это был Моэм. Он побледнел.
– Господи! Нет! Опять вы! Не надо!
– Вы знаете этого человека, Уилли?
– Да! Мы встречались с ним на Таити.
– Как поживаете, мистер Моэм? Давненько не видались.
– Мошенник пытался всучить мне фальшивого Гогена! – выкрикнул герцог.
– А? Можно взглянуть? – Герцог развернул перед ним картину.– Он вам случайно не говорил, что нашел картину в бойлерной на Таити?
– Что-то такое плел.
– Так, значит,– повернулся ко мне Моэм,– их было шесть?
– Да, сэр. Шесть.
– О чем вы? – спросил герцог.
– Сами написали? Да? – вкрадчиво осведомился Моэм.
Не надо, сэр! Нет! Пожалуйста! Меня ж в тюрьму упрячут!
– У нее есть свои достоинства,– продолжал Моэм.– Виден редкостный талант.
Я осклабился и слегка закатил глаза.
– Всерьез так считаете, сэр?
– Не сомневаюсь, что ее написали вы! Творение гения!
– Верно, сэр. Я и написал. Только я! Великий художник!
– Ах вот как! – закричал герцог.– Да вас в тюрьму засадят! Ты, Уилли, слышал! Ты – свидетель!
– Пожалуйста, ваша светлость! Пожалейте! Понимаете, хоть я и гений, мои картины покупать не желают! Вот и приходится притворяться, будто это картины – Гогена. Это преступление, я знаю. Неправильно так делать. Нехорошо. Я тут же ее уничтожу,– я потянулся за картиной, но Моэм опередил меня и спрятал ее за спину.
– Нет! Картина слишком прекрасна, ее нельзя уничтожать,– он повернулся к герцогу.– Берти, мне надо переговорить с тобой.
– А? Конечно. А вы – подождите в зале! – я вышел.– Черт побери! – гаркнул герцог, когда я закрывал дверь.– Уж я засажу молодчика в тюрьму!
Я спустился в зал и расположился в кресле. Слышно было, как кричал и стучал кулаком герцог. Но постепенно голос его стихал, и выкрики стали раздаваться реже.
Скоро дверь кабинета открылась, торжественно вышел герцог. Я поднялся. Лицо у него горело, он супился.
– Берите и уходите,– он протянул мне листок бумаги и, повернувшись, скрылся.
Это оказался, как я и думал, чек на 25 тысяч фунтов. Я уже давно понял, что нет ничего выгоднее правды.
Эти строки я пишу на Виргинских островах. Сегодня 17 декабря 1965 года. Я только что узнал, что умер Сомерсет Моэм. Ему был 91 год.
Припоминая все, я понимаю, как многим обязан Сомерсету. Он первый вдохновил меня на артистические старания, что обеспечило мне жизнь беззаботную и привольную.
Зная, что 25 тысяч герцога последние и больше мне не заработать, я решил растянуть их. Единственный раз в жизни экономия мне удалась. Я скромно и спокойно доживал преклонные годы, странствуя из страны в страну.
Когда мне исполнилось 70, я переехал на Виргинские острова Здесь в 1965 году со мной случился легкий удар. Доктор поразился, увидев, что я еще жив: состояние мое таково, сказал он, что я должен бы умереть еще десять лет назад. Очень скоро, сказал он, я отправлюсь в Великое Запределье.
Мне неохота умирать среди чужих, да и поистратился я. Вот я и решил поехать в Штаты и умереть в своей семье.
А подлинники Гогена? Они по-прежнему со мной, тщательно упакованные. Я мог бы продать их, но не стал. Отчасти потому, что очень их люблю, отчасти, сознавая долг перед семьей. Несомненно, подумал я, найдется же среди моих племянников и племянниц хоть один, кто примет меня к себе в дом. У кого я найду приют, тот и получит картины Гогена.
На этом кончалась рукопись дяди Фрэнка. Но картины? Где же они? Мы перебрали все его пожитки – ничего. Может, он их в конце концов потерял? Или все-таки продал? Взбудораженные, мы с Марией переворошили его вещи еще раз. Ни малейшего следа. Только и нашли интересного – пожарную машину на полке. Может, спрятал за подкладкой чемодана? В потайном местечке оказалось письмо, написанное уже на моей бумаге:
«Мой дорогой Уорнер!
Ты сердечно принял меня. Дал мне кров, пищу, освежающие напитки и теплую постель, где я могу умереть. Я благодарен тебе.
Уорнер, старику неохота умирать в канаве, всеми забытым. Все так просто. Я хочу, чтобы меня вспоминали. Не любили, не восхищались – просто вспоминали. Поэтому я и написал свои мемуары. Опубликуй их, если пожелаешь. Все, о ком я писал, уже умерли.
На полке в шкафу пожарная машина. Это Питеру на день рождения к 5 января.
Картины Гогена ты найдешь на чердаке, в старой подставке для зонтов. Теперь они твои. Благослови вас всех бог, прощай.
Твой дядя Фрэнк».
Вихрем я взлетел на чердак. Там в старой подставке для зонтов торчал рулон. Я чуть не кувыркнулся с лестницы вместе с ним.
– Нет! – закричала Мария.– Такого не бывает!
Бывает! – Я бережно опустил рулон на постель дяди Фрэнка.– Притащи-ка бритву, дорогая.
Мария выбежала и мигом вернулась с бритвой. Осторожно, чуть дыша, я разрезал рулон. Осторожно, чуть дыша, распеленал слои бумаги и клеенки.
Нам явилась картина совершенная по красоте. Портрет таитянской жены Гогена. Она купала младенца сына в прозрачном пруду. Позади стояли две девочки-туземки с полотенцами. Над ними бушевали волнистые джунгли – листья и цветы, красные, синие, ржавые, коричневые и зеленые. В глубине картины пурпурное море и маленькие белые паруса.
Сохранилась картина превосходно: краски еще вибрировали, полотно дышало. Ни малейшего повреждения. Едва веря глазам, мы осмотрели другие четыре. Каждая была прекрасна, каждая в отличном состоянии.
Как и дядя Фрэнк, я понятия не имел, что делать дальше. Потом вспомнил про Джорджа Стэшера. Сотрудника Лос-анджелесского музея искусств, лектора колледжа, доктора философии, моего старого друга. Я тут же позвонил ему в музей.
– Джордж, это Уорнер. Ты мне очень нужен! Сейчас же!
– Сейчас не могу. У меня лекция о Тинторетто.
– А когда?
– Часов в шесть. Что случилось? Что-то ужасное?
– Наоборот! Наоборот!! Замечательное! Ты нам нужен!
– Успокойся, Уорнер. Приеду.
В пять минут седьмого дверь открылась, и вошел Джордж. Низенький, пухленький, большеглазый, усатый и очень чувствительный по натуре человек.
– Ну! Что у вас стряслось?
– Не надо вопросов,– я сунул ему в руки дневник дяди Фрэнка.– Вот, отправляйся ко мне в кабинет и читай!
– Спокойно, Уорнер. Глоток виски можно?
Я принес ему виски в кабинет. Он уже читал и подхихикивал.
– Забавный эпизод – сцена с миссис Кембэлл. Но что тут такого срочного?
– Ты читай, читай! Читай и перестань болтать!
– Пожалуйста, Уорнер, возьми себя в руки.
Я оставил его. Через полчаса дверь распахнулась, и он вылетел чуть не с пеной у рта.
– Где они?! – заорал он.
– Наверху. Да ты возьми себя в руки, Джордж.
Мы с Марией отвели его в комнату дяди Фрэнка. Там на кровати лежали развернутые гогеновские полотна. Джордж вошел медленно, в благоговении. Он присел на краешек кровати стал молча разглядывать картины. Пересмотрел все пять, одну за другой. И заплакал.
– Простите, но я никогда не видел столько красоты сразу.
Принесу выпить,– Мария выбежала из комнаты.
– Как думаешь, Джордж, подлинные?
– Не знаю. Давай снесем их вниз.– Мы снесли их и расстелили на полу.
Джордж все шмыгал носом, не отрывая взгляда от картин.
– Не забудь,– сказал он,– моя специализация – итальянский Ренессанс. Гогена, конечно, я изучал. Но я не эксперт.
– И все-таки, как считаешь – настоящие?
– Не знаю. Те пять, что он нашел в бойлерной, были настоящие. Но они ли это?
Мария принесла вина.
– Милая, можно, бритву и конверты? – попросил Джордж. Жена вышла.– Сейчас,– объяснил он,– есть очень простой метод определять дату написания.– Через минуту Мария принесла все, и Джордж, опустившись на колени, тихонько стал соскребать краску с уголка каждой картины.– У нас имеется электронный спектроскоп,– он стряхнул крошки краски в отдельные конверты и каждый пометил.– Образцы краски скажут о многом. Точной даты установить, конечно, нельзя, но определить, написаны ли они до 1903 года, то есть при жизни Гогена, можно.
– Сколько же эти картины стоят, если они настоящие?
– Ну, учитывая их состояние, почти безупречное, и красоту... я бы сказал... приблизительно... самое меньшее... сто пятьдесят тысяч каждая.
– Но это ж выходит... три четверти миллиона долларов!
– Ага. Именно.
Джордж ушел около полуночи. Мы с Марией старательно упаковали картины и отнесли в кладовку. И отправились спать. Но нам не спалось. Лично я покупал яхту. Не знаю, что покупала Мария, но моя яхта была самой быстроходной и прекрасной в мире.
Музей открывался в 10 утра. Я позвонил в пять минут одиннадцатого.
– Ну? Ну?!
– Спокойнее. Спектроскоп занят. Как только выяснится, позвоню.
Я оглянулся. Марии не видно. Я позвал жену.
– Пап, она ушла! – крикнула в ответ Мелисса.
– Куда?
– Покупать подарки к рождеству. А к двум ей в парикмахерскую, делать прическу.
– А ты чем занимаешься?
– Подарки заворачиваю. Я же иду к Кристине на рождество. В двенадцать за мной заедет миссис Смит.
– А Питер где?
– Я играю! С машинками! – донесся дискант сына.
– Ладно. Играй. Я еще посплю, Мелисса! Не виси на телефоне, я жду звонка.
Я лег и проспал до часу, а когда встал, то чувствовал себя бодрее. Я решил выпить – отметить событие, и спустился вниз в пижаме и в халате. Питер все возился с машинами у камина. Было холодно и дождливо, и я подбросил полешков в огонь.
– Завтракал? – спросил я.
– Ага. Мелисса дала мне булку с сосисками, с горячими.