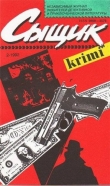Текст книги "Шутник"
Автор книги: Уорнер Лоу
Жанр:
Юмористическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц)
УОРНЕР ЛОУ (США)
ШУТНИК
Несколько месяцев назад в нашем доме умер мой двоюродный дядя Фрэнк Лоу, и после него осталась рукопись. Бесстыдное повествование о его жизни, документ весьма скандальный и наглый. Я очень и очень подумал, прежде чем решился опубликовать ее: ведь иные коллекционеры и музеи обнаружат, что в коллекции у них имеются картины, не представляющие никакой ценности.
Прежде чем вы начнете читать, кое-что поясню. Я сценарист. На телевидении. У меня жена Мария и двое детей. Моей дочке Мелиссе – одиннадцать, девочка она умненькая и хорошенькая. Сыну Питеру – шесть. Возраст, когда, закричав через закрытую дверь: «Питер, что же это ты вытворяешь! Прекрати немедленно!», в девяти случаях из десяти предотвращаешь мировую катастрофу. Живем мы в старом большом доме в Голливуде, на холмах.
Сколько я себя помню, все мы, американская ветвь семьи Лоу, получали открытки на праздники от нашего английского дядюшки Фрэнка. Поздравления шли со всех концов света. Но дядя всегда оставался тайной, и стоило мне заикнуться о нем, на меня шикали: мал еще. Я знал только, что он мой дальний-предальний родственник, как говорится, седьмая вода на киселе.
Когда мне стукнуло 25, я заявил дедушке, что теперь я уже взрослый и имею право знать все об этом моем родственнике. Дедушка помялся, повздыхал и ответил:
– Ну ладно. Так вот, наш Фрэнк – беспутный пьянчуга. В наследство от матери ему осталась кругленькая сумма, но он все моментально спустил. На выпивку – свою всегдашнюю пагубу, распутных женщин и разгульную жизнь. Он живет никчемной пустой жизнью.
– А он тебе пишет?
– Да. Раз в год. Врет о своих делах. Таков уж Фрэнк. Самообольщение и самообман – вот чем он живет.
– А денег просит?
– Это нет. Ему нужны только подробные сведения о нашей ветви рода. Чего он так за нас переживает, уж не знаю.
13 ноября 1966 года, когда я сидел и смотрел телевизор, в дверь позвонили. Открыла Мария. Я оглянулся: в дверях стоял дряхлый старик в потрепанной одежде, с чемоданом, увешанный свертками и пакетами. У него был длинный нос и седые усы. Среднего роста, худющий, запыхавшийся. От нас до автобусной остановки три мили, и, похоже, он так и шлепал в гору пешком.
– Здравствуйте. Чем могу помочь? – поинтересовалась Мария.
– Не жилище ли это некоего Уорнера Лоу?
– Да, верно.
– А дома ли он и принимает ли гостей?
– Позвольте узнать, кто вы?
– Я его дядя Фрэнк. Я приехал сюда умереть.
Сочиняй я еще хоть сто лет, мне все равно лучшей реплики на выход не придумать. Понятно, я подошел к двери и пригласил гостя войти.
– Ты мой внучатый племянник Уорнер?
– Да, это я. Входите, рада вас видеть.– Я представил ему Марию. Из кухни выскочила Мелисса. Я назвал и ее.
– Надо же, какая хорошенькая юная леди! – и тихонько мне.– Небось у тебя и глоточка не отыщется горло старику промочить?
Наверху у нас была свободная спальня, ее мы и оборудовали для дяди Фрэнка. Когда он, распаковавшись и устроившись, подкрепился виски – тремя стаканчиками,– я поинтересовался.
– Ты объявил, что приехал умирать. Ты, что же, болен?
– Нет. Но я все равно умираю. Я поживу у тебя, коли разрешишь, немножко. Честно говоря, больше мне и податься некуда. Я скоро покину вас – отбуду в Великое Запределье.– Он протянул мне пустой стакан.– Отличное питье – то, что ты сюда накапал.
Вернувшись с новой порцией виски, я осведомился, как случилось, что приехал он именно ко мне.
– Понимаешь,– начал дядя,– когда доктор на Виргинских островах сказал, что жизнь моя близится к концу, я решил поехать в Штаты и умереть в доме твоей тети Клары. Из Чикаго, знаешь?
Еще бы не знать. Суровая вдова, лет под 60, славившаяся своей сказочной коллекцией фарфора. Сервизы украшали каждую комнату, и было еще одно хранилище – кладовка. Там на полках теснились тарелки, чашки, блюда. Тетя Клара как-то сказала, что у нее десять полных, безупречных сервизов музейной ценности.
– Прожил я у нее неделю,– продолжал дядя Фрэнк и примолк.– К несчастью, случилось грустное маленькое происшествие.
– Неужто тарелку какую грохнул?
– Ну можно сказать и так. Хотя я тут ни при чем. Моей вины нет. Все лестница проклятая. Зашаталась.
– Лестница? Какая лестница?
– В кладовке. Клара ушла куда-то, а я смотрю – в раковине тарелки. Штук шесть. Я и решил, дай-ка сделаю доброе дело, приберу. Но куда поставить? Искал, искал – никак не найду. «Так они же,– подумал я,– наверняка из кладовки!»
– Ты что же, целых шесть расколотил?
– Ну можно сказать и так. Снес я их в кладовку, гляжу – на нижних полках таких нет. Лезу по лестнице, а тарелки в руке. Добрался уже доверху, а лестница чертова вдруг зашаталась и стала валиться. Я, чтоб не упасть, схватился за верхнюю полку, а тарелки, растерявшись, уронил. Но ты подумай, эта проклятая полка, оказывается, еле держалась, она сорвалась и ухнула вместе со мной. Тарелки, конечно, все полетели, самого чуть не пришибло. Грохоту было! Но мне повезло – уцелел и даже ничего себе не сломал!
– А тетя Клара что?
– Я счел за благо убраться, пока она не пришла. Но записочку оставил, в которой все объяснил и посоветовал купить новую лестницу.
Да, можно себе представить! Тетя Клара, конечно, в больнице. На успокаивающих уколах.
– Я отправился к ее сыну Хью в Таксон. Оказалось, мать ему уже написала. Он стал меня поносить, обзывать по-всякому. Злобный такой парень, ядовитый. Захлопнул дверь перед моим носом. Тогда я двинулся к моему троюродному брату Джону в Сакраменто. Но у него комнаты для меня не нашлось; он и посоветовал мне погостить у тебя. Даже на автобусный билет дал.– Он протянул мне стакан.– Чудесное виски. Сколько ты там его накапал.
Однажды ночью, часа в три, нас с Марией разбудило хриплое пение. Пели в гостиной. Я встал и пошел взглянуть. С площадки лестницы я увидел, что дядя Фрэнк танцует совсем один и поет: «Путь далек до Тип-пер-рэри!» Подняв стаканчик виски, он, пританцовывая, отбивал чечетку. «Путь далек домой!» До меня вдруг дошло, что он совсем голый. «А-ах, путь далек до Типперэри!» На нем не было ни лоскутка. «И до Англии родной!»
Я вернулся в постель, ничем не выдав своего присутствия.
Сомерсет Моэм писал: «Если бы люди не были полны противоречий, жизнь стала бы невыносимой».
Моральные устои дяди Фрэнка явно были полны противоречий. С одной стороны, его склонность к танцам нагишом. С другой – отвращение к обнаженным женщинам в живописи. У меня висело несколько полотен обнаженных женщин, и он из себя выходил. «Женщины! Голые! – бурчал он.– Зачем ты их тут развесил? Детишки невинные смотрят! Стыдись! Мерзопакостная дрянь!»
Однажды этот пережиток викторианской морали, прямо-таки неправдоподобный, вылился в ужасную сцену. Мелисса в школе нарисовала цветными мелками копию картины Боттичелли «Рождение Венеры». Венера на ней прикрывает одной рукой грудь, другой – низ живота. Мелисса хвасталась рисунком всем и каждому, и мы все восхищались, даже маленький Питер, мой сын, поахал. Питер, как обычно, примостившись у камина, возился с машинками.
Приковылял уже изрядно подвыпивший дядя Фрэнк. Гордая Мелисса показала рисунок и ему. Едва глянув, дядя рассвирепел:
– Женщина! Голая! Мерзопакостная дрянь! – и сверкнул на меня глазом.
– Кто учит девочку рисовать такие гадости?! – Он вдруг швырнул рисунок в огонь, листок тут же ярко вспыхнул. Мелисса вскрикнула и с плачем умчалась наверх.
– Мерзопакостная дрянь! Мерзопакостная дрянь! – подхватил Питер, его поэтическое чувство откликнулось на ритм слов.– Жен-щи-на го-лая! – Он пристукивал машиной по полу в такт припеву.– Мер-зо-па-кост-ная дрянь!
– Да замолчи же! – прикрикнул я на сына. И сердито сказал дяде Фрэнку:
– Когда ты научишься себя вести?
Вид у дяди был сконфуженный.
– Прости. Что виноват, то виноват. Но тебе не придется долго терпеть меня. Скоро, очень скоро я отбуду в Великое Запределье.
Дядя Фрэнк часто повторял это, и мы с Марией, рассерженные, не выказали особого сочувствия.
И очень потом пожалели. На следующее утро дядя Фрэнк долго не появлялся, и Мария пошла взглянуть, что случилось. Он лежал на постели мертвый, но на лице у него застыла счастливая улыбка.
Мы вызвали доктора, и через час дядю Фрэнка увезли. К счастью, ребята были в школе.
Печально. Несмотря ни на что, мы полюбили старика. Стали перебирать его вещи – ничего интересного... Как вдруг наткнулись на рукопись. Дневник. Записи многих лет, его корявый почерк на всех сортах бумаги: и на красивой гостиничной, и на старых конвертах. Было очень трудно подобрать листки по датам и разобрать почерк, но, наконец, нам все перепечатали.
Документ во многом бесстыдный и наглый. Сначала даже иным событиям не очень-то верится, но я, не пожалев трудов, проверил факты во всех случаях, когда была возможность сверить их с другими источниками, и обнаружил: записки правдивы.
Кое-где я прерываю записки примечаниями, а так оригинал сохранен в точности. Вот он.
Как хорошо мне помнится первое мое столкновение с Уильямом Сомерсетом Моэмом! Это случилось холодным вечером в Лондоне в 1908 году. Тогда мне было 28 лет. Мать оставила мне скромное наследство, которое, боюсь, я проживал чересчур споро. Но о завтрашнем дне я не печалился. Предавался удовольствиям, наслаждаясь вкусной едой и вином и опьяняясь компанией дам, прелестных и сговорчивых.
В этот вечер я в обществе двух бойких девиц – звали их Флосси и Бесси – отправился на представление очаровательной комедии Моэма «Миссис Дот». После спектакля мы зашли в роскошный ресторан напротив. Пушистые ковры, искрящийся хрусталь и сверкающее серебро.
Сомерсета Моэма я заметил, когда заказал уже третью бутылку шампанского. Он сидел неподалеку в компании элегантно одетых дам и джентльменов.
(Примечание. Моэму было тогда 34. Он уже написал шесть романов, четыре нашумевшие пьесы и большое количество коротких рассказов.)
Я сразу же решил подойти к нему, похвалить его замечательную комедию. Поднявшись, я направился к его столику. Может, я и держался чуть нетвердо на ногах после шампанского, но ум мой был ясен, как стеклышко.
Когда я подошел, Моэм как раз рассказывал какой-то забавный случай. Наверное, почувствовав мое дыхание на затылке, он на минуту повернулся и взглянул на меня. Росточка Моэм был невысокого, у него были тяжелые веки, большие уши, и он слегка заикался.
– Чем... могу служить?
– Да вот, Сомерсет, хотел сказать, что ваша сегодняшняя пьеса – блеск!
(Примечание. Моэм просто приходил в бешенство, когда к нему обращались – «Сомерсет».)
– Очень любезно с... с вашей стороны. Спасибо... что не поленились, подошли,– он улыбнулся и кивнул, явно приглашая меня подсаживаться. Я взял стул от соседнего столика и брякнулся рядом.
От нашего столика мне махали и делали знаки Флосси и Бесси, но я их игнорировал.
– Ради бога, Сомерсет, не прерывайтесь, рассказывайте дальше.
Улыбаясь, ко мне повернулась соседка Моэма. Это была не кто иная, как миссис Патрик Кембэлл, великая знаменитая актриса.
– Боюсь, мы отрываем вас от ваших дам.
– Да что там, миссис, не беспокойтесь. Не всякий день выпадает случай поболтать запросто с Сомерсетом,– и, потрепав Моэма по плечу, я с теплой улыбкой придвинулся ближе.
Когда Флосси переберет шипучки, она шалит не в меру. И теперь, хихикая, девушка взяла третью – непочатую – бутылку шампанского из ведерка и пустила по полу ко мне. Я видел, как бутылка, подпрыгивая, катится к нам. Спешил к нам, подпрыгивая, и старший официант. Но не успел. Бутылку, как следует не охлажденную, распирало изнутри. Полетели и проволока и пробка. Шампанское брызнуло, заливая ноги и красивое бархатное платье миссис Патрик Кембэлл. Стараясь защитить актрису, я схватил бутылку с пола и отвернул от нее, но по оплошности направил горлышко на Моэма, и лицо ему омыл фонтан шампанского.
Конечно же, я очень огорчился и тут же кинулся вытирать ему лицо салфеткой. Энергично, рьяно. Моэм, отбиваясь от моего доброго деяния, вскочил на ноги, громогласно протестуя.
Миссис Кембэлл тоже вскочила и отпихнула меня, крича: «Да прекратите же вы, пьяный идиот!» От ее толчка я потерял равновесие и, стараясь удержаться, схватился за угол скатерти, но, к несчастью, потянул ее за собой, и все разлетелось: и хрусталь, и серебро, и канделябры! Дамы за столом визжали. Рядом с Моэмом стоял серебряный кофейник с дымящимся кофе, кофейник опрокинулся, кофе вылился Моэму на брюки. Моэм завопил, и в тот же миг я рухнул на него. Стул под ним подломился, и мы оба грохнулись на пол.
По счастью, я не изувечился. Меня поднял на ноги старший официант, а Моэму помог другой. Старший официант сердился и ворчал. Очень, конечно, неразумно. Он не понимал, что я тут совершенно ни при чем.
– Должен попросить вас уйти, сэр! Немедля!
– Не-е-ет! Сначала я извинюсь перед моим другом Сомерсетом.
Моэм был уже на ногах, его глаза метали молнии из-под бровей, на которых все еще пузырилось шампанское. Он яростно накинулся на меня.
– Черт бы вас побрал, сэр! Черт бы вас побрал!
Вот это было уже чересчур. Я не позволяю ругать себя. Любой нормальный человек понял бы, что винить надо вовсе не меня. Само собой напрашивалось объяснение его неоправданной грубости: Моэм не джентльмен.
Я выпрямился и ледяным тоном отчеканил:
– Сильно сомневаюсь, сэр, что мне захочется еще раз разговаривать с вами.
Поставив грубияна на место, я удалился вместе с Флосси и Бесси.
На следующей неделе я дважды натыкался на Моэма. Первый раз на Пиккадили-серкус. Я по нечаянности налетел на прохожего на углу. В руках у него была пухлая папка. Споткнувшись от моего толчка, он выронил ее. День был ветреный, бумаги разлетелись по площади. Моэм – это был он – замычал от досады. И тут он узнал меня.
– Мог бы сразу догадаться,– проворчал он и вприпрыжку пустился ловить листки среди машин.
Вторая наша встреча случилась через несколько дней на Бонд-стрит. Мы разом увидели друг друга. Но он, притворившись, будто не заметил меня, уткнулся в витрину табачного магазина. Желая извиниться, что толкнул его на площади, я направился к нему. Видя это, он отвернулся. И тут мимо меня прошагал еще один прохожий. Он торопливо подскочил к Моэму и, улыбаясь, похлопал его по плечу. Повернуться Моэм не соблаговолил.
– Сэр, я не желаю с вами разговаривать,– услышал я.– И буду вам признателен, если вы постараетесь не попадаться мне впредь.
Его приятель вспыхнул от возмущения.
– Вот как, Уилли? Ну тогда сам и убирайся к черту! – и поспешил от нет, опять мимо меня. Моэм крутанулся, увидел меня, затем своего друга и затрусил следом в тревоге.
Я очень извиняюсь, Сомерсет,– заступил я ему дорогу,– но...
– Замолчите! – воскликнул Моэм, огибая меня и устремляясь за другом.
Я пошел дальше, в банк, а в банке управляющий уведомил меня, что все мое наследство уже ушло. Я не мог уразуметь, почему: на мой счет только что поступило 500 фунтов. Управляющий разъяснил, что акции я продал и 500 фунтов – проценты, наросшие после продажи. На них вот-вот заявит права покупатель. Значит, я без гроша.
В сущности, английский климат никогда мне не подходил. Я много читал о теплых краях, островах Южных морей, где можно жить, питаясь бананами и плодами хлебного дерева, которые там даром. Изъяв из банка 500 фунтов, я купил билет и отплыл в Австралию.
Управляющему банком я не стал докучать сообщением о моем отбытии, хлопот у него и так полно, чего отрывать человека по пустякам.
Когда мой пароход медленно плыл в тумане по Темзе, я сказал Лондону «прощай». По крайней мере, размышлял я, когда мы выходили в открытое море, хоть не встречусь больше с этим ненавистным типом. С Моэмом. Увы, я жестоко ошибался.
Обосновался я на Таити, острове изобильном и прекрасном, тогда еще не испорченном туристами. На остатки капитала я приобрел автомобиль и стал таксистом – одним из немногих на острове. Еще я нанялся присматривать за бойлером в подвале местной пивоварни. Все это давало мне возможность вести жизнь очень даже недурную. Я жил вольготно и счастливо.
Но в один кошмарный день я услышал – это случилось в 1916 году,– что на остров прибыл... кто бы вы думали? Да. Сомерсет Моэм. Со своим секретарем Джералдом Хэкстоном. Я тут же решил держаться от гостей подальше. После нашей последней встречи – прошло восемь лет – у меня выросла пышная борода. Моэму меня, конечно, не узнать. Но мне не хотелось снова становиться жертвой его непростого нрава.
Но чему быть – того не миновать. Однажды душным днем, когда я дремал в такси, кто-то просунул руку в окошко и растолкал меня. Оказалось, Хэкстон, а рядом с ним – Моэм, щегольски одетый в белый костюм.
Хэкстон был молод и высокомерен.
– Послушай, старина, повезешь нас?
– Нет.
– Но нам очень нужно,– не отставал Хэкстон.– Знаешь дом Анани на Матайэа? Отвезешь нас туда, получишь десять франков.
Я вроде уже выспался, да и с наличными было туговато.
– Скажем, двадцать. Матайэа не ближний свет.
– Ладно,– согласился Моэм. Они забрались в машину. По дороге Моэм рассказал, что приехал на Таити собирать факты о Поле Гогене, художнике. Неизвестно ли мне что-нибудь про такого?
Об этом пьянице-художнике, французе, я тут наслышался. Писал он в основном обнаженных женщин. Когда я начал работать в бойлерной пивоварни на Папеэте, там стояло с десяток картин Гогена, густо заросших пылью. У ящиков с углем. В сырые дни, когда топка никак не разгоралась, я бросал картину в печь, чтобы лучше занялось. Небось Гоген этот задолжал за пиво, а вместо денег прислал свои непристойные картинки, а тогдашний хозяин, разозлившись, ткнул никчемные холсты в бойлерную. Пять из них еще сохранились, но я не собирался рассказывать про них благородному Моэму. Может, сейчас они уже чего и стоят. Пивоварня с той поры сменила уже двух хозяев, и никто, кроме меня, не знал, что картины еще там. Пять я уже сжег, мог сжечь и остальные, никто бы и не шелохнулся; значит, фактически они мои, и я могу делать с ними, что пожелаю.
Моэму я ответил, что о Гогене слыхом не слыхал. Наконец мы подъехали к дому Анани, он тонул в глухом кустарнике. Мы вошли в дом и встретились с хозяином – старым, беззубым плосконосым таитянином. Они с Моэмом беседовали на французском, я на Таити немного выучился. Моэм приехал купить дверь. Оказывается, Гоген как-то заболел в доме Анани, и ему не на чем было рисовать.
(Примечание. Совершенно верно. Поправившись, Го ген, у которого не было холста, стал рисовать на стеклянных панелях дверей главной комнаты Анани. Тот, по таитянским меркам, был человек современный.)
Он и намалевал свои непристойные картины на стеклянных дверях. На трех. На двух почти всю краску сцарапали дети. Но третья прилично сохранилась. Моэм приобрел ее за 200 франков. Тогда это равнялось четырем фунтам или двадцати долларам.
Моэм спросил, не найдется ли у меня в машине инструмента снять дверь с петель. Я приступил к работе.
– Осторожнее! Осторожнее! – без устали причитал Моэм, пока я отвинчивал петли.
– Уж куда осторожнее.– Я вывинтил последний шуруп, но петли пристыли. Когда я ее наконец отодрал, дверь выскользнула у меня из рук, но Хэкстону удалось подхватить ее на лету.
– Руки у тебя глиняные, болван! – закричал Моэм. Опять этот его обычный приступ бешенства!
– Ничего же не разбилось, мистер Моэм.
Продвигаясь черепашьим шагом, мы доставили дверь к машине. Ее можно было бы уместить на переднем сиденье, но она была слишком высока, в дверцу не пролезала. Шесть пластин раскрашенного стекла – мерзкая картина обнаженной женщины, держащей плод хлебного дерева,– составляли две трети двери. Нижняя треть была деревянной.
– Нельзя ли где-нибудь раздобыть пилу? – спросил Моэм.
– Тогда мы отпилили бы низ! – Хэкстон гордо просиял, как будто он только что изобрел двигатель внутреннего сгорания или поведал нам какую-нибудь великую истину.
Я знал одного туземного вождя, который жил в четверти мили отсюда, у него имелась пила. И мы – опять втроем – полезли через кустарник, неся двухсотфранковую дверь. Можно было подумать, что это не иначе как «Мона Лиза»! Наконец мы доковыляли, я одолжил пилу и стал пилить деревянную часть, а Моэм с Хэкстоном кудахтали под руку: «Осторожнее! Осторожнее!», как будто я ампутировал ногу и пациент истекал кровью.
Когда я закончил, Моэм и Хэкстон поволокли дверь к машине. Они забрались на заднее сиденье и положили дверь на колени. Мы тронулись, оба умоляли меня ехать осторожнее, я и старался как мог, да ведь на пыльной дороге было полно выбоин, торчали ветки, валялись камни. Я слышал разговор этих двоих.
Моэм. Представляешь, Джералд, какое сокровище мы раскопали!
Хэкстон. Уникальное! Гоген на стекле! Это ж целое состояние!
Моэм. Вставлю вместо окна на северную сторону моего кабинета.
Хэкстон. Вот здорово! У меня даже голова кружится.
Понемножку меня одолела жажда, и я тормознул у деревенской забегаловки, объяснив, что желаю пропустить глоточек коньяка. Оба убеждали меня потерпеть: сначала надо доставить дверь в целости и сохранности в Папеэте. Сказав, что именно они могут делать с дверью, я взял ключи зажигания и пошел себе в забегаловку.
(Примечание. Собственный рассказ Моэма о том, как они нашли дверь у Анани, подтверждает все, только он не упомянул, кто их к Анани возил.)
Полчаса спустя, отведав коньячку, встряхнувшись и повеселев, я вернулся к машине, эти двое так и сидели, вцепившись в свою драгоценную дверь. Уже смеркалось, и, не заметив камня на дороге, я споткнулся и упал. Шел дождь, и я плюхнулся в грязь, да еще лицом. Настроение у меня соответственно опять упало.
– Боже! – услышал я голос Моэма.– Парень нализался в лоскуты!
Вот врет-то! Я подошел к машине и отпер дверцу.
– Я все слышал! – негодующе сказал я.– И заявляю, что я трезвее башмака! – и сел за руль.
– Очень вас прошу,– предостерег Моэм,– поезжайте помедленнее!
Меня уже тошнило от этих снобов и их надменного обхождения. Крутя баранку, я принялся распевать «Все свои беды засуньте в рюкзак!». Ехали мы ровно, со скоростью 35 миль в час. Уже почти стемнело, фар у меня не было, но дорогу я знал. «И улыбайтесь, улыбайтесь, улыбайтесь!» Мы стукнулись о валун, который не иначе как только что подложили сюда, и машина чуть не кувыркнулась.
– Да помедленнее же, черт тебя возьми! – тревожно вскрикнул Моэм.
Как я уже говорил, я не позволяю себя оскорблять. Я прибавил скорость до 40 миль. Чем пуще они меня кляли, тем шустрее я гнал машину. Мы пересчитывали выбоины, прыгали через коряги, разок я даже мазнул крылом по дереву. «Не печалься и не горюй!– плевать я хотел на их дверь.– И улыбайтесь, улыбайтесь, улыбайтесь!» – заливался я.
Когда мы добрались до Папеэте, я малость поостыл и бережно притормозил перед гостиницей. Обойдя машину, я открыл дверцу для Моэма. Вид у него был самый плачевный: бледный и дрожит. У Хэкстона не лучше. Где уж им донести стеклянную дверь! Я и взял ее у Моэма. Помочь.
– Нет! Не притрагивайтесь!! – но я уже взбирался на крыльцо.
(Примечание: Не надо! Нет!!!)
Я знать не знал, что в гостинице недавно заменили сгнившие ступеньки новыми. И вместо четырех ступенек стало пять. Поэтому – моя ли это вина? – я споткнулся о верхнюю и упал ничком на дверь. Конечно, проклятая разлетелась вдребезги. Но что самое печальное – осколками мне порезало лицо и руки. В кровь. Я приподнял голову: Моэм и Хэкстон сверлили меня глазами.
Моэм тяжело дышал.
– Ты – болван! – прошипел он. – Идиот! Безмозглый пьянчуга! Не соображаешь даже, что натворил! – и, впадая в свой обычный припадок бешенства, пнул меня в крестец.– Будь ты проклят! Будь ты проклят, черт тебя подери!
Никому не позволено ругать меня и пинать, да к тому же когда я валяюсь в луже собственной крови! Вот вам и благодарность за то, что я рвался услужить! И я решил отплатить Моэму, преподать урок, чтобы в жизнь не позабыл!
Наслышавшись, что Гоген частенько сидел на мели и ему приходилось малевать свои непристойные картины на джутовых мешках из-под картошки, я насобирал таких мешков, сколотил деревянные подрамники, совсем как те, что стояли в бойлерной, туго натянул на них мешковину и крепко приколотил ржавыми гвоздями. Всего у меня получилось пять полотен.
Особо я не спешил, так как его высочеству Моэму все равно никуда не деться с Таити, пока не прибудет пароход. Я взял полотна, свернул их, привязал к ним груз и благоуханной ночью утопил в лагуне, прикрепив веревкой к бую.
Потом взял картины Гогена – все пять – из бойлерной и внимательно изучил при солнечном свете, расстелив на берегу у травяной хижины, где жил. У ящика с углем они простояли никак не меньше, чем с 1903 года, когда умер Гоген. Осторожно смахнув пыль, я протер полотна губкой, намоченной в холодной воде. И они засверкали, будто написанные вчера. На Таити влажно и везде плесень, но картины стояли в сухом месте, не на свету и сохранились превосходно.
Здесь надо упомянуть, что в школе – в Йоркшире – я выказывал недюжинные способности к рисованию. Мать определила меня к местному художнику, и тот давал мне уроки рисования, пока печальное происшествие не покончило с нашими занятиями и с домом художника. Но разве меня кто-нибудь предупреждал, что скипидар – горючий?
Итак, с основами живописи я был знаком и нашел, что полотна Гогена написаны неумело и вдобавок безобразно. Прежде всего, он не умел рисовать. Писал плоско, ни перспективы, ни деталей. А палитра? Нелепость на нелепости! Апельсины у него синие, кокосовые орехи оранжевые, а лошади зеленые! Вдобавок, на всех пяти картинах Гогена – обнаженные женщины! И все-таки я решил скопировать их. Я отправился в магазинчик, единственный, где продавались краски, кисти и прочее, купил несколько тюбиков масляной краски, кисти и палитру.
И приступил к делу. Сначала копировал на бумагу, потом на картон и дощечки. Десять дней неустанных трудов, и я приноровился к гогеновской манере и решил, что готов. Темной ночью я отправился к бую и извлек пять холстов. Сселись они прекрасно. Утром я промыл их в пресной воде и разложил сушиться на солнышке. Через два дня нанес клеевую смесь, чтобы краска не впитывалась.
Тут встала проблема – состарить холсты. Совета попросить не у кого, пришлось импровизировать самому. Втер в мешковину песок, сбрызнул холодным кофе, потом пивом, протер пеплом и все смыл. После всех процедур мешки выглядели точно так, как мне хотелось.
Старательно копируя с оригиналов, я принялся за рисование. Оказалось, это совсем не так легко, как мне воображалось. Но, наконец, через две недели получилось пять полуподлинных Гогенов. Настоящего знатока живописи они бы не обманули, но одурачить жадину, как вы увидите, удалось.
Краски еще пахли, и я опять опустил полотна в лагуну, дал им помокнуть пару деньков. А вытянув, положил на солнце «лицом» вверх, и еще на денек «лицом» вниз. Потом припудрил старым молотым кофе, а потом стер грубой тряпицей. Протер жиром и насухо вытер. И только тогда отнес в бойлерную, где припорошил угольной пылью и ждал еще неделю.
Наконец, выбрав лучшее полотно из пяти, завернул его в газеты и понес в гостиницу, где жил Моэм. Они с Хэкс тоном сидели на веранде и угощались пуншем с ромом.
Наверное, читатель уже решил, что я замыслил выдать свои копии за оригиналы и всучить их Моэму. Вовсе нет. Мой план был куда хитроумнее. Я ни на миг не усомнился, что Моэм примет мои копии за подлинники. После смерти Гогена прошло всего тринадцать лет. При жизни он продал очень немного своих работ. От французского чиновника, который часто ездил в моем такси, я узнал, что сейчас полотна Гогена начали гулять по Лондону и Парижу по ценам довольно низким. Так что подделывать Гогена – интереса никакого, пустая трата времени.
Да и у Моэма никаких причин подозревать у меня талант или наклонности такого толка нет.
Итак, я очень уверенно подошел к веранде, хотя на теплый прием рассчитывать не приходилось.
Завидев меня – наши дорожки с того дня, как он пнул и обругал меня, не пересекались – Моэм мигнул и отвернулся.
– Простите, мистер Моэм...
– Слушай, будь умником, мотай отсюда, приятель,– прервал Хэкстон.
– Я, мистер Моэм, хотел попросить прощения за ту дверь.
Я бы... предпочел... не обсуждать ее.– Моэм заикался, трагически устремив глаза в пространство.
Не испугавшись, я стоял на своем. Я приподнял картину.
– Сэр, вы вроде интересуетесь работами Поля Гогена?
– Что там у вас? – медленно повернулся ко мне Моэм.
– Могу только сказать, сэр, что это картина, подписанная «ПГО». Нашел ее в бойлерной пивоварни, я там работаю.– Это была правда. Я же сам ее туда поставил. А потом – нашел.– Желаете взглянуть?
Актером Моэм был превосходным.
– Почему бы и нет? – Он пожал плечами. Его выдавали только пальцы, сжимавшие стакан: они побелели.
Я сорвал газету и открыл полотно: при ярком солнечном свете, на близком рас стоянии.
Глаза у обоих расширились, но они молчали. Глядя на нее теперь, по прошествии некоторого времени, я сам удивился: получилась такая эффектная.
– Малость подзапылилась,– заметил я и, обмакнув салфетку в стакан воды, энергично принялся тереть картину.
– Остановитесь! – крикнул Моэм.– Что вы делаете?
Я вспомнил, что вытворял с картиной, и мне стало смешно.
Хэкстон тронул Моэма за руку, и парочка обменялась заговорщицкими улыбками.
– Присаживайтесь, дружок, выпейте с нами.
Я сел, скоро прибыла выпивка.
– Как к... к вам попала эта картина? – говорил Моэм небрежно, но глаз от картины оторвать не мог.– Кому она... принадлежит?
– Мне, сэр,– я рассказал ему о десяти картинах, которые восемь лет назад нашел в бойлерной.
– Так их десять? – У Хэкстона раскрылись глаза.
– Сейчас уже только пять. Остальные я кинул в топку – не тянула.
– Что?! – пальцы у Моэма совсем побелели.– О, господи!
– А эти пять,– вступил Хэкстон,– продать не хотите?
– Отчего же. Как я понимаю, они стоят немало.
– Да нет! – пылко возразил Хэкстон.– Что вы! Может, вообще подделка.
Да, вот уж умник так умник. Если картины ничего не стоят, кому ж это надо – подделывать их? Но я подыграл молодцу.
– Очень даже может быть, сэр. И мне такое приходило в голову. Картины подделывают ребята ушлые. Может, мастак какой по фальшивкам прикатил на Таити лет с десяток назад – подделывать гогеновские картины. Тогда, правда, Гоген ничего не стоил, но у мошенника был дар предвидения, он предугадал, что со временем Гоген будет в цене, взял да и подделал десяток картин. Ему захотелось прокатиться на соседние острова, но таскать картинки за собой обременительно, он и припрятал их в сухое местечко. Собирался, видать, вернуться и «открыть». Но надо же! Шхуна попала в ураган. Утонула, и все погибли. А фальшивки остались валяться в пыли. Пока я на них не наткнулся.– Сохранять серьезное лицо мне было очень трудно – еще бы, плести такие небылицы! – Пожалуй, кто-нибудь скажет,– продолжал я,– что обстоятельства сошлись чересчур уж хитро, но как же тогда иначе подделки попали в бойлерную? Уж не знаю что и придумать.