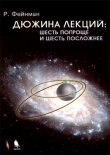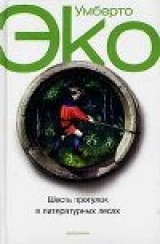
Текст книги "Шесть прогулок в лесах"
Автор книги: Умберто Эко
Жанр:
Искусство и Дизайн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 10 страниц)
Ответ заключается в том, что, на протяжении романа, подмена персонажей всегда завершается установлением истины, что вообще свойственно популярным романам девятнадцатого века. Д'Артаньян снова и снова узнает в очередном проходящем мимо незнакомце наглеца из Менга; он раз за разом подозревает госпожу Бонасье в неверности, но потом обнаруживает, что та чиста как ангел. Атос опознает в Миледи Анну де Брейль, на которой женился, еще не зная о ее преступных наклонностях. Миледи опознает в палаче из Лилля брата человека, которого погубила. Эти опознавания системны. Однако анахронизм, относящийся к улице Сервандони, не получает никакой развязки, и Арамис продолжает жить в этом несуществующем месте до самого конца романа, а возможно и потом. На фоне правил приключенческих романов девятнадцатого века улица Сервандони – тупик.
Мы тут предавались довольно занятным мысленным опытам, задаваясь вопросами, что бы было, если бы Нерваль сообщил нам, [214] что карета двигалась без лошади, если бы Рекс Стаут перенес Александерплац в Нью-Йорк, если бы Дюма заставил д'Артаньяна свернуть на улицу Бонапарта. Ну хорошо, мы позабавились, как иногда забавляются философы; но при этом мы не должны забывать, что Нерваль нигде не говорил, что в упряжи не было лошади, Стаут никогда не помещал Александерплац в Нью-Йорк, а д'Артаньян никогда не сворачивал на улицу Бонапарта.
Уровень знакомства с Энциклопедией, необходимый читателю (относительно потенциально безграничного объема Полной Энциклопедии, которой никто полностью не владеет) определяется самим художественным текстом. Видимо, образцовому читателю Дюма надлежало знать, что в 1625 году улицы Бонапарта еще не могло быть в природе, и, соответственно, Дюма не делает этой ошибки. Видимо, не предполагалось, что тот же самый читатель будет знать, кто такой Сервандони, и Дюма мог позволить себе упомянуть о нем не к месту. Каких-то знаний текст требует от читателя, другие он ему поставляет сам.
[215] Что касается прочего, текст не ставит жестких рамок, но, разумеется, он не требует от нас знакомства со всей Полной Энциклопедией.
Точный объем энциклопедии, с которой должен быть знаком читатель, остается областью догадок. Вычислить этот объем – значит вычислить стратегию образцового автора, то есть не просто распознать узор на ковре, но установить закономерность, при помощи которой можно разглядывать многочисленные узоры текстуального ковра.
В чем мораль всего вышесказанного? В том, что художественные тексты помогают преодолеть нашу метафизическую ограниченность. Мы живем в огромном лабиринтереального мира, который больше и сложнее мира «Красной Шапочки». Это мир, в котором далеко не все дороги нанесены на карту и общую структуру которого мы не в состоянии описать. В надежде, что у игры все-таки существуют правила, человечество долгие века размышляло, имеется ли у этого лабиринта автор или авторы. И оно придумало Бога, или богов, в качестве [216] эмпирических авторов, рассказчиков или образцовых авторов. Люди гадали, каков облик эмпирического божества: есть ли у него борода, кто это – Он, Она или Оно, рождено ли оно или существовало вечно и даже (это уже в нынешние времена) не умерло ли оно. Бога-рассказчика всегда пытались отыскать – во внутренностях животных, в щебете птиц, в неопалимой купине, в первой фразе десяти Заповедей. Но некоторые философы, а также многие религии) искали Бога – Образцового Автора, а именно Правило Игры, Закон, который делает или когда-нибудь сделает мировой лабиринт постижимым. В этом контексте Божественность – это нечто, что мы должны открыть одновременно с тем, почему мы обретаемся в этом лабиринте и какая дорога нам в нем предназначена.
В послесловии к «Имени розы» я писал, что детективы нравятся нам потому, что задаются тем же вопросом, что философия и религия: «кто виноват?». Но это метафизика для читателя первого уровня. У читателя второго уровня запросы выше: [217] как мне идентифицировать (в умозрительном плане) или даже как мне сконструировать образцового автора, чтобы мое чтение обрело смысл? Стивен Дедал задавался вопросом: если человек, в ярости ударяя топором по бревну, вырубит изображение коровы, будет ли это изображение произведением искусства? Если нет, то почему? Сегодня, когда изучена поэтика готовой продукции,мы знаем ответ: случайно полученный образ является произведением искусства, если мы в состоянии представить себе, как авторский замысел привел к его созданию. В крайнем выражении эта формула гласит: чтобы стать хорошим читателем, необходимо стать хорошим писателем. Это крайнее выражение великолепно передает нерасторжимую диалектическую связь между автором и образцовым читателем.
В этой диалектике нам надлежит следовать наставлению дельфийского оракула: познай самого себя. А поскольку, как напоминает нам Гераклит, «Бог, чей оракул в Дельфах, не говорит и не скрывает, но указует знаками», познание себя безгранично, [218] ибо принимает форму бесконечных расспросов.
Впрочем, при потенциальной своей бесконечности, расспросы эти все-таки ограничены объемом сокращенного издания Энциклопедии, потребного для художественного произведения, тогда как у нас нет уверенности, является ли реальный мир, вместе с бесконечным числом его возможных слепков, бесконечным и ограниченным, либо конечным и безграничным. Но есть и еще одна причина, по которой вымысел метафизически уютнее, чем реальность. Это золотое правило, которым пользуются криптографы и дешифровальщики, а именно, что смысл любого тайного сообщения можно расшифровать, если только у вас есть уверенность, что это действительно сообщение. Проблема с реальным миром состоит в том, что с самой зари времен люди гадают, есть ли в нем смысл, и если да, то какой. Что же до вымышленных миров, мы знаем наверняка, что в них есть смысл, что авторская сущность присутствует вовне – как фигура создателя и внутри – как набор инструкций для чтения.
[219] Следовательно, наши искания образцового автора-это поиск эрзаца другого образа, образа Отца, он затерян в Дымке Бесконечности, и мы не перестаем гадать, что там: ничто или нечто.
VI
ВЫМЫШЛЕННЫЕ ПРОТОКОЛЫ
[220] Но если вымышленные миры так уютны, почему бы не попытаться прочесть реальный мир как роман? Или, если все существующие вымышленные миры так малы и обманчиво-уютны, почему не попытаться создать новые, которые были бы столь же сложны, противоречивы и непостижимы, как реальный?
Позвольте мне начать с ответа на второй вопрос: Данте, Рабле, Шекспир, Джойс именно так и делали. Равно как и Нерваль. В своих работах об «открытых произведениях» я говорю именно о тех литературных текстах, которые своей непроясненностью конкурируют с жизнью. Да, из «Сильвии» мы узнаем с абсолютной непреложностью, что Адриенна умерла в 1832 году (мы, между прочим, не можем утверждать с той [221] же уверенностью, что Наполеон умер в 1821-м, – а вдруг его тайно вывез со Святой Елены Жюльен Сорель, оставив на его месте двойника, и поселил под именем священника Додю в Луази, где тот и встретился с рассказчиком в 1820-м). Но все прочее в этой истории, все эти сложные переклички между сном и реальностью, прошлым и настоящим, – больше напоминает неопределенность, которая превалирует в нашей жизни, а не железную уверенность Скарлетт О'Хара, что завтра будет новый день.
А теперь позвольте ответить на первый вопрос. В моей книге «Открытое произведение» речь, в частности, идет о приеме, который используется в прямых телевизионных трансляциях: чтобы придать случайным событиям форму, им сообщают нарративную структуру; я пишу, что жизнь, вне всяких сомнений, куда больше похожа на «Улисса», чем на «Трех мушкетеров», – но мы тем не менее склонны прочитывать ее как «Трех мушкетеров», а не как «Улисса». Якопо Бельбо, персонаж моего «Маятника Фуко», согласен со мной, когда говорит:
[222] Я думал, что настоящие денди не ухаживают за Скарлетт О'Харами и за Констанциями Бонасье… Я считал, бульварный роман уводит немножечко за пределы жизни… Но ничего подобного… Прав Пруст: жизнь воплощается более в плохой музыке, нежели в торжественной мессе. Искусство… показывает мир таким, каким его хотели бы увидеть деятели искусства. Бульварный романчик вроде бы игра, но жизнь в нем представлена именно как она есть, в крайнем случае – какой она будет. Женщины похожи на маркизу ангелов Анжелику, а не на ангельскую Беатриче. Профессор Мориарти натуральнее Пьера Безухова, и ход истории ближе к фантазиям Эжена Сю, нежели к проекту Гегеля.
Горькое, что ни говори, замечание, замечание человека разочарованного. Однако оно отражает наше естественное стремление интерпретировать происходящие вокруг события в форме, которую Барт называл textelisible, читабельный текст.Поскольку вымышленная среда куда уютнее естественной, мы пытаемся читать жизнь так, будто она тоже является художественным произведением.
Так вот, в своей последней лекции я буду разбирать всевозможные случаи, когда нам [223] приходится менять местами вымысел и реальность – прочитывать действительность как литературный текст, прочитывать текст как действительность. Иногда такие казусы бывают забавны и безобидны, иногда совершенно неизбежны, иногда жутковаты.
В 1934 году Карло Эмилио Гадда опубликовал в одной газете статью с описанием миланской скотобойни. Гадда был замечательным писателем, и статья эта, соответственно, представляет собой великолепный образец художественной прозы. Андреа Бономи недавно предложил провести любопытный эксперимент. Давайте предположим, что в статье не упоминается Милан, речь идет просто о «городе», что она осталась неопубликованной и лежит в виде машинописи среди бумаг Гадды, что ее обнаруживает современная исследовательница, которая не может судить, о чем идет речь – о вымышленном или реальном мире. Следовательно, она не задается вопросом, являются ли сделанные в тексте утверждения истинными; она принимается воссоздавать определенный универсум, универсум скотобойни в неназванном – и, по всей видимости, [224] несуществующем – городе. После этого исследовательница обнаруживает еще один экземпляр статьи в архиве миланской скотобойни; на полях этого экземпляра директор много лет назад сделал пометку: «NB: безупречно точное описание». Следовательно, текст Гадды предстает как правдивый рассказ о конкретном месте, существующем в реальном мире. Вывод Бономи заключается в следующем: хотя исследовательнице и придется изменить свое мнение о природе текста, у нее нет необходимости его перечитывать. Мир, который в нем описан, его обитатели и все свойства остаются прежними; исследовательнице всего лишь придется нанести события на карту реальности. По словам Бономи, «для того чтобы понять содержание фактографического фрагмента, совершенно не обязательно применять к этому содержанию категории истинности и ложности».
Это утверждение совсем не так очевидно, как кажется на первый взгляд. На самом деле, слушая или читая о неких фактах, мы инстинктивно настораживаемся, так как исходим из того, что говорящий или пишущий [225] пытается выдать свои слова за правду, и, соответственно, квалифицируем услышанное с точки зрения истинности или ложности. Подобным же образом мы, как правило, считаем, что только в исключительных случаях – помеченных флажком «вымысел» – мы должны воздержаться от недоверия и приготовиться вступить в воображаемый мир. Однако мысленный эксперимент стекстом Гадды доказывает, что, выслушивая утверждения, в которых излагается, что произошло с таким-то в таком-то месте, мы сперва принимаем участие в воссоздании универсума, обладающего внутренней целостностью, – и только потом решаем, как следует квалифицировать эти утверждения: как описание реального или воображаемого мира.
Здесь пришло время вспомнить о различии, которое ученые проводят между естественными искусственнымповествованием. В естественном повествовании описываются события, которые имели место на самом деле (или которые говорящий, по недоразумению или по злому умыслу, выдает за таковые). Примерами естественного повествования [226] могут быть мой рассказ о том, что я делал вчера, газетная заметка или даже «История упадка и разрушения Римской империи» Гиббона. Искусственное повествование – это литература; она только притворяется, что говорит правду о реальном мире, или якобы говорит правду о мире вымышленном.
Опознать искусственное повествование нам, как правило, помогает «паратекст» – то есть внешние признаки, находящиеся вне текста. Типичным паратекстуальным указанием на то, что мы имеем дело с литературным произведением, является слово «роман» на обложке. Иногда ту же функцию выполняет имя автора; так, читатели девятнадцатого века знали, что книга, на титуле которой значится «новое произведение автора „Уэверли”», – вне всякого сомнения художественный текст. Наиболее явным текстуальным (то есть внутренним) указанием на то же самое может служить вводная формула, вроде «Давным-давно жили-были…».
Однако все не так однозначно. Возьмем, к примеру, вошедший в историю инцидент 1940 года с радиопередачей Орсона Уэллса [227] о том, что на Землю якобы напали марсиане. Поскольку некоторые радиослушатели были твердо убеждены, что все сводки новостей суть примеры естественного повествования, передача вызвала смятение и даже панику, хотя Уэллс считал, что подал слушателям достаточно сигналов «литературности». Однако многие включили приемники уже после того, как передача началась; другие не распознали сигналов и нанесли содержание передачи на карту реального мира.
Мой друг Джорджо Челли, писатель и профессор-энтомолог, однажды придумал рассказ об идеальном преступлении. Мы оба выступали там в качестве персонажей. Челли (персонаж) впрыснул в тюбик с зубной пастой химический состав, который привлекает ос и вызывает у них сексуальное возбуждение. Эко (персонаж) почистил этой пастой зубы перед сном, и небольшое количество состава осталось у него на губах. Рой воспламененных ос набросился на его лицо, и бедняге Эко пришел конец. Рассказ был опубликован на третьей полосе болонской газеты «Иль ресто дель карлино». Не знаю, [228] известно вам это или нет, но, по крайней мере до недавнего времени, итальянские газеты, как правило, посвящали третью полосу искусству и литературе. Главный материал, набранный гарнитурой «эльзевир», – он и назывался «эльзевиром», – помещался в левой колонке; это мог быть обзор, рецензия или даже новелла. Рассказ Челли был напечатан эльзевиром под названием «Как я убил Умберто Эко». Редакторы явно ни на миг не усомнились в прописной для них истине: читателям известно, что всерьез надлежит принимать все публикации, за исключением тех, которые набраны эльзевиром, – эти можно или даже нужно рассматривать как искусственное повествование.
Однако в то утро, когда я пошел завтракать в бар возле своего дома, официанты загалдели от радости, поскольку были убеждены, что Челли действительно меня прикончил. Я списал их реакцию на то, что культурный уровень не позволяет им распознавать журналистские уловки. Однако в тот же день я столкнулся с деканом своего факультета, высокообразованным человеком, которому, разумеется, известно все [229] о различиях между текстом и паратекстом, естественным и искусственным повествованием и прочем в этом роде. Он сказал мне, что, раскрыв утром газету, буквально опешил. Хотя ужас его длился недолго, само по себе появление этого заголовка в газете – то есть в контексте, в котором, по определению, описываются истинные события, – в первый момент внушило ему мысль, будто это правда.
Утверждают также, что искусственное повествование можно распознать благодаря тому, что оно структурно сложнее естественного. Однако любые попытки формализовать структурные различия между искусственным и естественным повествованиями, как правило, заходят в тупик из-за обилия контрпримеров. Так, мы можем определить художественную прозу как повествование, в котором персонажи совершают действия или подвергаются воздействиям, причем эти действия и воздействия видоизменяют состояние персонажа от исходного к конечному. Однако то же самое определение подходит и к любой истории, серьезной и правдивой, к примеру: «Вчера вечером я зверски проголодался. Я пошел [230] ужинать. Я съел бифштекс и омара, и мне стало хорошо».
Можно, конечно, сказать, что действия в реальной истории труднее, чем в литературной, и ставят нас перед необходимостью мучительного и непредсказуемого выбора; впрочем, я уверен, что Джером К. Джером сумел бы передать во всех красках, как он делал мучительный выбор между бифштексом и омаром и с каким блеском вышел из этого испытания. Можно сказать обратное: что литература сложнее жизни. Но дилеммы, которые приходится разрешать персонажам «Улисса», более мучительны, чем те, которые встают перед нами в повседневной жизни. Правила Аристотеля (согласно которым персонаж должен быть не лучше и не хуже нас, должен переживать неожиданные разоблачения и терпеть прихоти рока до той самой точки, когда действие достигнет развязки, за которой последует катарсис) тоже не дают точного определения художественной литературы: многие «Жизнеописания» Плутарха отвечают всем Аристотелевым требованиям.
Может быть, литературность проявляется в не подлежащих проверке деталях, [231] передаче психологии и чувств героев? Ролан Барт, рассуждая о «реалистических приемах» в литературе, цитирует фрагмент из «Истории Франции» Мишле (Том 5, «Революция», 1869), где автор пользуется этим литературным приемом – непроверяемой деталью – описывая Шарлотту Корде в заключении: «Через полтора часа в дверцу за ее спиной тихо постучали».
Что же касается эксплицитных вводных сигналов «литературности», их, понятное дело, никогда не бывает в начале естественного повествования. Так, несмотря на название, «Правдивая история» Лукиана из Самосаты должна восприниматься как вымысел, поскольку во втором абзаце автор недвусмысленно заявляет: «Я собрал всевозможные бредни под маской правды и достоверности». Генри Филдинг начинает «Тома Джонса» предупреждением к читателю, что тот держит в руках роман. Другой типичный показатель литературности – это притворные притязания на хроникальность. Сравните два зачина:
Справедливые и настойчивые просьбы многомудрых братьев сподвигли меня… задаться вопросом, почему никто днесь не пишет [232] летописей, ни в какой литературной форме, дабы могли мы передать нашим потомкам рассказ о многих событиях, каковые имели место как в Господних храмах, так и промеж людей, событий, которые заслуживают того, чтобы о них знали.
Никогда величие и галантность не сияли во Франции столь ярко, как в последние годы правления Генриха П.
Первый отрывок – начало «Истории наших времен» Рауля Глобера; второй – из «Принцессы Клевской» мадам де Лафайет. Следует отметить, что второй отрывок занимает многие страницы и только потом читателю открывается, что он имеет дело с зачином романа, а не хроники.
16 августа 1968 года я приобрел книгу под названием «Записки отца Адсона из Мелька…» (…)В довольно бедном историческом комментарии сообщалось, что переводчик дословно следовал изданию рукописи XIV в., разысканной в библиотеке…
Говорят, что однажды Цезарь увидал в Риме, как какие-то богатые иностранцы носили за пазухой щенят и маленьких обезьян и ласкали их. Он спросил их, разве у них женщины не родят детей?
[233] Второй зачин, очень напоминающий литературу, – начало Плутархова жизнеописания Перикла, а первый открывает мой роман «Имя розы».
Если какая история человеческой жизни и стоит того, чтобы предать ее гласности и не усомниться в ней по опубликовании, то именно та, которую издатель представляет вам в этой книге. Удивительные приключения этого человека (по мнению издателя) затмевают все, что было известно доныне… Издатель убежден, что история эта – правдивое изложение фактов; в ней не замечено ни тени вымысла.
Да не посетуют наши читатели, что мы воспользуемся этой возможностью и бегло набросаем портрет величайшего из королей, которые восходили в новые времена по праву рождения на трон. Опасаемся лишь, что нам не удастся сжать столь долгую и насыщенную историю до тех пределов, которые мы себе отвели.
Первый отрывок – начало «Робинзона Крузо». Второй – зачин эссе Маколея о Фридрихе Великом.
Я не имею права начать рассказ о событиях моей жизни без того, чтобы упомянуть добрых моих родителей: их душевные качества и [234] их любовь оказали огромное влияние на мое развитие и мое благополучие.
Хотя я не склонен, даже сидя у камелька в тесном кругу друзей, распространяться о своей персоне и о своих делах, все же, пожалуй, не так уж странно, что у меня дважды появлялся автобиографический зуд, понуждая обратиться к публике от собственного лица.
Первый абзац – начало мемуаров Джузеппе Гарибальди; второй – из «Алой буквы» Натаниэля Готорна.
Существуют, разумеется, и совершенно внятные сигналы литературности – например, начало in medias res [11]11
с главного (лат.).
[Закрыть], открывающий текст диалог, заявление, что речь пойдет об индивидуальной, а не общей истории, и прежде всего – ироничный комментарий к зачину, как в романе Роберта Музиля «Человек без свойств», который начинается с длинного описания погоды, начиненного специальными терминами:
Над Атлантикой была область низкого атмосферного давления; она перемещалась к востоку, к стоявшему над Россией антициклону, и еще не обнаруживала тенденции обойти его [235] с севера. Изотермы и изотеры делали свое дело. Температура воздуха находилась в надлежащем отношении к среднегодовой…
Музиль продолжает в таком духе с полстраницы, а потом замечает:
Короче говоря, – и этот оборот речи, хотя он чуть старомоден, довольно точно определит факты, – стоял прекрасный августовский день 1913 года.
Однако достаточно найти хотя бы одно литературное произведение, лишенное всех этих черт (а на деле примеров можно набрать десятки), чтобы опровергнуть сказанное и прийти к выводу, что неоспоримых признаков литературности попросту не существует, существуют только паратекстуальные признаки.
Это значит, что довольно часто происходит следующее: мы не вступаем в вымышленный мир по собственному почину; мы случайно оказываемся в его пределах. Через какое-то время мы начинаем это понимать и приходим к выводу, что происходящее с нами – сон. Говоря словами Новалиса: «Если вам снится, что вы спите, вы на грани пробуждения». Однако это состояние [236] полусна – в котором оказывается рассказчик «Сильвии» – ставит перед нами многочисленные проблемы.
В литературе отсылки к конкретным фактам настоящего мира так тесно сцеплены с вымыслом, а элементы вымысла с отсылками к реальности, что, проведя некоторое время в мире романа, читатель перестает понимать, где именно он находится. Что происходит в этом состоянии – хорошо известно. Чаще всего читатель начинает наносить вымышленную модель на карту реальности, иными словами, верить в истинность вымышленных персонажей и событий. То, что многие верили, и до сих пор верят, в существование Шерлока Холмса, – самый известный из множества аналогичных примеров. Если вам приходилось бывать в Дублине в обществе поклонников Джойса, вы знаете, что спустя некоторое время и им и вам становится очень трудно отделить город, описанный Джойсом, от реального; а теперь, когда ученые установили, кто был прототипами джойсовских персонажей, смычка эта стала еще крепче. Прогуливаясь вдоль каналов или взбираясь [237] на башню Мартелло, вы начинаете путать Гогарти с Линчем или Крэнли, а юного Джойса – со Стивеном Дедалом.
Пруст пишет в эссе о Нервале, что «дрожь пробегает по становому хребту, когда читаешь название „Понтарме” в железнодорожном расписании». Воспринимая «Сильвию» как повесть о человеке, видящем сон во сне, Пруст начинает грезить о Валуа, существующем в реальности, в несбыточной надежде снова обрести девушку, которая давно уже стала частью его собственных снов.
Слишком серьезное отношение к литературным персонажам порождает интертекстуальную литературу: персонаж одного литературного произведения может появиться в другом в качестве доказательства правдоподобие. Именно это происходит в конце второго акта «Сирано де Бержерака» Ростана, где к герою обращается мушкетер, которого почтительно представляют как д'Артаньяна. Появление д'Артаньяна должно служить гарантией истинности рассказа о Сирано – хотя д'Артаньян был всего лишь второстепенным историческим персонажем (известным по большей части [238] благодаря Дюма), а Сирано – знаменитым писателем.
Если литературный персонаж начинает странствовать из текста в текст, это значит, что он обрел гражданство в реальном мире и эмансипировался от породившего его произведения. Недавно, исходя из того, что постмодернизм приучил читателей к любым металитературным хулиганствам, я набросал следующее:
Вена, 1950. Двадцать лет пронеслось, но Сэм Спейд не оставил поисков мальтийского сокола. Он выходит на связь с «третьим человеком» Гарри Лаймом, они встречаются в Пратере на колесе обозрения. Потом заходят в «Кафе Моцарт», где Сэм исполняет на кифаре «As Time Goes By». За столиком у дальней стены – из уголка рта свисает сигарета, лицо угрюмо – сидит Рик. Он нашел ключ к разгадке в бумагах, которые показал ему Угарте. Он показывает фото Угарте Сэму Спейду. «Каир!» – бормочет сыщик. Рик продолжает свой доклад: когда он победоносным маршем вошел в Париж с капитаном Рено в составе освободительной армии де Голля, он слышал о некой леди Дракон (по некоторым данным ликвидировавшей Роберта Джордана во время гражданской войны в Испании), которую тайная разведка пустила по следу сокола. Она [239] должна появиться с минуты на минуту. Дверь открывается, входит дама. «Ильза!» – восклицает Рик. «Бриджит!» – восклицает Сэм Спейд. «Анна Шмидт!» – восклицает Лайм. «Мисс Скарлетт! – восклицает Сэм. – Вы вернулись! Не заставляйте больше моего шефа так страдать!»
Из темноты за баром появляется некто с саркастической ухмылкой на лице. Это Филип Марло. «Пойдемте, мисс Марпл, – обращается он к даме. – Отец Браун дожидается нас на Бейкер-стрит».
Как удается литературному герою зажить реальной жизнью? Такое случается далеко не с каждым. Этого не произошло с Гаргантюа, Дон Кихотом, госпожой Бовари, капитаном Сильвером, лордом Джимом и Лупоглазым Попейем (ни фолкнеровским, ни тем, что из комикса). А произошло это с Шерлоком Холмсом, Сиддхартхой, Леопольдом Блумом и Риком Елейном. По моему мнению, внетекстуальная и интертекстуальная жизнь персонажей, как правило, совпадает с их культом. Почему фильм становится культовым? Почему роман или поэма становится культовой книгой?
Когда-то, рассуждая, почему «Касабланка» стала культовым фильмом, я выдвинул [240] гипотезу, что одним из факторов, способствующих формированию культа вокруг определенного произведения, является «несвязанность», или «разборность» этого произведения. Несвязанность наводит на мысль о «порванных связях». Сейчас я объясню. Теперь уже всем известно, что «Касабланку» снимали от эпизода к эпизоду и никто не знал, чем фильм закончится. Ингрид Бергман сохраняет свой чарующе-загадочный вид потому, что, играя роль, она не знала, какому из поклонников ей велят отдать предпочтение, поэтому улыбалась обоим нежной и многозначительной улыбкой. Кроме того, нам известно, что в интересах развития сюжета сценаристы напихали в фильм все мыслимые экранные и литературные клише, превратив его, так сказать, в музей кинематографии. По этой причине «Касабланку» можно воспринимать по частям, выхватывая куски, каждый из которых становится цитатой, архетипом. В определенной степени то же самое можно сказать и о «Шоу ужасов Роки Хоррора», который является культовым фильмом в чистом виде именно потому, что лишен формы – его можно разбирать на цитаты, порывая связи [241] между кусками, до бесконечности. Между прочим, в своем знаменитом эссе Т. С. Элиот предположил, что тому же самому обязан своим успехом и «Гамлет».
Согласно Элиоту, «Гамлет» стал результатом слияния трех источников; в одном движущим мотивом была месть, в другом отсрочки ее осуществления были связаны с тем, что до короля, окруженного стражей, было трудно добраться, а в третьем безумие Гамлета было продуманным и эффективным способом снять с себя подозрение. Шекспир же захотел ввести тему материнской вины и ее воздействия на сына, но не сумел достаточно убедительно наложить этот мотив на «неподатливый» материал источников. В результате «целесообразность и необходимость отсрочки осуществления мести так и остается без объяснения; а „безумие” служит не усыплению, а скорее обострению подозрительности короля… Пожалуй, больше найдется тех, кто считает „Гамлета” произведением искусства, потому что его интересно читать, чем тех, кому его интересно читать, потому что это произведение искусства. Это такая литературная Мона Лиза».
[242] Огромная многовековая популярность Библии проистекает именно из ее несвязанности, результата того, что ее писали независимо друг от друга несколько авторов. В «Божественной комедии» несвязанность практически отсутствует, но благодаря многомерности, обилию персонажей и рассказанных событий (все, что есть на небе и на земле, по словам Данте) каждая строчка способна разорвать связи с целым и выступать как магическое заклинание или как мнемонический прием. Некоторые поклонники Данте даже используют «Божественную комедию» для гадания; в средние века «Энеиду» Вергилия использовали как источник пророчеств и откровений, подобно «Столетиям» Нострадамуса (еще один отличный пример успеха книги благодаря радикальной, непоправимой несвязанности). Однако если «Божественная комедия» допускает разрыв связей, то «Декамерон» – нет, поскольку в нем каждая новелла должна восприниматься как единство. Степень допустимого разрыва связей в художественном произведении не является мерилом его эстетической ценности. «Гамлет» все же остается замечательным произведением (сам [243] Элиот не заставит нас его разлюбить), тогда как даже фанаты «Шоу ужасов Роки Хоррора» вряд ли станут утверждать, что он дотягивает до уровня шекспировского гения. Но при этом и «Гамлет», и «Шоу ужасов» – объекты культа, поскольку первый допускает разрыв связей, а во втором они разорваны до такой степени, что допускают всевозможные виды интерактивных игр. Чтобы стать Священным лесом, лес должен быть густым и дремучим, как чащи друидов, а не аккуратненьким вроде французского парка.
Итак, существует множество причин, по которым литературное произведение может быть нанесено на карту реальности. Однако следует рассмотреть и другую, куда более важную проблему: наше стремление строить жизнь по законам литературы.