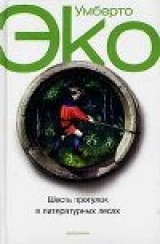
Текст книги "Шесть прогулок в лесах"
Автор книги: Умберто Эко
Жанр:
Искусство и Дизайн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 10 страниц)
Феноменологическая перспектива Изера передает читателю привилегию, которая всегда считалась прерогативой текста: а именно – право иметь собственную «точку зрения» и тем самым определять значение текста. Образцовый Читатель Эко (1979) не только интерактивен и кооперативен по отношению к тексту; он есть большее – или, в определенном смысле, меньшее, – он рождается вместе с текстом, являясь движущей силой его интерпретационной стратегии. Соответственно, компетентность образцовых читателей определяется генетическим импринтингом, который сообщает им текст… Созданные вместе с текстом – и заточённые в этом тексте – они [34] пользуются свободой строго в той степени, которую дает им текст.
Действительно, в «Акте чтения» Изер говорит, что «понятие подразумеваемого читателя есть, таким образом, текстуальная структура, предвосхищающая наличие реципиента», однако добавляет: «но не обязательно его при этом характеризующая». Для Изера «роль читателя не идентична фиктивному читателю, смоделированному в тексте. Фиктивный читатель – только один из аспектов роли читателя».
Хотя я и признаю существование всех прочих аспектов, столь блистательно изученных Изером, на этих лекциях я все-таки в основном сосредоточусь на этом «фиктивном читателе», смоделированном в тексте, полагая, что главная задача интерпретации – воплощение этого читателя вопреки его фантомности. Можете, если хотите, считать, что я больше «немец», чем Изер: стремлюсь к большей абстракции, или, как сказали бы британские философы, к большей спекулятивности.
В этой связи я хотел бы поговорить об образцовых читателях не только тех текстов, [35] которые открыты для всевозможных точек зрения, но также и тех, которые рассчитаны на настойчивого и легко управляемого читателя. Другими словами, существует не только образцовый читатель «Поминок по Финнегану», но и образцовый читатель железнодорожного расписания, и текст требует от каждого из них иной формы соучастия. Разумеется, наставления Джойса «идеальному читателю, мучимому идеальной несонницей» куда более многообещающи, но не следует игнорировать и наставления, предваряющие расписание поездов.
Подобным же образом, за понятием образцового автора далеко не обязательно кроются дивный голос и продуманная до тонкостей стратегия: образцовый автор присутствует и проявляет себя даже в самых низкопробных порнографических романах, где соображения искусства и не ночевали: его задача – заявить, что предлагаемые нам описания призваны возбудить наше воображение и вызвать чисто физиологическую реакцию. Чтобы далеко не ходить за примером образцового автора, который на первой же странице самым беззастенчивым [36] образом обнажает перед читателем свои намерения, указывая, какие именно эмоции читателю надлежит испытывать, даже если сам текст и не сможет их вызвать, давайте рассмотрим начало романа «Моя пуля быстра» Микки Спиллейна:
Когда вы сидите дома, удобно устроившись в кресле у камина, задумываетесь ли вы о том, что происходит снаружи? Скорее всего, нет. Вы берете книгу и читаете о разных там вещах, получая из вторых рук сведения о людях и событиях, которых никогда не было… Занятно, да?.. Даже древние римляне поступали точно так же, добавляли в жизнь перчика, когда сидели в Колизее и смотрели, как дикие твари рвут на куски горстку людишек, и радовались виду крови и страха… Ну уж это да, понаблюдать всегда здорово. Жизнь сквозь замочную скважину… Вот только запомните: там, снаружи, действительно многое происходит… Колизея давно нет, но город – куда более просторный амфитеатр и зрителей вмещает больше. Острые как бритва когти есть теперь не только у диких тварей, а людские когти бывают столь же острыми и куда более опасными. Надо быть проворным, надо быть смекалистым, а то тебя сожрут… Надо быть проворным. И смекалистым. А то сыграешь в ящик.
[37] Здесь присутствие образцового автора очевидно и, как я уже сказал, беззастенчиво. Есть другие случаи, когда в литературном тексте с не меньшим нахальством, но куда большей тонкостью, размещены образцовый автор, эмпирический автор, рассказчик и еще менее вразумительные существа, причем с одной явственной целью: запутать читателя. Давайте вернемся к «Артуру Гордону Пиму» По. Впервые его приключения были опубликованы двумя частями в 1837 году в «Южном литературном вестнике», приблизительно в том же виде, в каком мы читаем их сегодня. Текст начинался словами: «Меня зовут Артур Гордон Пим…» и таким образом заявлял о наличии в нем рассказчика, говорящего от первого лица, однако при этом подписан он был именем По, эмпирического автора (см. рис. 1).В 1838 году рассказ вышел отдельной книгой, однако без имени автора. Вместо этого в нем появилось предисловие, подписанное именем «А. Г. Пим», представляющее описанные события как реальные факты и уведомляющее читателей, что «в содержании журнала значилось его [мистера По] имя», потому [38] что рассказ, в который никто все равно бы не поверил, проще было подать «под видом вымышленной повести».
Получается, что у нас есть мистер Пим – предположительно эмпирический автор, равно как и рассказчик правдивой истории, который, кроме того, сочинил предисловие, являющееся не только частью литературного текста, но и паратекста [4]4
Согласно Жерару Женетту (Seuils. Paris: Seuil, 1987), «паратекст» состоит из целого ряда сигналов – таких как реклама, обложка, титульный лист, подзаголовки, введение, рецензии и пр., – которые дополняют и объясняют конкретный текст.
[Закрыть].Мистер По отходит на задний план, становится своего рода персонажем паратекста (см. рис. 2).Однако в конце повествования – там, где оно обрывается, есть приписка, поясняющая, что последние главы были утрачены «в связи с последовавшей недавно внезапной и трагической кончиной мистера Пима», обстоятельства каковой, предположительно, «уже известны публике из газет». Эта приписка, без подписи (и уж никак не принадлежащая перу мистера Пима – ведь она сообщает о его смерти), не может быть приписана По, поскольку в ней упоминается, что мистер По стал первым редактором этих записок; его даже обвиняют в неспособности понять суть криптограмм, которые Пим включил в текст. Теперь читателя пытаются убедить, что Пим – вымышленный [40] персонаж, который ведет повествование не только с начала первой главы, но и с начала предисловия, меняя роль этого предисловия: оно становится частью текста, а не паратекста. Следовательно, с начала предисловия перед читателем текст, принадлежащий третьему лицу, анонимному эмпирическому автору, чей голос звучит в приписке (в этом случае только она – паратекст), который говорит о По в том же ключе, в котором о нем говорил Пим в своем псевдопаратексте. Теперь читатель начинает гадать, является ли мистер По реальным человеком или персонажем двух разных историй: псевдопаратекста Пима и истинного, но лживого паратекста мистера Н. (см. рис. 3).Чтобы запутать дело еще больше, загадочный мистер Пим начинает свой рассказ словами: «Меня зовут Артур Гордон Пим…» – зачин, который не только предваряет «Зовите меня Измаил…» Мел вилла (эта связь как раз малозначительна), но также, судя по всему, пародирует текст, в котором По, еще до написания «Пима», пародировал некоего Морриса Мэтсона, начавшего один из своих романов словами: «Мое имя Поль Ульрик».
[42] Читатель, с полным на то основанием, начинает подозревать, что эмпирическим автором все же был По, который придумал вымышленного мистера Н., представив его как реальное лицо, заставив его говорить о псевдореальном персонаже мистере Пиме, который в свою очередь говорит о романных событиях. Единственное некрасивое обстоятельство заключается в том, что эти вымышленные персонажи рассуждают о реальном мистере По так, будто он – один из обитателей их вымышленного универсума (см. рис. 4).
Кто же является образцовым автором в этом текстуальном лабиринте? Кто бы он ни был – этот голос, или прием, устраивает путаницу из эмпирических авторов, чтобы завлечь образцового читателя в этот катоптрический театр.
Давайте вернемся к «Сильвии». Употребив в самом начале несовершенное время, голос, который мы решили именовать Нервалем, сообщает, что мы должны приготовиться слушать воспоминания. Через четыре страницы голос внезапно переходит от несовершенного к простому прошедшему и рассказывает о вечере, проведенном в клубе [43] после театра. Как мы понимаем, это тоже воспоминания рассказчика, однако теперь он ведет речь об определенном моменте прошлого, когда, рассказывая другу об актрисе, которую любит, но с которой ни разу даже не разговаривал, он понимает, что влюблен не в женщину, но в образ («Я ищу лишь зримый образ, больше мне ничего не надо»), И вот в этот момент реальности, точно обозначенный простым прошедшим, он читает в газете, что в этот самый вечер в Луази, где прошло его детство, проводится традиционное состязание лучников, в котором он принимал участие мальчишкой, когда был без ума от обворожительной Сильвии.
Во второй главе рассказ возвращается к несовершенному прошедшему. Автор проводит несколько часов в полудреме, вспоминая похожее состязание – видимо, еще тех времен, когда он был мальчиком. Он вспоминает нежную Сильвию, которая любила его, и прекрасную, возвышенную Адриенну, которая пела в тот вечер на лужайке; почти бесплотная, как видение, она скрылась навсегда в стенах обители. В полусне рассказчик пытается понять, не влюблен ли он [44] с прежней безнадежностью все в тот же образ – то есть не может ли быть, что непостижимым образом Адриенна и актриса – это одна женщина.
В третьей главе рассказчик охвачен желанием вновь посетить места своих детских воспоминаний, просчитывает, что может попасть туда еще до рассвета, выходит, нанимает экипаж и в определенной точке пути, когда он начинает узнавать дороги, холмы и селения своего детства, ему приходит на ум воспоминание о других событиях, на сей раз более близких, случившихся года за три до этого путешествия. Однако читателя в этот новый поток воспоминаний вводит фраза, которая, при внимательном прочтении, выглядит совершенно удивительной:
Pendant que la voiture monte les cotes, recomposons les souvenirs du temps ouj'y venais si souvent.
Пока фиакр взбирается на склоны холмов, воскресим в памяти время, когда я так часто наезжал в эти места.
Кто произносит (или пишет) эту фразу и требует нашего соучастия? Рассказчик? Но рассказчик, который описывает поездку, [45] случившуюся за много лет до того момента, из которого он ведет свой рассказ, сказал бы что-нибудь вроде: «Пока фиакр взбирался по склону холма, я вспоминал (или «стал вспоминать», или «сказал себе: „а почему бы не вспомнить”») о том времени, когда я так часто наезжал в эти места». Кто он – вернее, кто «они», которые должны погрузиться в воспоминания и, соответственно, приготовиться к еще одному путешествию в прошлое? Кто эти «они», которые должны сделать это прямо сейчас, «пока фиакр взбирается» (пока фиакр движется в то же время, когда мы читаем), а не раньше, «пока фиакр взбирался» в тот момент, когда рассказчик сказал нам, что сейчас приступит к воспоминаниям? Это не голос рассказчика; это голос Нерваля, образцового автора, который на миг начинает говорить от первого лица и сообщает нам, образцовым читателям: «Пока рассказчик поднимается в фиакре по склону холма, давайте погрузимся (вместе с ним, разумеется, но и вы и я тоже) в воспоминания о тех временах, когда он так часто наезжал в эти места». Это не монолог, но реплика одного из участников трехстороннего диалога между [46] Нервалем, который тайком проникает в речь рассказчика, нами, столь же тайно призванными к соучастию, хотя мы думали, что будем наблюдать за событиями со стороны (а также, что никогда не покидали театра), и рассказчиком, которого нельзя исключить, потому что это именно он наезжал в эти места так часто (j'y venais si souvent).
Хочу также отметить, что можно написать многие страницы об этом «j 'у». Обозначает ли оно «туда», в то место, где находится рассказчик в этот вечер? Или «сюда», куда неожиданно завлек нас Нерваль?
В этой точке повествования время и пространство переплетаются так тесно, что начинают путаться даже голоса. Однако эта какофония так великолепно оркестрована, что остается незаметной – или почти незаметной, потому что мы-то ее заметили. Это не столько какофония, сколько озарение, нарративное богоявление, когда три лица нарративной троицы – образцовый автор, рассказчик и читатель – явлены единовременно (см. рис. 5).Образцовый автор и образцовый читатель – фигуры, формирующиеся лишь по ходу, взаимно друг друга [47] создающие. И в литературных текстах, и во всех вообще текстах.
Витгенштейн пишет в своих «Философских исследованиях» (фрагмент № 66):
Рассмотрим, например, процессы, которые мы называем «играми». Я имею в виду игры на доске, игры в карты, с мячом, борьбу и т. д. Что общего у них всех? – Не говори: «В них должно бытьчто-то общее, иначе их не называли бы „играми”», но присмотрись,нет ли чего-нибудь общего для них всех. – Ведь, глядя на них, ты не видишь чего-то общего, присущего им всем, но замечаешь подобия, родство, и притом целый ряд таких общих черт.
[48] Личные формы глаголов в этом абзаце не обозначают эмпирическое лицо по имени Людвиг или эмпирического читателя; это просто приемы, построенные как формы обращения, необходимые для диалога. Звучит говорящий голос, и тем самым формируется образцовый читатель, который знает, как вести эту игру в рассуждения о природе игр; а интеллектуальная конфигурация этого читателя (в том числе и его готовность поиграть в предложенную игру с играми) определяется только типом интерпретационных операций, которые голос просит его выполнить: рассмотреть, присмотреться, попробовать понять, заметить родство и подобия. В том же смысле автор – это только текстовая стратегия, определяющая семантические корреляции и требующая, чтобы ей подражали: когда голос говорит «предположим», он тем самым договаривается с нами, что слово «игра» будет рассматриваться применительно к спортивным играм, карточным играм и пр. Однако голос не дает определения слову «игра», скорее он просит насдать это определение или признать, что удовлетворительное определение возможно только в понятиях «фамильного [49] сходства». В этом тексте Витгенштейн – всего лишь философский стиль, а его образцовый читатель – всего лишь желание и способность соответствовать этому стилю, содействуя его осуществлению.
И вот я, голос без тела, пола и предыстории – характеризуемый разве что тем, что он начал звучать на этой лекции и кончит звучать на последней, – приглашаю вас, мои добрые читатели, поиграть со мной в мои игры на следующих наших пяти встречах.
II
ЛЕСА ЛУАЗИ
[50] Существует два способа бродить по лесу. Первый – выбрать методом проб и ошибок один из маршрутов (чтобы, например, как можно быстрее выйти на опушку, добраться до дома бабушки, Мальчика-с-Пальчик или Гензеля и Гретель). Способ второй – идти, разбираясь по дороге, как лес устроен, и выясняя, почему некоторые тропинки проходимы, а в другие – нет. Аналогичным образом, существуют два способа гулять по литературному тексту. Любой художественный текст адресован прежде всего образцовому читателю первого уровня, который, имея все на то основания, желает знать, чем кончится дело (поймает ли Ахав кита, познакомятся ли Леопольд Блум и Стивен Дедал, после того как пути их несколько раз пересеклись 16 июня 1904 года). Однако всякий текст адресован также и образцовому читателю [51] второго уровня, который пытается понять, каким именно читателем этот конкретный текст просит его стать, который стремится выяснить, как именно образцовый автор водительствует своим читателем. Чтобы узнать, чем кончается книга, как правило, достаточно прочесть ее один раз. Однако чтобы выявить образцового автора, текст придется читать неоднократно, а в некоторых случаях – и бесконечное множество раз. Только отыскав образцового автора и поняв (или, по крайней мере, начав понимать), чего он от них хочет, эмпирические читатели превращаются в полноценных образцовых читателей.
Текстом, в котором, на мой взгляд, голос образцового автора наиболее откровенно взывает о содействии к читателю второго уровня, является знаменитый детективный роман Агаты Кристи «Убийство Роджера Экройда». Сюжет знаком всем. Рассказчик, ведущий повествование от первого лица, шаг за шагом описывает, как Эркюль Пуаро идет по следу убийцы, а в конце мы узнаем от самого Пуаро, что рассказчик-то и является убийцей, причем вина его несомненна. И вот, [52] ожидая ареста, на пороге самоубийства, рассказчик напрямую обращается к читателям. Этот рассказчик – фигура воистину многомерная, поскольку он – не только тот, кто говорит от первого лица в книге, написанной другим; он тот, кто физически написал эту книгу (как Артур Гордон Пим), и следовательно, он воплощает образцового автора, или, еще точнее, он тот, чьими устами говорит образцовый автор, а совсем уж точно – тот, через кого мы ощущаем почти физическое присутствие образцового автора.
Завершая таким образом повествование, рассказчик побуждает читателей еще раз прочесть книгу с самого начала, потому что, как он утверждает, будь они проницательнее, от них бы не укрылось, что он нигде не уклоняется от правды. Разве что местами недоговаривает, – а ведь известно, что текст – механизм ленивый, требующий, чтобы читатель выполнял за него львиную долю работы. Причем рассказчик не только подталкивает нас к повторному прочтению, но и физически помогает читателю второго уровня сделать это, цитируя в финале фразы из начальных глав:
[53] В общем, я доволен собой как писателем. Можно ли придумать что-нибудь более изящное: «Было без двадцати минут девять, когда Паркер принес письма. И когда я ушел от Экройда без десяти девять, письмо все еще оставалось непрочитанным. У двери меня охватило сомнение, и я оглянулся – все ли я сделал, что мог?»
Ни слова лжи – вы видите. А поставь я многоточие после первой фразы? Заинтересовало бы кого-нибудь, что я делал эти десять минут?
Теперь же рассказчик объясняет, что именно он проделал за эти десять минут. И потом продолжает:
Должен признаться, что встреча с Паркером у самых дверей напугала меня, что я честно и записал. А потом, когда тело было найдено и я послал Паркера звонить в полицию, – какой точный выбор слов: «Я сделал все, что еще оставалось сделать». Оставались пустяки – сунуть диктофон в чемоданчик и поставить кресло на место.
Конечно же, образцовые авторы далеко не всегда столь откровенны. Если вернуться, например, к «Сильвии», выяснится, что мы имеем дело с автором, который вроде бы и не хочет, чтобы мы перечитывали текст; [54] вернее, хочет, чтобы мы его перечитали, но не хочет, чтобы мы поняли, что произошло с нами во время первого прочтения. Рассуждая о Нервале, Пруст описывает то впечатление, которое, скорее всего, останется у каждого из нас после чтения по первому разу:
Здесь перед нами – одна из тех картин нереального цвета, которые никогда не увидишь наяву и не выразишь в словах, но которые посылают нам сны и навевает музыка. Мы видим их иногда в момент засыпания и пытаемся ухватить и придать им четкость. Потом мы пробуждаемся – и их уже нет… Это нечто расплывчатое и неотвязное, точно воспоминание. Это свойство атмосферы, атмосферы «Сильвии», подцвеченный воздух, цветок на виноградной лозе… Но оно не в словах, оно не высказано, оно между слов, как утренняя дымка в Шантильи.
Слово «дымка» здесь очень важно. «Сильвия» действительно оставляет у читателя ощущение некоторой дымчатости, будто мы смотрим на окружающий пейзаж сквозь полуопущенные ресницы, лишь смутно различая контуры предметов. Впрочем, это не значит, что предметы вообще неразличимы: напротив, описания природы и персонажей [55] в «Сильвии» отличаются ясностью и точностью, своего рода неоклассической четкостью. Чего читатель не может ухватить – так это их местоположение во времени. По словам Жоржа Пуле, воспоминания Нерва-ля «водят вокруг него хоровод».
Основной движущий механизм «Сильвии» построен на постоянном чередовании ретроспективных и перспективных планов, а также на вложенных одна в другую, как матрешки, ретроспекциях.
Рассказывая нам о событии, относящемся к «Нарративному времени 1» (времени, когда произошло описываемое событие, – два часа тому назад или тысячу лет тому назад), рассказчик (в первом или третьем лице) и действующие лица могут упоминать нечто, случившееся раньше этого события. Или намекать на нечто, что в момент события еще не произошло и только предполагается. Как говорит Жерар Женетт, ретроспектива – компенсация того, о чем автор забыл рассказать, а перспектива – проявление нарративного нетерпения [5]5
Genette Gerard. Narrative Discourse: An Essay in Method. Ithaca: Cornell University Press, 1980. По вопросу времени в повествовании я особенно обязан следующим авторам: Segre, Cesare. Structure and Time: Narration, Poetry, Models. Chicago: University of Chicago Press, 1979; Idem. Introduction to the Analysis of the Literary Text. Bloomington: Indiana University Press, 1988; Ricoeur Paul. Time and Narrative. Chicago: University of Chicago Press, 1984; Cohn, Dorrit. Transparent Minds: Narrative Modes for Presenting Consciousness in Fiction. Princeton: Princeton University Press, 1978.
[Закрыть].
Все мы прибегаем к этому приему, описывая события прошлого: «Эй, послушай-ка! Я вчера встретила Пьера – может, ты его [56] помнишь, того самого, который два года назад бегал по утрам [ретроспектива].Так вот, он был страшно бледный, а я, признаться, только потом поняла, почему [перспектива],а он и говорит… ой, я же забыла тебе сказать, что когда я его встретила, он как раз выходил из бара, а было всего-то десять утра, представляешь? [ретроспектива]Ну так вот, Пьер сказал мне – ты ни за что не догадаешься, что он мне сказал [перспектива]…» Надеюсь, я в ходе нашей дальнейшей беседы буду выражаться менее сбивчиво. А Нерваль, с его куда более тонким художественным чутьем, втягивает нас в «Сильвии» в головокружительную игру ретроспектив и перспектив.
Повествователь влюблен в актрису; он не знает, взаимна ли эта любовь. Газетная заметка внезапно пробуждает в нем воспоминания детства. Он идет домой и, в полуяви-полусне, вспоминает двух девушек, Сильвию и Адриенну. Адриенна была подобна видению: светловолосая, высокая и стройная. Она была «мираж, воплотивший в себе величие и красоту», «в ее жилах текла кровь рода Валуа». Сильвия, напротив, казалась «девочкой из соседней деревни», – [57] поселянка с темными глазами и «тронутым загаром личиком», у которой увлеченность рассказчика Адриенной вызывает ребяческую ревность.
Промучившись несколько часов без сна, рассказчик решает сесть в фиакр и вернуться в места, с которыми связаны его воспоминания. В пути он начинает воскрешать в памяти другие события («воскресим в памяти время…») – события, относящиеся к прошлому, не столь удаленному от времени его поездки («минуло несколько лет»). В этом длинном ретроспективном фрагменте Адриенна появляется лишь мимоходом, как воспоминание внутри воспоминания, Сильвия же предстает удивительно живой и реальной. Она уже не «деревенская девушка», на которую рассказчик тогда не обращал внимания, – «все в ней стало пленительно». У нее гибкое тело; в ее улыбке есть что-то аттическое. В ней проявилась вся та прелесть, которую в юности рассказчик находил в Адриенне, и, возможно, с Сильвией он сумеет утолить свою потребность в любви. Они наносят визит тетушке Сильвии, и в трогательной сцене, которая, казалось бы, провозвещает их возможное счастье, [58] наряжаются, как новобрачные былых времен. Но все это случается слишком поздно – или слишком рано. На следующий день рассказчик возвращается в Париж.
И вот теперь, в карете, взбирающейся по склону холма, он снова летит мыслью в родные места. На часах четыре утра, и рассказчик погружается в новую ретроспекцию, к которой мы вернемся в другой лекции, – и пожалуйста, оцените мой перспективный ход, потому что здесь (в седьмой главе) временные планы смешиваются окончательно и невозможно понять, когда он в последний раз мельком видел Адриенну – о чем вспоминает только сейчас, – до или после эпизода, о котором он только что рассказывал. Впрочем, отступление кратко. Вот рассказчик уже прибыл в Луази, где как раз заканчивается состязание лучников. Там он опять видит Сильвию. Теперь это – обаятельная молодая женщина, и они с рассказчиком вспоминают детство и отрочество (ретроспекции в этом повествовании почти незаметны глазу); он понимает, что она тоже переменилась. Она стала искусной мастерицей-перчаточницей; она читает Руссо, поет арии из опер и даже выучилась произносить [59] «высокопарные фразы». И наконец, она скоро станет женой молочного брата рассказчика, его друга детства. Рассказчик понимает, что иллюзии утрачены безвозвратно, что он упустил свой шанс.
Вернувшись в Париж, рассказчик наконец-то вступает в связь с Аврелией, той самой актрисой, в которую он влюблен. Тут действие ускоряется: рассказчик живет с актрисой, постепенно понимает, что не любит ее, иногда ездит с ней вместе в деревню, где живет Сильвия. Сильвия теперь – счастливая мать; она становится рассказчику другом и отчасти сестрой. В последней главе рассказчик, покинутый актрисой (или давший ей себя покинуть), снова говорит с Сильвией, а потом размышляет о своих утраченных иллюзиях.
Вся эта история до ужаса банальна, однако тесное переплетение ретроспективных и перспективных планов сообщает ей магическую ирреальность. Как говорит об этом Пруст, «то и дело приходится перелистывать страницы назад, чтобы понять, где ты находишься, о чем идет речь, о прошлом или настоящем». Из-за всепроникающей дымки понять это читателю, как правило, [60] не удается. Понятно, почему Пруст, вечно увлеченный поисками прошлого и закончивший свой труд под флагом обретенного времени, считал Нерваля своим учителем и предшественником – но неудачливым, проигравшим битву со временем.
Но кто именно проиграл эту битву? Жерар Лабрюни, эмпирический автор, которому суждено было покончить жизнь самоубийством? Нерваль, образцовый автор? Или читатель? Пока писалась «Сильвия», Лабрюни несколько раз попадал в клинику стяжелым душевным расстройством, и в «Аврелии» он сообщает нам, что писал с трудом, «по большей части карандашом, на разрозненных клочках бумаги, следуя путаными тропами моих грез и моих прогулок». Он писал так, как читает по первому разу эмпирический читатель, не видя временных связей, «до» и «после». Пруст впоследствии скажет, что «Сильвия» – это «сон во сне», но Лабрюни и правда писал ее по законам сна. Однако того же самого нельзя сказать о Нервале как образцовом авторе. Кажущаяся непроясненность времени и места действия, составляющая особое очарование «Сильвии» (и доводящая до истерики [61] читателя первого уровня), основана на нарративной стратегии и грамматической тактике, работающих с четкостью часового механизма, – что, однако, дано понять лишь читателю второго уровня.
Как стать образцовым читателем второго уровня? Восстановив последовательность событий, которую рассказчик фактически утратил, и при этом разобраться не как именно он ее утратил, а что именно сделал Нерваль, чтобы ее утратил читатель.
Чтобы понять, как за это взяться, мы должны обратиться к фундаментальному положению всех современных литературоведческих теорий, к различию между тем, что русские формалисты называли «фабулой» и «сюжетом».
Фабула похождений Одиссея, пересказанная Гомером, а впоследствии переосмысленная Джеймсом Джойсом, скорее всего, была известна грекам еще до создания «Одиссеи». Одиссей покидает горящую Трою, вместе со своими спутниками сбивается с курса и оказывается в неведомых морях. На пути им встречаются странные люди и жуткие чудища – лестригоны, Полифем, лотофаги, Сцилла и Харибда. Он [62] спускается в подземное царство, спасается от сирен и наконец попадает в плен к нимфе Калипсо. Тут боги решают помочь ему вернуться домой. Калипсо вынуждена отпустить Одиссея, который вновь пускается в плавание, терпит кораблекрушение и рассказывает о своих странствиях Алкиною. Потом он отправляется в Итаку, где разделывается с женихами Пенелопы и воссоединяется с ней. История развивается линейно, от исходного момента, Т1 к финальному, ТХ (см. рис. 6).
Сюжет «Одиссеи», однако, совсем не таков. «Одиссея» начинается in medias res [6]6
с середины (лат.).
[Закрыть], в момент Т0, когда раздается голос, который мы называем Гомером. Мы можем, по своему усмотрению, объявить этим моментом день, когда Гомер якобы начал свое повествование, или день, когда мы приступили [63] к чтению. В любом случае, сюжет начинается с момента Т1 когда Одиссей уже находится в плену у Калипсо. Между этим моментом и моментом Т2, соответствующим песни восьмой (здесь Одиссей рассказывает свою историю), герой вырывается из любовных пут Калипсо и терпит крушение в земле феаков. Рассказ уходит на много лет назад, к моменту, который мы назовем Т3, и обращается к предыдущим приключениям Одиссея. Эта ретроспекция растягивается на большую часть поэмы, и только к тринадцатой песни текст возвращается к той точке, в которой мы остановились в начале песни восьмой. Одиссей завершает свои воспоминания и отплывает в Итаку (см. рис. 7).
Существуют простые повествовательные формы, например сказки, где есть только фабула, но нет сюжета. Примером может [64] служить «Красная Шапочка». Она начинается с того, как девочка выходит из дому и углубляется в лес, и заканчивается смертью Волка и возвращением девочки домой. Другим примером простой формы может служить лимерик Эдварда Лира:
Каждый вечер старушка в Перу
Мужу плюшки пекла на пару;
Но однажды, того,
Испекла и его -
Невезучий старик из Перу!
Попробуем пересказать эту историю в том виде, в каком она могла бы появиться на страницах «Нью-Йорк тайме»: «Лима, 17 марта. Вчера Альваро Гонсалес Баррето (41 год, двое детей, счетовод Химического банка Перу) был непредумышленно запечен в пароварке супругой, Лолитой Санчес де Мединачели…» Почему история не так хороша, как у Лира? Потому что Лир рассказывает историю, но ее содержание составляет фабула. Таким образом, содержание имеет форму, оно организовано, и это простейшая организация, которую Лир не осложняет сюжетом. Вместо этого он выражает форму нарративного содержания через форму выражения, заключающуюся в определенном [65] ритмическом рисунке и системе рифмовки, характерных для лимерика. Фабула сообщается нам посредством определенного нарративного дискурса (см. рис. 8) [7]7
По вопросу о различиях между фабулой, сюжетом и дискурсом я особенно много почерпнул у следующих авторов: Chatman, Story and Discourse; Segre, Structure and Time; Idem. Introduction to the Analysis of the Literary Text; Prince Gerald. Narratology: The Form and Functioning of Narrative. Berlin: Mouton, 1982; Bal Mieke. Narratology: Introduction to the Theory of Narrative. Toronto: University of Toronto Press, 1985.
[Закрыть].
Можно отметить, что фабула и сюжет не являются исключительно языковыми функциями, но структурами, которые почти всегда поддаются переводу в другие семантические системы. Так, я могу передать фабулу «Одиссеи», сохраняя ту же сюжетную организацию, посредством языкового парафраза – что я только что и проделал, – равно как и фильма, и комикса, поскольку в обеих этих знаковых системах есть средства передачи ретроспекции. С другой стороны, слова, которыми Гомер рассказывает свою историю, являются частью гомеровского текста, и их очень трудно перефразировать или передать через зрительные образы.
[66] Литературный текст может, в теории, не иметь сюжета, но в нем обязательно должны присутствовать фабула и нарративная структура. Даже история Красной Шапочки известна каждому в нескольких дискурсах – братьев Гримм, Перро, мамином. Дискурс является частью стратегии образцового автора. Слово, косвенно передающее отношение Лира к старику из Перу, – «невезучий» – это элемент, относящийся к дискурсу, а не к фабуле. Это дискурс, а не фабула диктует образцовому читателю, что он должен огорчаться из-за стариковой участи. Сама форма лимерика настраивает на абсурд, комизм, и, избрав эту форму, Лир приглашает нас посмеяться над историей, которая, возможно, вызвала бы у нас слезы, предстань она в изложении «Нью-Йорк тайме».








