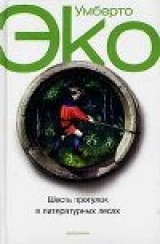
Текст книги "Шесть прогулок в лесах"
Автор книги: Умберто Эко
Жанр:
Искусство и Дизайн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 10 страниц)
Входим в ЛЕС

Умберто Эко
Шесть прогулок в литературных лесах
Six Walks in the Fictional Woods
Авторский сборник
Издательство: Симпозиум, 2002 г.
Твердый переплет, 288 стр.
ISBN 5-89091-211-9
У.Эко
Шесть прогулок в литературных лесах
Эта книга – шесть лекций, прочитанных У.Эко в Гарвардском университете в 1994 году. Приводится по изданию: У.Эко. Шесть прогулок в литературных лесах. СПб, 2002. Перевод с английского А.Глебовской. В квадратных скобках указаны страницы по этому изданию. Примечания авторские, но здесь приводятся не все, а только те, в которых есть суждения У.Эко. Рисунки, на которые ссылается автор, см. в конце документа.
Оглавление:
Входим в лес
Леса Луази
Медлим в лесу
Вероятные леса
Удивительные приключения улицы Сервадони
Вымышленные протоколы
Приложение. Рисунки, приводимые У.Эко.
I
ВХОДИМ В ЛЕС
[5] В самом начале я хотел бы вспомнить Итало Кальвино, которого восемь лет назад тоже пригласили прочесть шесть Нортоновских лекций, но он успел подготовить только пять из них до своей кончины. Я вспоминаю его сейчас не только потому, что он был моим другом, но и потому, что он написал «Если однажды зимней ночью путник» – роман, где речь идет о роли читателя в повествовании, а мои лекции в значительной степени будут посвящены как раз этому предмету.
В том же году, когда книга Кальвино вышла в Италии, была опубликована и одна из моих книг, «Lector in fabula», которая лишь отчасти совпадает со своим англоязычным вариантом, «Роль читателя». Английское и итальянское названия этой работы отличаются потому, что если итальянское [6] (вернее, латинское) заглавие переводить дословно, получится «Читатель в сказке» – что бессмысленно. Итальянское выражение «lupus in fabula» можно перевести как «легок на помине» – его употребляют, когда внезапно появляется человек, о котором только что шла речь. Однако вместо фигурирующего в итальянской идиоме волка (lupus) – персонажа всех фольклорных сказок – я подставляю читателя. Собственно, волка во многих случаях может и не быть вовсе – как мы скоро убедимся, на его месте часто оказывается людоед. Читатель же в повествовании есть всегда, при этом он является важнейшей составляющей не только процесса повествования, но и самого сюжета.
Сегодня всякий, кто станет сравнивать мою «Lector in fabula» с «Если однажды зимней ночью путник», наверняка решит, что моя книга стала откликом на роман Кальвино. Однако два эти произведения вышли в свет почти одновременно, и ни один из нас не знал, чем занят другой, хотя нас обоих уже давно интересовали одни и те же вопросы. Кальвино послал мне экземпляр своей книги, явно успев уже получить экземпляр [7] моей, потому что его дарственная надпись звучит так: «A Umberto: superior stabat lector, longeque inferior Italo Calvino». Это, понятно, переиначенная цитата из басни Федра о волке и ягненке («Superior stabat lupus, longueque inferior agnus», или «Волк стоял выше по течению, а ягненок ниже»), и Кальвино имеет в виду мою «Lector in fabula». Однако выражение «longeque inferior» можно перевести и как «ниже по течению», и как «ниже уровнем», «меньше по значимости» – следовательно, оно приобретает многозначность. Если воспринимать слово «lector» de dicto [1]1
о словах ( лат.).
[Закрыть], как отсылку к названию моей книги, выходит, Кальвино либо не без иронии скромничает, либо гордо отождествляет себя с положительным персонажем, ягненком, оставляя теоретику роль злого и страшного Серого Волка. Если же, с другой стороны, воспринимать слово «lector» de re [2]2
овещах (лат.).
[Закрыть], в значении «читатель», получается, что Кальвино затрагивает важнейшую теоретическую проблему поэтики и выводит на первый план фигуру читателя.
[8] Я же хочу на какое-то время вывести на первый план фигуру Кальвино, поэтому возьму за отправную точку вторую из «Шести памяток для следующего тысячелетия»(его Нортоновских лекций), ту, что посвящена быстроте в литературе; в ней он рассматривает пятьдесят седьмую сказку из своей антологии «Итальянские народные сказки».
Один король занедужил, и врачи сказали ему: «Ваше величество, чтобы поправиться, вам надо добыть перо из хвоста людоеда. Но сделать это непросто, потому что людоед съедает всякого, кто к нему приблизится».
Король передал эти слова всем своим подданным, но ни один из них не вызвался пойти к людоеду. Тогда король обратился к самому преданному и храброму из своих слуг, и тот сказал: «Хорошо, я пойду».
Слуге этому указали путь и сказали: «На вершине горы будет семь пещер, в одной из них и живет людоед».
Кальвино отмечает, что «ни слова не сказано о том, что за недуг поразил короля, с какой такой стати у людоедов растут перья и как выглядели эти самые пещеры», и восхищается динамичностью повествования, хотя и добавляет, что «апология быстроты отнюдь не отрицает прелестей замедления».
[9] Замедлению, о котором Кальвино не написал, я посвящу свою третью лекцию. Сейчас же отметим, что любое повествование о вымышленных событиях неизбежно и фатально должно быть быстрым, потому что, создавая мир, заключающий в себе мириады событий и персонажей, невозможно рассказать об этом мире все до конца. Можно лишь дать общий очерк и затем попросить читателя заполнить многочисленные пробелы. В конце концов, всякий текст (как я уже писал) – это ленивый механизм, требующий, чтобы читатель выполнял часть работы за него. Текст, в котором излагалось бы все, что воспринимающему его человеку надлежит понять, обладал бы серьезным недостатком – он был бы бесконечен. Если я звоню и говорю: «Я поеду по шоссе и буду у тебя через час», никто же не ждет от меня разъяснений, что я поеду по шоссе на машине.
В «Месяц август. Какая жена? Знать не знаю» дивного юмориста Акилле Кампаниле мы находим следующий диалог:
Гедеон отчаянно замахал рукой, подзывая карету, стоявшую в конце улицы. Пожилой кучер кряхтя сполз на землю и со всей доступной ему [10] скоростью зашагал к нашим друзьям, чтобы осведомиться:
– Я могу быть вам полезен?
– Нет! – раздраженно воскликнул Гедеон. – Нам нужна карета!
– А-а, – разочарованно протянул кучер. – А я думал, вам нужен я.
Он вернулся к карете, вскарабкался на козлы и спросил у Гедеона, который тем временем разместился внутри рядом с Андреа:
– Куда едем?
– Не могу вам сказать, – ответствовал Гедеон, желавший сохранить цель поездки в тайне. Кучер, человек по натуре нелюбознательный, настаивать не стал. Несколько минут они просидели неподвижно, наслаждаясь видом.
Наконец, не в силах долее сдерживаться, Гедеон проговорился:
– В замок Фьоренцина!
Лошадь дернулась, а кучер возразил:
– Слишком поздно! Приедем-то только к ночи!
– Ваша правда, – пробормотал Гедеон. – Ладно, отложим до завтрашнего утра. Ждем вас в семь.
– С каретой? – уточнил кучер.
Гедеон поразмыслил несколько минут и наконец принял решение:
– Да, лучше с каретой.
Уже направляясь обратно к трактиру, он обернулся и крикнул кучеру:
– Эй! И с лошадью!
Да? – удивился тот. – Ну как скажете.
[11] Сцена эта вызывает смех, поскольку поначалу персонажи говорят меньше, чем необходимо, а потом им вдруг приходит в голову говорить (и выслушивать) больше, чем необходимо.
Иногда, пытаясь сказать слишком много, автор делается еще комичнее, чем его герой. В девятнадцатом веке в Италии очень популярна была писательница Каролина Инверницио, бередившая душу целому поколению пролетариата историями вроде «Поцелуя покойницы», «Мести сумасшедшей» и «Трупа-обвинителя». Писала Каролина Инверницио достаточно плохо. При этом не раз отмечали, что она имела мужество – или несчастье – ввести в литературу язык мелкого чиновничества новообразовавшегося Итальянского государства (к каковому чиновничеству принадлежал ее муж, заправлявший военной пекарней). Вот как начинает Каролина свой роман «Трактир, где совершаются убийства»:
Стоял прекрасный вечер, хотя и было холодно. Улицы Турина были освещены, точно дневным светом, сиявшей высоко в небе луной. На вокзальных часах было семь. Под длинным навесом слышался оглушительный шум, потому [12] что там встретились два скорых поезда. Один отбывал, другой – прибывал.
Не будем слишком строги к синьоре Инверницио. Она чувствовала нутром, что быстрота – великое достоинство повествования, однако не сумела бы, как сумел Кафка (в «Превращении»), начать словами: «Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое». Ее читатели немедленно захотели бы знать, почему Грегор Замза превратился в насекомое и что он такое съел накануне. Между прочим, Альфред Казин пишет, что однажды Томас Манн дал один из романов Кафки Эйнштейну, и тот, возвращая книгу, сказал: «Я ее не осилил: человеческий ум не настолько сложен».
Эйнштейна, по всей видимости, не устраивало то, что повествование развивается слишком медленно (впрочем, позднее я отдам дань искусству замедления). Читателю и впрямь не всегда удается справиться со скоростью движения текста. В «Чтении и восприятии» Роджер Шенк рассказывает нам такую историю:
[13] Джон любит Мэри, но она не хочет выходить за него замуж. В один прекрасный день дракон похищает Мэри из замка, Джон вскакивает на коня и убивает дракона. Мэри соглашается стать его женой, и они живут-поживают до скончания века.
Книга Шенка посвящена детскому восприятию текстов, поэтому он расспрашивает об этой истории трехлетнюю девочку:
В: Почему Джон убил дракона?
Р: Потому что дракон был злой.
В: А как это он был злой?
Р: Он его обижал.
В: Как он его обижал?
Р: Ну, наверное, дышал на него огнем.
В: Почему Мэри согласилась выйти замуж за Джона?
Р: Потому что она его очень любила, а он очень хотел на ней жениться…
В: А почему Мэри вдруг решила выйти за Джона, хотя вначале ей этого не хотелось?
Р: Это трудный вопрос.
В: Ну а как ты думаешь?
Р: Потому что сперва она просто не хотела, и все, а потом он ее все просил и все уговаривал, и тогда она решила на нем жениться, то есть выйти замуж.
Как видно, познания девочки о мире включают тот факт, что драконы выдувают пламя [14] из ноздрей, но не тот, что из благодарности или восхищения можно соединить судьбу с нелюбимым человеком. Рассказ может быть более или менее динамичным – вернее, более или менее эллиптичным, – но насколько именно – зависит от того, на какого читателя он рассчитан.
Поскольку я всегда пытаюсь объяснить, из каких таких дурацких соображений я выбрал то или иное заглавие для каждой моей книги, позвольте мне также объяснить название моих Нортоновских лекций. Лес – это метафора художественного текста; не только сказки, но и любого художественного текста. Существуют такие леса, как Дублин, в которых, вместо Красной Шапочки, можно встретить Молли Блум, и такие, как Касабланка, где можно встретить Ильзу Лунд или Рика Елейна.
У Борхеса (дух которого тоже безусловно присутствует в моих Нортоновских лекциях, – он, кстати, тоже читал их двадцать пять лет тому назад) лес называется садом расходящихся троп. Даже там, где лесная тропинка совсем не видна, каждый может проложить свою собственную, решая, справа или слева обойти то или иное дерево, [15] и делая очередной выбор у каждого встречного ствола.
В литературном тексте читателю постоянно приходится выбирать. Необходимость выбора присутствует даже на уровне отдельного предложения – по крайней мере когда там попадается переходный глагол. Всякий раз, когда рассказчик подходит к концу фразы, мы, читатели или слушатели, заключаем с ним пари (пусть и не сознавая этого): мы пытаемся предсказать его выбор или гадаем, какое он выберет продолжение (во всяком случае, если речь идет об интригующих предложениях, как, например: «Вчера ночью на приходском кладбище я увидел…»).
Иногда повествователь оставляет за нами право домыслить, каково будет продолжение истории. Возьмем, например, концовку «Повести о приключениях Артура Гордона Пима» По:
Мы мчимся прямо в обволакивающую мир белизну, перед нами разверзается бездна, будто приглашая нас в свои объятья. И в этот момент нам преграждает путь поднявшаяся из моря высокая, гораздо выше любого обитателя нашей планеты, человеческая фигура в саване. И кожа ее белее белого.
[16] Здесь голос рассказчика умолкает, поскольку автор хочет, чтобы мы провели остаток жизни, гадая, что было дальше; опасаясь, что мы недостаточно обуреваемы желанием узнать то, что нам никогда не раскроют, автор – не рассказчик – делает в конце приписку, что после исчезновения мистера Пима «несколько оставшихся глав, которые, очевидно, заключали повествование… безвозвратно утеряны». Из этого леса мы не выберемся никогда – как не выбрались, например, Жюль Берн, Чарльз Ромен Дэйк и Г. Ф. Лавкрафт, которые решили остаться там и попытаться закончить историю Пима. Но бывают случаи, когда автор из чистого садизма пытается показать нам, что мы не Стэнли, а Ливингстоны, и обречены заблудиться в лесу, раз за разом неправильно выбирая дорогу. Возьмем Лоренса Стерна, самое начало «Тристрама Шенди»:
Я бы желал, чтобы отец мой или мать, а то и оба они вместе – ведь обязанность эта лежала одинаково на них обоих, – поразмыслили над тем, что они делают, в то время, когда они меня зачинали. Если бы они должным образом подумали, сколь многое зависит от того, чем они тогда были заняты…
[17] Чем, интересно, могли супруги Шенди заниматься в этот деликатный момент? Чтобы дать читателю время на всевозможные предположения (включая самые неудобосказуемые), Стерн делает отступление на целый абзац (подтверждая, что Кальвино был прав, не принижая искусства медлить) и только после этого показывает, какая именно оплошность была допущена в изначальной сцене:
– Послушайте, дорогой, —произнесла моя мать, – вы не забыли завести часы ? – Господи Боже! —воскликнул отец в сердцах, стараясь в то же время приглушить свой голос, – бывало ли когда-нибудь с сотворения мира, чтобы женщина прерывала мужчину таким дурацким вопросом?
Как вы видите, отец думает о матери абсолютно то же самое, что читатель думает о Стерне. Бывало ли, чтобы автор, даже самый что ни на есть злокозненный, так морочил своих читателей?
Разумеется, уже после Стерна повествователи-авангардисты часто пытались не только сбить нас, читателей, с толку, но и вообще создать тип читателя, который рассчитывает, что книга даст ему полную свободу выбора. Однако наслаждаться этой свободой [18] можно только потому, что – в силу многовековой традиции, объединяющей повествовательные тексты от примитивных мифов до современных детективов, – читатели, как правило, согласны самостоятельно выбирать способы перемещения в повествовательном лесу, основываясь на убеждении, что одни способы разумнее других.
Я употребил слово «разумнее», которое заставляет предположить, что этот выбор основан на здравом смысле. Однако исходить из того, что литературный текст читают по законам здравого смысла, – заблуждение. Совсем не этого требуют от нас Стерн, По и даже, коли на то пошло, автор (если таковой когда-то существовал) «Красной Шапочки». Здравый смысл, собственно, заставил бы нас оспорить тот факт, что в лесах водятся говорящие волки. Что же я имею в виду, говоря, что в литературных лесах читатель должен разумно выбирать пути?
Пришло время ввести два понятия, о которых я уже говорил в другом месте, – понятия Образцового Читателя и Образцового Автора.
Образцовый читатель не равнозначен читателю эмпирическому. Эмпирический [19] читатель – это вы, я, любой человек, читающий текст. Эмпирические читатели прочитывают текст по-разному, и не существует закона, диктующего им, как именно читать, поэтому они зачастую используют текст как вместилище своих собственных эмоций, зародившихся вне текста или случайно текстом навеянных.
Если вам доводилось в сильном расстройстве смотреть кинокомедию, вы знаете, что наслаждаться ею в такой момент очень трудно. Более того, случись вам через много лет снова посмотреть тот же фильм, вы, возможно, опять не сможете смеяться, потому что каждый эпизод будет напоминанием о грусти, которую вы испытывали при первом просмотре. То есть, будучи эмпирическим зрителем, вы будете «прочитывать» фильм неправильно. Однако «неправильно» относительно чего? Относительно того типа зрителей, на который ориентировался режиссер, – зрителей, готовых улыбаться и следить за развитием сюжета, который лично их никак не затрагивает. Таких зрителей (или читателей книги) я и называю образцовыми – своего рода идеальный тип, в котором автор видит будущего соратника [20] и которого даже пытается создать. Если текст открывается словами «Давным-давно жили-были…», он тем самым дает сигнал, который позволяет мгновенно выбрать образцового читателя – ребенка или как минимум человека, готового поверить в вещи, не укладывающиеся в стандартные рамки здравого смысла.
Один мой друг детства, с которым мы не виделись много лет, написал мне после выхода моего второго романа, «Маятника Фуко»: «Дорогой Умберто, не помню, чтобы я рассказывал тебе грустную историю моих дяди и тети, но, по-моему, с твоей стороны было очень бестактно использовать ее в романе». Действительно, в моей книге есть несколько эпизодов, посвященных «дяде Карло» и «тете Катерине», родственникам главного героя, Якопо Бельбо, как верно и то, что у них имелись прообразы: я пересказал, с небольшими изменениями, историю, которую помню с детства, историю моих дяди и тети – у которых, однако, были другие имена. Я ответил своему другу, объяснив, что дядя Карло и тетя Катерина – это мои родственники, а не его и что, соответственно, авторское право на их [21] историю принадлежит мне; я до этого вообще не знал, что у него есть дядя и тетя. Мой друг извинился: он так погрузился в текст, что, как ему показалось, узнал некоторые эпизоды из жизни своих родных – что вполне возможно, потому что во время войны (а именно туда и простираются мои воспоминания) с разными дядями и тетями происходили похожие вещи.
Что же произошло с моим другом? Он отыскал в лесу нечто, что на самом деле находилось в его личной памяти. Это мое право – прогуливаясь по лесу, использовать каждое происшествие и каждое открытие, чтобы побольше узнать о жизни, о прошлом и будущем. Однако поскольку лес создан для всех, я не должен искать там факты и переживания, принадлежащие только мне. В противном случае (как я писал в двух последних книгах, «Пределы интерпретации» и «Интерпретация и сверхинтерпретация») я уже не интерпретирую текст, а используюего. Использовать текст для своих мечтаний отнюдь не запрещено, и мы все этим иногда занимаемся, однако мечтания – занятие не для посторонних глаз, а литературный лес – это не частный огород.
[22] В литературном лесу действуют определенные правила игры. Образцовый читатель их соблюдает по определению. Мой друг поставил свои запросы эмпирического читателя на место тех запросов, которых автор ожидает от читателя образцового.
Разумеется, в распоряжении автора есть определенные, характерные для каждого жанра сигналы, которыми он может воспользоваться, чтобы указать дорогу своему образцовому читателю; однако сигналы эти могут быть крайне расплывчаты. «Пиноккио» Карло Коллоди начинается так:
Давным-давно жил да был… «Король!» – воскликнут мои маленькие читатели. Нет, не угадали. Давным-давно жил да был кусок дерева.
Это очень многослойный зачин. Сначала Коллоди вроде бы сигнализирует, что сейчас начнется сказка. Как только читатели убедились, что это история для детей, на сцене, в качестве собеседников автора, появляются дети и, рассуждая как дети, знакомые с законами сказок, делают неверное предположение. Так, может, эта история все-таки не для детей? Чтобы оспорить это ложное предположение, автор снова [23] обращается к своим маленьким читателям, так что они могут продолжать читать историю, написанную как бы для них, с тем лишь уточнением, что сказка будет не про короля, а про куклу. И в итоге они не будут разочарованы. Однако этот зачин – еще и кивок в сторону взрослых. А может, эта сказка – и для них? И может, кивок означает, что они должны читать ее в другом свете, однако в то же время притвориться детьми, чтобы уяснить аллегорический смысл повествования? Этого зачина было достаточно, чтобы породить целую кучу психоаналитических, антропологических и сатирических прочтений «Пиноккио», причем не всегда лишенных смысла. Возможно, Коллоди специально устроил двойную игру и подлинное очарование этой большой маленькой книги вытекает именно из этого предположения.
Кто определяет правила игры и очерчивает ее пределы? Другими словами – кто создает образцового читателя? «Автор», – немедленно ответят мои маленькие слушатели.
Однако, с таким трудом обозначив различие между образцовым и эмпирическим читателем, должны ли мы рассматривать автора как эмпирическое лицо, которое [24] пишет книгу и решает, каких образцовых читателей он создаст, из соображений, которыми нельзя делиться прилюдно и которые известны только его или ее психоаналитику? Хочу сразу вам сказать, что меня мало заботит эмпирический автор литературного текста (да, впрочем, и всякого текста). Я знаю, что нанесу глубокое оскорбление многим моим слушателям, которые, возможно, проводят большую часть времени за чтением жизнеописаний Джейн Остин или Пруста, Достоевского или Сэлинджера, и я прекрасно понимаю, как приятно и как интересно заглянуть в личную жизнь реально существовавших людей, которые дороги нам, как близкие друзья. Когда я был молодым и горячим ученым, мне было очень утешительно и поучительно узнать, что Кант создал свой философский шедевр в почтенном возрасте пятидесяти семи лет; с другой стороны, я всегда испытываю жгучую ревность, когда вспоминаю, что Раймон Радиге написал «Дьявола во плоти» в двадцать.
Однако это знание не поможет нам решить, прав ли был Кант, когда увеличил число категорий с десяти до двенадцати, а также является ли «Дьявол во плоти» шедевром [25] (он оставался бы таковым, даже если бы Радиге написал его в пятьдесят семь). Возможный гермафродитизм Моны Лизы – интересный эстетический вопрос, тогда как сексуальные пристрастия Леонардо да Винчи, в рамках того, что касается моего «прочтения» этой картины, – лишь сплетни.
В последующих лекциях я буду часто обращаться к одному из величайших художественных текстов, «Сильвии» Жерара де Нерваля. Я прочел ее в двадцать лет и с тех пор продолжаю перечитывать. В молодости я написал по ней очень плохую работу, а с 1976 года веду по ней семинары в Болонском университете; результатом этого стали три докторские диссертации и специальный выпуск журнала «VS» в 1982 году. В 1984 году я читал лекции о «Сильвии» студентам последнего курса Колумбийского университета; по ней было написано несколько очень интересных курсовых работ. Я успел изучить каждую запятую и каждый потайной рычажок этой повести. Сорок лет перечитывания одного и того же произведения показали мне, какие глупцы те, кто утверждает, что препарирование и дотошный анализ текста убивают его магию. Хотя [26] я знаю «Сильвию» во всех ее анатомических подробностях – возможно, потому,что я знаю ее так хорошо, – всякий раз, снимая ее с полки, я заново влюбляюсь в нее, словно читаю впервые.
Вот начало «Сильвии» и два возможных его перевода:
Je sortais d'un theatre ou tous les soirs je paraissais aux avant-scenes en grande tenue de soupirant…
1. Я выходил из театра, где проводил каждый вечер в полном облачении воздыхателя.
2. Я выходил из театра, где привык проводить каждый вечер в ложе у авансцены в роли пылкого поклонника.
Переводчик волен выбирать между разными способами передачи французского несовершенного времени. Это очень интересное время, поскольку оно передает одновременно и многократность, и длительность действия. Длительность показывает, что нечто происходило в прошлом, но точное время не указано, то есть начало и конец действия не обозначены. Многократность подразумевает, что действие повторялось много раз. Однако никогда нельзя точно сказать, когда это время передает [27] многократность, когда длительность, а когда и то и другое. В зачине «Сильвии» «sortais» (выходил), например, – длящееся действие, поскольку на то, чтобы выйти из театра, требуется некоторое время. Однако второй глагол в несовершенном времени, «paraissais» (проводил время), является одновременно и длительным, и многократным. Из текста явствует, что герой ходил в театр каждый вечер, однако несовершенное время указывает на этот факт и без дополнительных разъяснений. Именно многозначность этого времени делает его таким удобным для пересказа снов или кошмаров. Его же употребляют в сказках: «Давным-давно жили-были…» по-итальянски – «C'era una volta». «Una volta» буквально значит «однажды», однако несовершенное время показывает, что это «однажды» было неизвестно когда, возможно, повторяясь многократно.
В первом переводе на многократность действия, обозначенного глаголом «paraissais», указывает только обстоятельство «каждый вечер», во втором же переводе она передана глаголом «привык». Речь здесь идет не просто о ряде тривиальных совпадений: одна из главных прелестей «Сильвии» [28] проистекает из продуманного чередования несовершенного и простого прошедшего, причем несовершенное время создает в повествовании атмосферу сна, точно мы смотрим на что-то сквозь полуприкрытые веки.
Я еще вернусь к несовершенному времени у Нерваля в следующей лекции, и мы скоро поймем, насколько важно это время для нашего разговора об авторе и его голосе. Сейчас же давайте обратимся к местоимению «Я», с которого начинается повествование. Книги, написанные от первого лица, иногда заставляют наивного читателя поверить, что «Я» в тексте – это автор. Что, конечно, не так; это повествователь, голос, который ведет повествование. П. Г. Вудхаус написал от первого лица мемуары собаки – образцовый пример того, что голос повествователя это не всегда голос автора.
Применительно к «Сильвии» речь идет о трех лицах. Первое – господин, который родился в 1808 году и покончил с собой в 1855-м, – между прочим, его даже не звали Жераром де Нервалем; его настоящее имя Жерар Лабрюни. По рекомендации путеводителя «Мишлен» многие туристы по-прежнему разыскивают в Париже улицу Старого [29] Фонаря, где он повесился. Некоторые из них так и не постигли красоты «Сильвии».
Второе лицо – это человек, говорящий о себе «я» в повести. Это не Жерар Лабрюни. Все, что мы о нем знаем, – это то, что он рассказывает нам эту историю и в финале не кончает с собой, а завершает рассказ меланхолической тирадой: «Иллюзии лопаются, точно кожура на зрелом плоде, а плод – это опытность…»
Мы с моими студентами решили назвать его Je-rard, но поскольку на других языках каламбур этот непередаваем, назовем его просто рассказчиком. Этот рассказчик – не господин Лабрюни, по той же причине, по которой человек, открывающий «Путешествия Гулливера» словами: «Я уроженец Ноттингемпшира, где у моего отца было небольшое поместье. Когда мне исполнилось четырнадцать лет, отец послал меня в колледж Иманьюела в Кембридже», – не Джонатан Свифт, который учился в Тринити-колледже в Дублине. Образцовому читателю предлагается скорбеть над утраченными иллюзиями рассказчика – не господина Лабрюни.
[30] И наконец, есть третье лицо, которое обычно очень трудно идентифицировать и которое я, для симметрии с образцовым читателем, назову образцовым автором. Лабрюни мог оказаться плагиатором, и «Сильвия» могла быть написана дедушкой Фернанду Песоа, но образцовым автором ее остается анонимный «голос», который начинает свой рассказ словами: «Я выходил из театра…» и завершает фразой Сильвии: «Бедная Адриенна! Она умерла в монастыре Сен-С. в тысяча восемьсот тридцать втором году». Больше мы о нем ничего не знаем – вернее, знаем только то, что говорит этот голос между первой и четырнадцатой главой. Финальная глава названа «Последние страницы»: после нее остается только литературный лес, и наше право – войти и углубиться в него. Приняв это правило игры, мы можем даже позволить себе вольность и дать этому голосу имя, псевдоним. Мне, с вашего позволения, кажется, что я подыскал очень благозвучное имя: Нерваль. Нерваль – не Лабрюни и не рассказчик. Нерваль – не «он», так же как Джордж Элиот – не «она» (в отличие от Мэри Анн Эванс). Нерваль – это «оно» (к сожалению, я не [31] могу этого выразить на родном языке, правила итальянской грамматики не предусматривают среднего рода).
Можно сказать, что это «оно» – не вполне очевидное в начале повествования, обозначенное только несколькими легкими штрихами – к концу чтения окажется тем, что в любой эстетической теории называется «стилем». Да, разумеется, в конечном итоге образцового автора можно поименовать стилем, и стиль этот будет настолько явственен и узнаваем, что мы сразу поймем, что это тот же самый голос начинает повесть «Аврелия» словами: «Мечта – это вторая жизнь».
Однако термин «стиль» и слишком широк, и слишком узок. Он заставляет нас предположить, что образцовый автор, говоря словами Стивена Дедала, замкнут в своем совершенстве, «как Бог-творец, остается внутри, или позади, или поверх, или вне своего создания, невидимый, утончившийся до небытия, равнодушно подпиливающий себе ногти». С другой стороны, образцовый автор – это голос, обращающийся к нам с приязнью (или надменностью, или лукавством), который хочет видеть нас рядом [32] с собой. Этот голос проявляется как совокупность художественных приемов, как инструкция, расписанная по пунктам, которой мы должны следовать, если хотим вести себя как образцовые читатели.
В бесконечном ряду работ по нарративной теории и эстетике восприятия, в критике, трактующей роль читателя, выводятся всевозможные лица, именуемые Идеальными Читателями, Подразумеваемыми Читателями, Виртуальными Читателями, Метачитателями и так далее, – причем каждый из них по идее должен снабжаться двойником – Идеальным, Подразумеваемым или Виртуальным Автором [3]3
В этом вопросе я особенно обязан следующим авторам: Booth Wayne. The Rhetoric of Fiction. Chicago: University of Chicago Press, 1961; Barthes Roland. Introduction a 1'analyse structurale des recits //Communications 8, 1966; Todorov Tsvetan. Les Categories du reck litteraire //Communications 8, 1966; Hirsch E. D. Jr. Validity in Interpretation. New Haven: Yale University Press, 1967; Riffaterre Michael. Essais de stylistique structurale. Paris: Flammarion, 1971; Idem. The Semiotics of Poetry. Bloomington: Indiana University Press, 1978; Genette Gerard. Figures III. Paris: Seuil, 1972; Iser Wolfgang. The Implied Reader. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1974; Foucault Michel. What Is an Author? //Bouchard Donald E., ed. Language, Counter-Memory, Practice: Selected Essays and Interviews. Ithaca: Cornell University Press, 1977; Corti Maria. An Introduction to Literary Semiotics. Bloomington: Indiana University Press, 1978; Chatman Seymour. Story and Discourse. Ithaca: Cornell University Press, 1978; Fillmore Charles. Ideal Readers and Real Readers (mimeo, 1981); Pugliatti Paola. Lo sguardo nel raconto. Bologna: Zanichelli, 1985; Scholes Robert. Protocols of Reading. New Haven: Yale University Press, 1989.
[Закрыть]. Термины эти не всегда синонимичны.
Мой Образцовый Читатель, например, очень похож на Подразумеваемого Читателя Вольфганга Изера. Однако, согласно Изеру, читатель
заставляет текст выявить потенциальную множественность взаимосвязей. Эти взаимосвязи суть продукт обработки текстового сырья читательским разумом, но не являются текстом как таковым, поскольку он содержит всего лишь предложения, утверждения, информацию и пр. (…) Разумеется, это взаимодействие не происходит в самом тексте и возникает [33] только в процессе чтения… В ходе этого процесса выявляется то, что не выявлено в тексте, однако представляет собой его «интенцию».
Подобный процесс больше похож на тот, что я очертил в 1962 году в своей книге «Открытое произведение». Но образцовый читатель, которого я вывел на сцену в «Lector in fabula», является, напротив, последовательностью текстуальных инструкций, представленных в линейном развитии текста именно как последовательность предложений или иных сигналов. Как отмечает Паола Пульятти:








