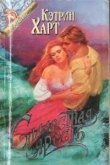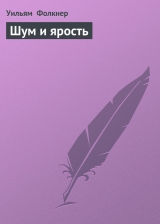
Текст книги "Шум и ярость"
Автор книги: Уильям Катберт Фолкнер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 18 страниц)
«Неужели это мама подучила Джейсона шпионить за тобой Я бы ни за»
«Женщины умеют лишь играть на чужих понятиях о чести Она ведь из любви к Кэдди» Даже расхворавшись, не уходила к себе наверх, чтобы отец не трунил над дядей Мори при Джейсоне. Отец шутя сказал, что дядя Мори неважный знаток античности и потому избегает риска личной встречи с бессмертным слепым сорванцом.47 Только ему следовало бы избрать в почтальоны Джейсона, ибо Джейсон способен допустить оплошность лишь того же рода, что и сам дядя Мори допустил бы, но отнюдь не чреватую глазоподбитием. И верно, мальчишка Паттерсонов был младше и щуплей Джейсона. Они клеили змеев и продавали по пяти центов штука, пока не рассорились из-за дележа доходов. Тогда Джейсон подыскал себе нового партнера, еще замухрышистей, надо думать, потому что Ти-Пи сказал, что Джейсон опять казначеем. Но, говорит отец, зачем дяде Мори работать? Если он, отец то бишь, может содержать полдюжины негров, у которых только и дел, что сидеть, сунув ноги в духовку, то уж, конечно, он может время от времени предоставлять дяде Мори стол и кров и деньжат ссужать малую толику – зато ведь дядя Мори поддерживает в нем и раздувает огонь веры в небесное происхождение нашей породы; и тут мама, бывало, заплачет и скажет, что отец ставит ее род ниже своего, что он насмехается над дядей Мори и нас тому же учит Не понимала она, что отец тому единственно учил нас, что люди всего-навсего труха, куклы, набитые опилками, сметенными с мусорных куч, где все прежние куклы валяются и опилки текут из ничьей раны в ничьем боку не за меня неумершего.48 В детстве я воображал себе смерть пожилым господином вроде моего деда, другом, что ли, его близким и особым – вот как письменный стол дедушкин был для нас особым, мы к нему робели и притронуться и в комнате, где этот стол стоял, даже не говорили громко; я всегда представлял себе так, что они вдвоем где-то вместе все время – на каком-то холме, за можжевельником – и ждут, чтобы к ним подсел старый полковник Сарторис, а он где-то еще повыше, ведет за чем-то удаленным наблюдение, и вот они ждут, когда полковник кончит наблюдать и сойдет к ним. Дедушка в своей генеральской форме, и голоса их все время бормочут за деревьями – ведут беседу, и дедушка все время прав
Вот и три четверти бьет Первая нота раздалась размеренная, безмятежная и, отзвучав спокойно и бесповоротно, освободила медленную тишину для следующей; в чем все и дело, если б люди так могли менять друг друга навсегда, преображаться, взвихрясь пламенем на миг, и чистыми затем быть уносимы сквозь прохладный вечный мрак, а не лежать у себя в комнате, стараясь забыть про гамак, пока, наконец, к можжевельнику не прилип этот яркий мертвый запах духов, которого так не терпит Бенджи. Стоило мне представить тот виргинский можжевельник, и казалось – слышу шепоты и всплески, чую толчки горячей крови в одичалом неукрытом теле, вижу – на красном фоне век – стадо на волю пущенных свиней, спарено кидающихся в море.49 А отец: Нам должно лишь краткое время прободрствовать пока неправедность творится50 – отнюдь не вечность А я: И краткого не нужно если обладаешь мужеством Он: Ты считаешь это мужеством Я: Да сэр считаю а вы нет Он: Каждый человек волен в оценке своих качеств То что ты считаешь такой поступок мужественным важнее самого поступка В противном случае твое намерение несерьезно Я: Вы не верите что я серьезно Он: Думаю, что чересчур даже серьезно и мне можно не тревожиться иначе ты не чувствовал бы надобности в этой выдумке насчет кровосмешения Я: Я не лгал я не лгал Он: Ты хотел акт естественной человеческой глупости51 возвысить до грозного ужаса и очистить затем правдой Я: Я чтоб отгородить ее от грохочущего мира чтоб ему иного выбора не было как исторгнуть нас обоих из себя и тогда былое бы звучало так, как если б никогда его и не было Он: И ты склонял ее к этому Я: Нет я боялся Я боялся она согласится и тогда б оно не помогло Но если вам отцу скажу то оно совершится тем самым и упразднит все что у нее с другими было и мир прочь угрохочет Он: Вернемся к другому твоему намерению Ты не солгал и в этом но ты еще не разбираешься в себе в той части всеобщего закона что правит сцеплением событий и причин и чья тень на челе, у каждого не исключая Бенджи Тобою не взята в расчет конечность всего на свете Тебе рисуется апофеоз в котором нынешнее – временное – состояние твоего духа будет симметризировано и вознесено над телесным, но сохранит навеки в себе ощущенье и себя и тела и ты не вовсе будешь устранен собственно даже не мертв Я: Временное Он: Тебе невыносима мысль что когда-нибудь твоя боль притупится Мы с тобой подходим к самой сути Ты кажется смотришь на смерть как на некую встряску которая так сказать сединой тебе выбелит голову за ночь но в остальном не коснется твоего облика Не в таком настроении кончают У игры свои законы Странней всего что человек само уже зачатие которого случайность и чей каждый новый вдох подобен очередному пробросу костей насвинцованных шулером что человек никак не хочет примириться с неизбежностью финального кона а прибегает к насилию ко всяческим уловкам вплоть до мелкой подтасовки неспособной и ребенка обмануть – пока однажды в крайнем отвращении на одну слепую карту бросит все Не в первом яростном приступе отчаяния горя угрызений кончают с собой а лишь когда осознают что даже и отчаяние горе угрызения твои не столь уж важны для сумрачного Игрока Я: Временное Он: Нелегко осознать что любовь ли горесть лишь бумажки боны наобум приобретенные и срок им истечет хочешь не хочешь и их аннулируют без всякого предупреждения заменят тебе другим каким-нибудь наличным выпуском божьего займа Нет ты не сделаешь этого ты прежде придешь к осознанью что даже и она быть может не вовсе достойна отчаяния Я: Никогда я не приду к такому Никто не знает того что я знаю Он: Возвращайся-ка ты лучше теперь в свой Кеймбридж а не то на месяц съезди в Мэн Денег хватит если экономно Тебе будет на пользу Копеечные развлечения врачуют успешней Христа Я: Допустим что я уже пробыл там неделю или месяц и понял то что по-вашему я там пойму Он: Тогда ты вспомнишь что мать с момента твоего рождения лелеяла мечту что ты кончишь Гарвардский а разрушать надежды женщин это не покомпсоновски А я: Временное Так будет лучше для меня и всех нас А он: Каждый человек волен в самооценке но да не берется он предписывать другим что хорошо для них что плохо А я: Временное И он: Нет слов грустней чем был была было Кроме них ничего в мире И отчаяние временно и само время лишь в прошедшем
Последняя раздалась нота. Отзвенела наконец, и снова темнота затихла. Я вошел в нашу общую комнату, включил свет, надел жилетку. Бензином пахнет уже слабо, еле-еле, и пятно незаметно в зеркале. Глаз, во всяком случае, куда заметней. Надел пиджак. Письмо Шриву хрустнуло в кармане, я достал его, проверил адрес, переложил в боковой. Затем отнес часы к Шриву в спальню, спрятал ему в столик, пошел в свою комнату, достал свежий носовой платок, вернулся к дверям, поднял руку к выключателю. Вспомнил, что зубы не чищены, и пришлось снова лезть в чемоданчик. Вынул щетку, взял у Шрива из тюбика пасты, пошел в ванную, зубы вычистил. Выжал щетку посуше, вложил обратно в чемодан, закрыл, опять пошел к дверям. Прежде чем выключить свет, огляделся вокруг, не забыл ли чего. Так и есть: забыл шляпу. Мне идти мимо почты, и непременно кого-нибудь встречу из наших, и подумают, что я правоверный гарвардец и корчу из себя старшекурсника. Шляпа нечищена тоже, но у Шрива есть щелка, и чемоданчик не надо больше открывать.
6 апреля 1928 года
По-моему так: шлюхой родилась – шлюхой и подохнет. Я говорю:
– Если вы за ней не знаете чего похуже, чем пропуски уроков, то это еще ваше счастье. Ей бы в данную минуту, – говорю, – в кухне быть и завтрак стряпать, а не у себя там наверху краситься-мазаться и ждать, пока ее обслужат шестеро нигеров, которые сами со стула не могут подняться, пока не набьют брюхо мясом и булками для равновесия.
А матушка говорит:
– Но чтобы дирекция и учителя имели повод думать, будто она у меня совсем отбилась от рук, будто я не могу…
– А что, – говорю, – можете разве? Вы и не пробовали никогда ее в руках держать, – говорю. – А теперь, в семнадцать лет, хотите начинать воспитывать?
Помолчала, призадумалась.
– Но чтобы в школе… Я не знала даже, что у нее есть дневник. Она мне осенью сказала, что в этом году их отменили. А нынче вдруг учитель Джанкин мне звонит по телефону и предупреждает, что если она совершит еще один прогул, то ее исключат. Как это ей удается убегать с уроков? И куда? Ты весь день в городе; ты непременно бы увидел, если бы она гуляла на улице.
– Вот именно, – говорю. – Если бы она гуляла на улице. Не думаю, чтоб она убегала с уроков для невинных прогулочек по тротуарам.
– Что ты хочешь сказать этим? – спрашивает мамаша.
– Ничего я не хочу сказать, – говорю. – Я просто ответил на ваш вопрос.
Тут мамаша опять заплакала – мол, ее собственная плоть и кровь восстает ей на пагубу.
– Вы же сами у меня спросили, – говорю.
– Речь не о тебе, – говорит мамаша. – Из всех из них ты единственный, кто мне не в позор и огорчение.
– Само собой, – говорю. – Мне вас некогда было огорчать. Некогда было учиться в Гарвардском, как Квентин, или сводить себя пьянством в могилу, как отец. Мне работать надо было. Но, конечно, если вы желаете, чтобы я за ней следом ходил и надзирал, то я брошу магазин и наймусь на ночную работу. Тогда я смогу следить за ней днем, а уж в ночную смену вы Бена приспособьте.
– Я знаю, что я тебе только в тягость, – говорит она и плачет в подушечку.
– Это для меня не ново, – говорю. – Вы твердите мне это уже тридцать лет. Даже Бен уже, должно быть, это усвоил. Так хотите, чтобы я поговорил с ней об ее поведении?
– А ты уверен, что это принесет пользу? – говорит матушка.
– Ни малейшей, если чуть я начну, как вы уже сошли к нам и вмешиваетесь, – говорю. – Если хотите, чтоб я приструнил ее, то так и скажите, а сама в сторонку. А то стоит мне взяться за нее, как вы каждый раз суетесь, и она только смеется над нами обоими.
– Помни, она тебе родная плоть и кровь, – говорит матушка.
– Само собой, – говорю. – Только эту плоть умертвить бы немножко. И чуточку бы крови пустить, была б моя воля. Раз ведешь себя как негритянка, то и обращение с тобой как с негритянкой, независимо кто ты есть.
– Я боюсь, что ты погорячишься, – говорит матушка.
– Зато уж вы, – говорю, – со своими методами многого добились. Так желаете, чтобы я занялся ею? Да или нет? Мне на службу пора.
– Ох, знаю я, что жизнь твоя тратится в каторжном труде на всех нас, – говорит матушка. – Ты знаешь сам, что, будь моя воля, у тебя была бы сейчас своя собственная контора и часы занятий в ней, приличествующие Бэскому. Ты ведь Бэском, не Компсон, несмотря на фамилию. Я знаю, что если бы отец твой мог предвидеть…
– Что ж, – говорю, – отец тоже имел право давать иногда маху, как всякий смертный, как простой даже Смит или Джонс.
Она снова заплакала.
– Каково мне слышать, что ты не добром поминаешь своего покойного отца, – говорит.
– Ладно, – говорю, – ладно. Пускай по-вашему. Но поскольку конторы у меня нет, то мне сейчас надо на службу, на ту, какая у меня есть. Так хотите, чтобы я поговорил с ней?
– Я боюсь, что ты погорячишься, – говорит матушка.
– Ладно, – говорю. – Тогда не буду.
– Но надо же что-то делать, – говорит матушка. – Ведь иначе люди будут думать, что я сама ей разрешаю прогуливать уроки и бегать по улицам или что я бессильна воспретить ей… О муж мой, муж мой, – говорит. – Как мог ты. Как мог ты покинуть меня в моих тяготах.
– Ну-ну, – говорю. – Вы этак совсем расхвораетесь. Вы либо на день ее тоже бы запирали, либо препоручили б ее мне и успокоились на том бы.
– Родная плоть и кровь моя, – говорит матушка и плачет.
– Ладно, – говорю. – Я займусь ею. Кончайте же плакать.
– Старайся не горячиться, – говорит она. – Не забывай, что она еще ребенок.
– Постараюсь, – говорю. Вышел и дверь затворил.
– Джейсон, – мамаша за дверью. Я не отвечаю. Ухожу коридором. – Джейсон, – из-за двери снова. Я сошел вниз по лестнице. В столовой никого, слышу – Квентина в кухне. Пристает к Дилси, чтобы та ей налила еще кофе. Я вошел к ним.
– Ты что, в этом наряде в школу думаешь? – спрашиваю. – Или у вас сегодня нет занятий?
– Ну, хоть полчашечки, Дилси, – Квентина свое. – Ну, пожалуйста.
– Не дам, – говорит Дилси, – и не подумаю. В семнадцать лет девочке больше чем чашку нельзя, да и что бы мис Кэлайн сказала. Иди лучше оденься, а то Джейсон без тебя уедет в город. Хочешь опять опоздать.
– Не выйдет, – говорю. – Мы сейчас с этими опозданиями покончим.
Смотрит на меня, в руке чашка. Отвела с лица волосы, халатик сполз с плеча.
– Поставь-ка чашку и поди на минуту сюда, в столовую, – говорю ей.
– Это зачем? – говорит.
– Побыстрее, – говорю. – Поставь чашку в раковину и ступай сюда.
– Что вы еще затеяли, Джейсон? – говорит Дилси.
– Ты, видно, думаешь, что и надо мной возьмешь волю, как над бабушкой и всеми прочими, – говорю. – Но ты крепко ошибаешься. Говорят тебе, чашку поставь, даю десять секунд.
Перевела глаза с меня на Дилси.
– Засеки время, Дилси, – говорит. – Когда пройдет десять секунд, ты свистнешь. Ну, полчашечки, Дилси, пожа…
Я схватил ее за локоть. Выронила чашку. Чашка упала на пол, разбилась, она дернула руку, глядит на меня – я держу. Дилси поднялась со своего стула.
– Ох, Джейсон, – говорит.
– Пустите меня, – говорит Квентина, – не то дам пощечину.
– Вот как? – говорю. – Вот оно у нас как? – Взмахнула рукой. Поймал и эту руку, держу, как кошку бешеную. – Так вот оно как? – говорю. – Вот как оно, значит, у нас?
– Ох, Джейсон! – говорит Дилси. Из кухни потащил в столовую. Халатик распахнулся, чуть не голышом тащу чертовку. Дилси за нами ковыляет. Я повернулся и захлопнул дверь ногой у Дилси перед носом.
– Ты к нам не суйся, – говорю.
Квентина прислонилась к столу, халатик запахивает. Я смотрю на нее.
– Ну, – говорю, – теперь я хочу знать, как ты смеешь прогуливать, лгать бабушке, подделывать в дневнике ее подпись, до болезни ее доводить. Что все это значит?
Молчит. Застегивает на шее халатик, одергивает, глядит на меня. Еще не накрасилась, лицо блестит, как надраенное. Я подошел, схватил за руку.
– Что все это значит? – говорю.
– Не ваше чертово дело, – говорит. – Пустите.
Дилси открыла дверь.
– Ох, Джейсон, – говорит.
– А тебе сказано, не суйся, – говорю, даже не оглядываясь. – Я хочу знать, куда ты убегаешь с уроков, – говорю. – Если б на улицу, то я бы тебя увидел. И с кем ты убегаешь? Под кусточек, что ли, с которым-нибудь из пижончиков этих прилизанных? В лесочке с ним прячетесь, да?
– Вы – вы противный зануда! – говорит она. Как кошка рвется, но я держу ее. – Противный зануда поганый! – говорит.
– Я тебе покажу, – говорю. – Старую бабушку отпугнуть – это ты умеешь, но я покажу тебе, в чьих ты сейчас руках.
Одной рукой держу ее – перестала вырываться, смотрит на меня, глазищи широкие стали и черные.
– Что вы хотите со мной делать?
– Сейчас увидишь что. Вот только пояс сниму, – говорю и тяну с себя пояс. Тут Дилси хвать меня за руку.
– Джейсон, – говорит. – Ох, Джейсон! И не стыдно!
– Дилси, – Квентина ей, – Дилси.
– Да не дам я тебя ему. Не бойся, голубка. – Вцепилась мне в руку. Тут пояс вытянулся наконец. Я дернул руку, отпихнул Дилси прочь. Она прямо к столу отлетела. Настолько дряхлая, что еле на ногах стоит. Но это у нас так положено – надо же держать кого-то в кухне, чтоб дочиста выедал то, что молодые негры не умяли. Опять подковыляла, загораживает Квентину, за руки меня хватает.
– Нате, меня бейте, – говорит – если сердце не на месте, пока не ударили кого. Меня бейте.
– Думаешь, не ударю? – говорю.
– Я от вас любого неподобства ожидаю, – говорит.
Тут слышу: матушка на лестнице. Как же, усидит она, чтоб не вмешаться. Я выпустил руку Квентинину. Она к стенке отлетела, халатик запахивает.
– Ладно, – говорю. – Временно отложим. Но не думай, что тебе удастся надо мной взять волю. Я тебе не старая бабушка и тем более не полудохлая негритянка. Потаскушка ты сопливая, – говорю.
– Дилси, – говорит она. – Дилси, я хочу к маме.
Дилси подковыляла к ней.
– Не бойся, – говорит. – Он до тебя и пальцем не дотронется, покамест я здесь.
А матушка спускается по лестнице.
– Джейсон, – голос подает матушка. – Дилси.
– Не бойся, – говорит Дилси. – И дотронуться не пущу его. – И хотела погладить Квентину. А та – по руке ее.
– Уйди, чертова старуха, – говорит. И бегом к дверям.
– Дилси, – мамаша на лестнице зовет. Квентина мимо нее вверх взбегает. – Квентина, – матушка ей вслед. – Остановись, Квентина.
Та и ухом не ведет. Слышно – бежит уже наверху, потом по коридору. Потом дверь хлопнула.
Матушка постояла. Стала спускаться дальше.
– Дилси, – зовет.
– Слышу, слышу, – Дилси ей, – сейчас. А вы, Джейсон, идите выводите машину. Обождете ее, довезете до школы.
– Уж можешь быть спокойна, – говорю. – Доставлю и удостоверюсь, что не улизнула. Я взялся, я и доведу это дело до конца.
– Джейсон, – мамаша на лестнице.
– Идите же, Джейсон, – говорит Дилси, ковыляя ей навстречу. – Или хотите и ее разбудоражить? Иду, иду, мис Кэлайн.
Я пошел во двор. Слышно, как Дилси на лестнице:
– Ложитесь сейчас же обратно в постельку. Знаете ведь сами, что нельзя вставать, пока не отхворались! Идите ложитесь. А я ее отправлю сейчас в школу, чтоб не опоздала.
Я пошел в гараж к машине. А оттуда пришлось идти искать Ластера, обойти вокруг всего дома, пока не увидал их.
– Я как будто велел тебе укрепить там сзади запасное колесо, – говорю.
– У меня не было времени, – Ластер в ответ. – За ним некому больше глядеть, пока мэмми в кухне стряпает.
– Само собой, – говорю. – Кормлю тут полную кухню черномазых, чтобы ходили за ним, а в результате шину и ту некому сменить, кроме как мне самому.
– Мне не на кого было его оставить, – отвечает. Кстати и тот замычал слюняво.
– Убирайся с ним на задний двор, – говорю. – Какого ты тут дьявола торчишь с ним на виду у всех.
Прогнал их, пока он не развылся в полный голос. Хватит с меня и воскресений, когда на этом треклятом лугу полно людей, гоняют шарик чуть побольше нафталинного – чувствуется, что нет у них домашнего цирка и полдюжины негров кормить им не надо. А Бен знай бегает вдоль забора взад-вперед и ревет, чуть только завидит игрока; еще, того и гляди, станут взимать с нас плату за участие, и тогда придется мамаше с Дилси взять по костылю, а вместо мячей – пару круглых фаянсовых дверных ручек, и включиться в игру. Или же мне самому заняться гольфом – с фонарем ночью. Тогда, возможно, всех нас сообща отправят в Джексон. То-то праздник был бы у соседей по сему случаю.
Пошел в гараж опять. Колесо стоит, прислоненное к стене, но будь я проклят, если сам к нему притронусь. Я вывел машину, развернул. Квентина стоит ждет в аллее. Я говорю ей:
– Что учебников у тебя нет ни единого, это я знаю. Я хотел бы только, если можно, спросить, куда ты их девала. Натурально, я никакого права не имею спрашивать, – говорю. – Я всего-навсего тот простофиля, который выложил за них в сентябре одиннадцать долларов шестьдесят пять центов.
– За мои учебники платит мама, – она мне. – Ваших денег на меня не тратится ни цента. Я лучше с голоду умру.
– Да ну? – говорю. – Ты скажи бабушке – услышишь, что она тебе ответит. И насчет одежек – ты вроде не совсем еще голая ходишь, – говорю, – хотя под этой штукатуркой лицо у тебя – самая прикрытая часть тела.
– По-вашему, на это платье пошел хоть цент ваших или бабушкиных денег?
– А ты спроси бабушку, – говорю. – Спроси-ка, что со всеми предыдущими чеками сталось. Помнится, один она сожгла на твоих же глазах. – Она и не слушает, лицо всплошную замазано краской, а глаза жесткие, как у злющей собачонки.
– А знаете, что бы я сделала, если бы думала, что хоть один цент ваш или бабушкин потрачен был на это? – говорит она, кладя руку на платье.
– Что же бы ты сделала? – спрашиваю. – Бочку бы надела вместо платья?
– Я тут же сорвала бы его с себя и выкинула на улицу, – говорит. – Не верите?
– Как же, – говорю. – Ты уже не одно платье так выкинула.
– А вот смотрите, – говорит. Обеими руками схватилась за вырез у шеи и тянет, будто хочет разорвать.
– Порви только попробуй, – говорю, – и я тебя так исхлещу прямо здесь же, на улице, что запомнишь на всю жизнь.
– А вот смотрите, – говорит. И я вижу: она в самом деле хочет разорвать, сорвать его с себя. Пока машину остановил, схватил ее за руки – собралось уже больше десятка зевак. Меня до того досада взяла, даже как бы ослеп на минуту.
– Перестань, – говорю, – моментально, или ты у меня пожалеешь, что родилась на свет божий.
– Я и так жалею, – говорит. Перестала, но глаза у нее сделались какие-то – ну, думаю, попробуй только разревись сейчас на улице, в машине, тут же выпорю. Я тебя в бараний рог скручу. На счастье ее, сдержалась, я выпустил руки, поехали дальше. Удачно еще, что тут как раз переулок, и я свернул, чтобы не через площадь. У Бирда на пустыре уже балаган ставят. Эрл уже отдал мне те две контрамарки, что причитались нам за афиши в нашей витрине. Она сидит отвернувшись, губу кусает. – Я и так жалею, – говорит. – И зачем только я родилась…
– Я знаю по крайней мере еще одного человека, кому не все в этой истории понятно, – говорю. Остановил машину перед школой. Звонок уже дали, как раз последние ученики входят. – Хоть раз не опоздала, – говорю. – Сама пойдешь и пробудешь все уроки или мне отвести тебя и усадить за парту? – Вышла из машины, хлопнула дверцей. – И запомни мои слова, – говорю, – я с тобой не шучу. Пусть только еще раз услышу, что ты прячешься по закоулочкам с каким-нибудь пижоном.
На эти слова обернулась.
– Я ни от кого не прячусь, – говорит. – Все могут знать все, что я делаю.
– Все и знают, – говорю. – Каждому здешнему жителю известно, кто ты есть. Но я этого больше терпеть не намерен, слышишь ты? Лично мне плевать на твое поведение, – говорю. – Но в городе здесь у меня дом и служба, и я не потерплю, чтобы девушка из моей семьи вела себя как негритянская потаскуха. Ты меня слышишь?
– Мне все равно, – говорит – Пускай я плохая и буду в аду гореть. Чем с вами, так лучше в аду.
– Прогуляй еще один раз – и я тебе такое устрою, что и правда в ад запросишься, – говорю. Повернулась, побежала через двор. – Помни, еще только раз, – говорю. Даже не оглянулась.
Я завернул на почту, взял письма и поехал к себе в магазин. Поставил машину, вхожу – Эрл смотрит на меня. А я на него смотрю: давай, если желаешь, заводи речь насчет опоздания. Но он сказал только:
– Культиваторы прибыли. Поди помоги дядюшке Джобу поставить их на место.
Я вышел на задний двор, там старикашка Джоб снимает с них крепеж со скоростью примерно три болта в час.
– По такому, как ты, работяге моя кухня тоскует, – говорю. – У меня там кормятся все никудышные нигеры со всего города, тебя лишь не хватает.
– Я угождаю тому, кто мне платит по субботам, – говорит он. – А уж прочим угождать у меня не остается времени. – Навинтил гаечку. – Тут у нас на весь край один только и есть работяга – хлопковый долгоносик.52
– Да, счастье твое, что ты не долгоносик и не заинтересован кровно в этих культиваторах, – говорю. – А то бы ахнуть не успели, как ты бы уработался над ними насмерть.
– Что верно, то верно, – говорит. – Долгоносику туго приходится. В любую погоду он семь деньков в неделю вкалывает на этом адовом солнце. И нет у долгоносика крылечка, чтоб сидеть смотреть с него, как арбузы спеют, и суббота ему без значения.
– Будь я твоим хозяином, – говорю, – то и тебе бы суббота была без значения. А теперь давай-ка высвобождай их от тары и тащи в сарай.
От нее письмо я вскрыл первым и вынул чек. Жди от бабы аккуратности. На целых шесть дней задержала. А еще хотят нас уверить, что могут вести дело не хуже мужчин. Интересно, сколько бы продержался в бизнесе мужчина, который бы считал шестое апреля первым днем месяца. Когда матушке пришлют месячное извещение из банка, она уж обязательно приметит дату и захочет знать, почему я свое жалованье внес на счет только шестого числа. Такие вещи баба в расчет не берет.
«Мое письмо про праздничное платье для Квентины осталось без ответа. Неужели оно не получено? Нет ответа на оба последних моих письма к ней – хотя чек, что я вложила во второе, предъявлен к оплате вместе с вашим очередным. Не больна ли она? Сообщи мне немедленно, иначе я приеду и выясню сама. Ты ведь обещал давать мне знать, как только у нее будет нужда в чем-нибудь. Жду ответа до 10-го. Нет, лучше дай сейчас же телеграмму. Ты вскрываешь мои письма к ней. Я знаю это так же твердо, как если бы сама видела. Слышишь, телеграфируй мне сейчас же, что с ней, по следующему адресу».
Тут Эрл заорал Джобу, чтобы поторапливался, и я спрятал письма и пошел во двор – расшевелить немножко Нигера. Нет, нашему краю просто необходимы белые работники. Пусть бы эти черномазые лодыри годик-другой поголодали, тогда бы поняли, какая им сейчас малина, а не жизнь.
Вернулся со двора – десятый час. У нас сидит коммивояжер какой-то. До десяти еще осталось время, и я пригласил его пойти тут рядом выпить кока-колы. Разговор у нас зашел насчет видов на урожай.
– Толку мало, – говорю. – От хлопка прибыль одним биржевикам. Забьют фермеру мозги, давай, мол, урожаи подымай – это чтоб им вывалить на рынок по дешевке и оглоушить сосунков. А фермеру от этого единственная радость – шея красная да спина горбом. Потом землю кропит, растит хлопок, а думаете, он хоть ржавый цент выколотит сверх того, что на прожитье нужно? Если урожай хороший, – говорю, – так цены до того упадут, что хоть на кусту оставляй, а плохой – так и в очистку везти нечего. А для чего вся чертова музыка? Чтоб кучка нью-йоркских евреев – я не про лиц иудейского вероисповедания как таковых, я евреев знавал и примерных граждан. Вы сами, возможно, из них, – говорю.
– Нет, – отвечает – я американец.
– Я не в обиду сказал это, – говорю. – Я каждому отдаю должное, независимо от религии или чего другого. Я ничего не имею против евреев персонально, – говорю. – Я про породу ихнюю. Они ведь не производят ничего – вы согласны со мной? Едут в новые места следом за первыми поселенцами и продают им одежду.
– Вы старьевщиков-армян имеете в виду, – говорит он, – не правда ли? Первопоселенец не охотник до новой одежды.
– Я не в обиду, – говорю. – Вероисповедание я никому в упрек не ставлю.
– Да-да, – отвечает. – Но я американец. У нас в роду примесь французской крови, откуда у меня и этот нос. Я коренной американец.
– То же самое и я, – говорю. – Немного нас теперь осталось. Я про тех маклеров говорю, что сидят там в Нью-Йорке и стригут клиентов-сосунков.
– Уж это точно, – говорит. – В биржевой игре мелкота как муха вязнет. Законом следовало бы воспретить.
– Может, я неправ, по-вашему? – говорю.
– Нет-нет, – говорит. – Правы, конечно. На фермера все шишки.
– Еще бы не я прав, – говорю. – Обстригут тебя как овцу, если только не получаешь конфиденциальной информации от человека, который в курсе. Должен вам сказать, я держу прямую связь кой с кем там на бирже в Нью-Йорке. У них в советчиках один из крупнейших воротил. Притом мой метод, – говорю, – в один прием большой суммы не ставить. Я не из тех сосунков, что думают, они все поняли, и хотят за три доллара убить медведя. Таких-то сосунков и ловят нью-йоркцы. Тем и живут.
Пробило десять. Я пошел на телеграф. День начался с небольшого повышения, как они и предсказали мне.
Я отошел в уголок и перечел их телеграмму, на всякий пожарный случай. А пока читал, телеграфист принял новую сводку. Акции поднялись на два пункта. Наши, что на телеграфе собрались, все поголовно покупают. Это уже из разговоров их понятно. Мол, прыгай скорей на подножку, ребята, а то укатит счастье. Как будто трудно понять, к какому клонится исходу. Как будто закон такой и обязали тебя покупать. Ну что ж, и нью-йоркским евреям жить надо. Но что за времена настали, будь я проклят, если любой сволочной иностранец, светивший задом у себя на родине, где его господь бог поселил, может являться к нам в страну и прямо тащить барыши у американца из кармана. Еще на два пункта поднялись. Итого, на четыре. Но черт их дери, они же на месте там и в курсе дела. И если поступать не по их советам, так на кой тогда платить им десять долларов ежемесячно. Я уже ушел было, но вспомнил и вернулся, дал ей телеграмму. «Все благополучно. К напишет сегодня».
– К напишет? – удивляется телеграфист.
– Да, – говорю. – Ка. Буква такая.
– Я просто для верности спрашиваю, – говорит.
– Вы давайте шлите, как написано, а уж верность я вам гарантирую, – говорю. – Заплатит получатель.
– Телеграммы отбиваем, Джейсон? – встревает Док Райт, заглядывая мне через плечо. – Что это – шифровка маклеру, чтоб покупал?
– Да уж что бы ни было, – говорю. – Вы, ребята, своим умом живете. Вы ведь больше в курсе, чем ньюйоркские дельцы.
– Кому же, как не мне, в курсе быть, – говорит Док. – Я бы деньги сэкономил нынче, если б играл на повышение – по два цента за фунт.
Еще сводка пришла. Упали на пункт.
– Джейсон продает, – говорит Хопкинс. – По физиономии видать.
– Да уж продаю ли, нет ли, – говорю – Продолжайте действовать своим умом, ребята. Этим богачам евреям из Нью-Йорка тоже надо жить, как всем прочим.
Я пошел обратно в магазин. Эрл занят у прилавка.
Я прошел в заднюю комнату, сел к столу, вскрыл то письмо, что от Лорейн. «Милый папашка хочу чтоб ты приехал Мне без папочки не та компания скучаю об миленьком папашке». Еще бы. Прошлый раз я дал ей сорок долларов В подарок. Женщине я никогда и ничего не обещаю и вперед не говорю, сколько дам. Это единственный способ держать их в узде – Пускай сидит гадает, какой сюрприз я ей преподнесу. Если тебе нечем бабу другим удивить, удиви оплеухой.
Я порвал письмо и зажег над урной. У меня правило: с женским почерком ни клочка бумаги у себя не оставляю, а им я вообще не пишу. Лорейн меня все просит – напиши, но я ей отвечаю: все, что я забыл тебе сообщить, подождет до следующего моего приезда в Мемфис. Ты-то, говорю, можешь написать мне иногда, без обратного адреса на конверте, но посмей только по телефону вызвать – и ты кувырком полетишь из Мемфиса. Когда я у тебя, то я клиент не хуже всякого другого, но телефонных звонков от бабья не потерплю. На, говорю, и вручаю ей сорок долларов. Но если, говорю, спьяна тебе взбредет в голову позвонить мне, то советую прежде посчитать до десяти.