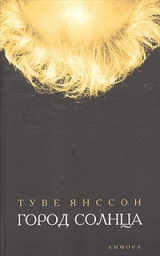
Текст книги "Город солнца"
Автор книги: Туве Янссон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 13 страниц)
11
Как раз тогда, в период между смертью сестер Пихалга и весенним балом, мисс Пибоди случайно узнала, что в Сент-Питерсберг прибывает Тим Теллертон. Это было у парикмахерши: старая миссис Бовари со всей определенностью знала, что эта великая звезда эстрадных ревю забронировала комнату в пансионате «Приют дружбы».
Мисс Пибоди взволновалась невероятно. До чего удивительна жизнь! Ведь он мог поехать куда угодно, совершенно точно – куда угодно в огромной колоссальной Америке, а он явится на Вторую авеню в Сент-Питерсберге!
Она помнила его так, будто видела вчера, его темно-синие знаменитые глаза и улыбку, что не когда была любима всем континентом.
– Кэтрин! – воскликнула она, стоя пред стеклянной клеткой мисс Фрей. – Сюда приезжает Тим Теллертон, он будет жить в «Приюте дружбы»! Как, по-твоему, он выступит в городском парке?
– Едва ли, – заметила миссис Рубинстайн, стоявшая в ожидании своей квитанции за оплату комнаты. – Полагаю, что и божественного Теллертона тоже хотя бы чуточку не пощадило время.
Не стану оспаривать столь широко распространенное мнение о его вечной молодости лишь из-за того, что он посетит Сент-Питерсберг, полагаю, что судьба его не столь уж несхожа с нашей.
Пибоди непонимающе смотрела на нее, а затем обратила взгляд своих боязливых глаз на мисс Фрей. Фрей рассерженно пояснила слова миссис Рубинстайн:
– Он тоже стар и поэтому приезжает сюда. Все обитатели пансионата никогда не могли привыкнуть к тому, что, если Фрей сидела в стеклянной клетке, вопросы можно было задавать только о работе и ни в коем случае ни о чем другом, не связанном с ее обязанностями. В стеклянном ящике она была защищена, и ее оставляли в покое. «Ослицы, – думала миссис Рубинстайн, – низкосортные простодушные ослицы, все до единой вместе взятые. Да и я тоже». Бросив окурок сигареты, она зашагала дальше по вестибюлю.
– Но он красив! – неуверенно сказала Эвелин Пибоди. – Он великий артист!
В пансионате «Приют дружбы» она узнала, что его ожидают трехчасовым автобусом. Никто не знал, встретят ли его у автобуса, преподнесет ли ему кто-нибудь цветы.
После двух часов жара усилилась и веранда в «Батлер армс» просто купалась в солнечных лучах, целиком открытая им.
Пибоди сидела на одном конце веранды, а Фрей – на другом.
– Иди сюда и садись в кресло-качалку одной из сестер Пихалга! – воскликнула Фрей. – Отсюда ты все лучше увидишь!
Но Пибоди не пожелала сидеть в кресле Пихалги, она медленно ходила взад-вперед по веранде и смотрела, как Фрей нанизывала свои бесконечные бисеринки.
Она спросила:
– Почему вы не унесете их кресла-качалки? Или можно поменять места? Если ждать еще дольше, станет только тяжелее, ведь нельзя же все время ранить друг друга.
– Ас кем ты хочешь сидеть рядом? – спросила Фрей. – Это, должно быть, трудно определить, ты ведь любишь всех на свете.
Пибоди не ответила, ее мысли путались от внезапно навалившихся на нее вопросов, а как раз сейчас она не могла вспомнить все имена и где кто располагается на веранде. Она устала от жары.
В десять минут четвертого такси, завернув за угол, остановилось прямо против пансионата «Приют дружбы». Работа Фрей уже отдыхала, лежа на ее коленях. Они увидели, как шофер такси вытащил из багажника два чемодана и сумку. Потом из машины вышел Тим Теллертон, рассматривая дом, где предстоит ему жить, и, целиком занятый в этот момент своими размышлениями, направился к веранде, навстречу ожидавшим его местам.
Пибоди не удалось увидеть его лицо. «Прими его, – робко подумала она, – встреть его и скажи „Добро пожаловать!“ Сделай же что-нибудь!»
Наконец все поднялись на ноги, и на недолгое время на веранде началось какое-то неопределенное движение. Шофер внес багаж в дом, и после этого все снова стало как прежде. Машина уехала, а они снова сидели в послеобеденной тени, так и не сомкнув свои ряды на веранде.
– Еще одна упала! – сказала мисс Фрей.
Она собирала свои упавшие бисеринки и продолжала их нанизывать.
Пибоди осторожно уселась в кресло миссис Хиггинс. Узнал ли он про весенний бал? А что, если они забыли столь важное приглашение? Но, разумеется, Тим Теллертон может явиться туда когда угодно, это ведь было бы честью для «Клуба пожилых»…
Мисс Фрей все быстрее и быстрее раскачивалась в своем кресле. Она молчала, у нее снова заболел живот. Надо бы пойти на обследование, но, может, и так пройдет… Озаренный солнечным светом профиль ее, с тощими складками шеи и непрерывно моргавшими глазами, напоминал профиль ящерицы.
Пибоди почувствовала, что тишина на веранде – какая-то все отвергающая, и стала смотреть в сторону, устремив взгляд поверх широкой, солнцем поджариваемой улицы.
Некоторое время спустя она сентиментально заметила, что все мы – словно разъединенные миры или же корабли, что разошлись в море.
– Что? Что? – спросила мисс Фрей.
– Мы – корабли! Речные суда, что не могут встретиться. Каждое судно, как и веранда, совершенно одиноко и существует само по себе.
– А что мешает тебе… – раздраженно ответила Фрей. – Переплыви реку… на веслах… Греби туда и спроси, будет ли он сопровождать тебя на бал или нет.
Эвелин Пибоди вздрогнула, словно от пощечины, и уставилась глазами в пол. Такое непростительное высказывание для еще совсем юной мисс Пибоди оказалось бы невыносимым. Она была бы жестоко ранена тем, что застенчивость ее ставилась под сомнение. Для старой же Пибоди это было двойным оскорблением: слова Фрей – намек на то, что застенчивость ее больше никому не нужна.
Ужасные железные судороги разрывали живот Фрей, и она разразилась криком:
– Сущая оперетта! Телевидение! Предобеденный час домашней хозяйки – все это было уже давным-давно! Он стал, верно, чрезмерно старым и толстым. А жениться он так никогда и не женился.
– Он жил ради своего искусства! – напыщенно ответила Пибоди.
– Искусство и еще раз искусство! – воскликнула Фрей и, наклонившись, словно для доверительной беседы, прижала руки к животу и медленно сообщила, что в пансионате всё устраивают, как и подобает, но, вероятно, он присутствовал всюду, где надо присутствовать, да и в обществе влиятельных персон тоже! Он, верно, знал, что делает! Я говорю, персон! Но это были дамы, всегда дамы, тебе понятно?!
– Нет! – воскликнула Эвелин Пибоди.
– Он был умен, он не давал повода для сплетен. Домашние хозяйки – публика важная.
Согнувшись вдвое над своим ужасным животом, мисс Фрей прошептала:
– Но болтали все же… Тем не менее болтали. И хочешь знать, что именно говорили?
– Нет! – разразилась криком Пибоди, – не хочу… не хочу знать!
Она вскочила и, пятясь, шаг за шагом, направилась к вестибюлю, спотыкаясь о кресла-качалки и не спуская глаз с губ мисс Фрей. А губы эти, в окружении мелких морщинок, все говорили и говорили… Страшнющий рот, выговаривавший мерзкие слова… и в конце концов Пибоди закричала:
– Замолчи! Ты – злючка, да к тому же еще и глупая!
И застыла в молчании от испуга пред самой собой.
– Так, теперь ты знаешь все, – медленно выговорила Фрей. – А я наконец знаю, что ты обо мне думаешь.
На веранду вышла миссис Рубинстайн.
– Поздравляю! – сказала она и посмотрела на Пибоди. – Наконец-то вы высказали свое мнение и посмели нажить себе врага!
Застывшие губы Пибоди произнесли:
– Это правда! Это ужасно, но это правда! А вы сами, миссис Рубинстайн! Я восхищаюсь вами, но вы жестокосердная и опасная женщина!
– Вы так думаете? – спокойно спросила Ребекка Рубинстайн. – Я не особенно приятна. Да и Фрей тоже. Так что приберегите свои восторги, дорогая фрекен, а собственно говоря, чего вы ожидали?
Слегка похлопав Пибоди по плечу, она отправилась обратно в вестибюль, за ней последовала и мисс Фрей с бисеринками, дребезжащими, будто камни в желчном пузыре. А Эвелин Пибоди осталась одна со своей первой открыто высказанной враждой. Она не извинилась, не сказала: «Простите меня, во всем виновата жара…» или… «Не обращайте на меня внимания, я вовсе так дурно о вас не думала» или хотя бы: «Я огорчена!» Она не произнесла ни слова. И совесть ее молчала. В состоянии совершенно неожиданного поразительного облегчения ее постоянно вопиющая совесть, освобожденная на миг от мук, молчала.
Пибоди, в абсолютно новом для нее ощущении окружающей ее пустоты, подошла к перилам веранды и стала разглядывать одно за другим окна пансионата «Приют дружбы». Без ложной скромности или ложных ожиданий раздумывала она, предоставили ли ему уютную комнату, одиноко ли ему там или нет…
* * *
Он очень устал. Ошибочно было приехать в середине дня, лучше бы предпочесть ночной автобус. И тогда следовать вместе с ним сквозь ночь, часами спать, останавливаться у всех безымянных, безликих, абсолютно одинаковых автобусных станций с одинаково анонимными залами ожидания для еды и отдыха пассажиров, что входят и выходят, далекие, призрачные, словно тени. А когда прибываешь на конечную автобусную станцию – такси, ключ от номера и постель. Он совершил ошибку. Глупая профессиональная любезность, привычка дать принимающей стороне шанс устроить торжественный прием, что доставляет обычно огромное удовольствие в мелких городах.
Прибытие в Сент-Питерсберг напугало его, он боялся всех этих старых людей, которые выбираются из своих кресел-качалок, чтобы поглазеть, и только путаются под ногами. Людей с их суматошными претензиями, жертв реклам дешевых ресторанов, безустанно капающих кранов и весеннего бала… И тут же все старики уже снова сидели в своих креслах-качалках, глядя пред собой, а он в полном одиночестве вошел в дом.
Тим Теллертон любил скопления людей, группы, стайки и людские толпы, копошившиеся вокруг него и ведомые ожиданием, восхищением и энтузиазмом; он вполне понимал их растерянность и их неспособность формулировать свои мысли и предвидеть поступки.
Этих старых, ветхих людей он понять не мог. Они взлетали, словно рой птиц, и, чуть помахав слабыми крыльями, снова усаживались на ветке – ничего общего с ним у них не было. Он был для них нечто происходившее рядом, какое-то событие, но Тимом Теллертоном он не был.
Теллертон привык к восхищению, правда, со временем оно, возможно, не так часто выпадало ему на долю, но он сознавал его всегда как ответственность, как часть своей профессии. Он понимал, что тоска по обожанию и преклонению неслыханно сильна, и даже в своем величайшем, по большей части беспомощном унижении, эта его тоска носила характер неудовлетворенных претензий; восхищение приносит само собой разумеющееся, почти жестокое право обладания. Улыбка Тима Теллертона, его колоссально-любезная внимательность были прекрасным портретом, подаренным им самому себе, тем щитом, который он держал перед собой. Но в душе его таилась скрытая на расстоянии в длину руки, крайне редко отмечаемая дистанция. Потом уже обычно вспоминали его приятную, теплую манеру разговора, но вовсе не то, что он говорил. Многим он оставлял надежду на новую встречу, но вовсе не свой адрес. Таким образом, Теллертон мог сохранить искреннюю нежность, откровенную благодарность и некий защитный магический круг, принадлежащий ему одному.
Комната в пансионате была светла и преисполнена приятной безликости. Тим Теллертон принял ванну и начал спокойно и не спеша работать со своим лицом. Есть на свете старые лица, лишенные духовной красоты, той красоты, над которой можно работать осознанно, но встречается также чисто скульптурный тип красоты.
Телосложение и лицо Теллертона были изысканно прекрасны. Теперь же, пока он медленно массировал свои чудесной формы щеки и лоб, к нему вернулось спокойствие, и он все время смотрел в свои сияющие синие глаза. Естественно, он потолстел. Надо выбирать: сохранять ли стройность либо потерять лицо – уберечь ли лицо или чрезмерно поправиться. Тело человека, насколько ему известно, меняется исключительно в ту или в другую сторону.
Окружающее его пространство казалось слишком ухоженным: гладкое кружевное покрывало и ровные складки гардин, безделушки на одном и том же, точно вымеренном расстоянии друг от друга, любезная его сердцу пустота. Ведь большинство комнат подобны дождевым плащам – они предоставляют защиту, но ничего более того…
Он лег в кровать и тотчас сумел заснуть, заснуть так, как научила его собственная профессия, – быстро и абсолютно исчезнуть, когда вдруг время, усталость и страх сойдутся вместе. Во сне он становился еще красивее.
Цветы поставили в комнату вечером. То были нежные и розовые розы, согласно визитной карточке, от некоей мисс Пибоди: «Добро пожаловать в Сент-Питерсберг, с восхищением».
Но в пансионате «Приют дружбы» никакой Пибоди не было и никто никогда о ней не слышал.
Утром в день великого весеннего бала Эвелин Пибоди проснулась поздно. Сны ее были легки и добры, а на совести – ни единого, даже мелкого проступка. Окутанная своим собственным теплом, она напряженно думала о мисс Фрей. С совершенно новой, почти игривой жесткостью представляла она себе лицо Кэтрин Фрей при дневном свете, и впервые увидела его без малейшего сострадания. Это лицо, теперь уже абсолютно разоблаченное, выдающее сущность Фрей, совсем не было изборождено и перекрещено теми морщинами и складками, что отражают выразительный почерк времени. Текст на лице Фрей шел вдоль и поперек, противоречиво и беспомощно, всего-навсего лишь черновик, который позднее следовало еще растолковать, но ни в коем случае более не улучшать да и не переписывать.
Пока Пибоди думала о лице Фрей, она подстрекала свою впервые честно и откровенно высказанную вражду, но поступила она, будто была глубоко уверена в своей правоте. Собственно говоря, она никогда не думала дурно о Фрей, никогда не думала дурно ни об одном человеке. В общем-то, людей легко призвать к порядку. А если поразмыслить, то каждый из них по-своему прав. «Возможно, – думала на пороге сна Эвелин Пибоди, – вполне возможно, что я тоже не так уж много думала о них, но кто из них когда-либо замечал, как я тяжко надрываюсь, стремлюсь к справедливости и правде, кто измерит цену моего сочувствия?» Она не могла вспомнить, что сказала Фрей и почему она, Пибоди, внезапно вышла из себя… Прекрасно было бы еще немного поспать.
В двенадцать часов за дверью Фрей крикнула:
– Ты что, заболела?
– Я сплю, – ответила Пибоди.
Фрей отправилась дальше. В ее обязанности входило пересчитывать их и знать, где они находятся. Ощущение в животе было снова как обычно, может, никакое обследование не понадобится! Ведь никогда не знаешь, что найдут эти врачи, и вообще, времени у нее нет.
Право же, взять, к примеру, Пибоди… Маленькая фрекен… Спящая красавица с нежным сердцем…
Когда она спускалась с лестницы, на углу из дверей своей комнаты выскочил Томпсон и заорал ей прямо в ухо:
– Ха, старая ты попрыгунья! Фрей воскликнула:
– Постыдился бы!
И помчалась в свою стеклянную клетку, а захлопнув за собой дверь, молча постояла, мотая высоко поднятым подбородком, чтобы тушь не потекла с ресниц…
– Какое ребячество, – прошептала она, – какое ребячество, какое ужасное ребячество, какое ужасное!..
Она, ничуть не сопротивляясь, дозволила опасть всем контурам своего лица: все усталости, все разочарования, отразившиеся на ее лице, опустились и углубились именно в тот момент, опадая вниз из уголков глаз, ноздрей и губ. Бумажные носовые платки подошли к концу. Вообще-то, им бы не мешало купить в дом жидкое мыло и новые брошюры. Фрей присела к своему столу, чтобы пометить: купить брошюры, жидкое мыло… Но перо ее рисовало лишь мелкие-премелкие неопределенные линии, и вскоре она различила, что линии эти изображают волосы Томпсона и неожиданно обрисовывают брови на неровном треугольнике его лица. У него появились глаза, близко посаженные друг к другу, и черный разинутый рот. В конце концов она приставила ему большие рога, по одному с каждой стороны. Затем, скомкав бумагу в мячик, Фрей выскочила в вестибюль с криком:
– Линда! Проветри его комнату, оттуда по всему дому несет чесноком и запахом табака. Почему его комната похожа на конюшню?!
– Да, мисс Фрей, – ответила Линда, посмотрев на нее взглядом, которым одаривают чужое животное, которое как следует не обихаживают…
Фрей сбежала вниз по лестнице к пятому номеру и закричала:
– Миссис Хиггинс, вы там, вы у себя в комнате? Какая лампочка разбилась вдребезги – в ночнике или в люстре на потолке? Я не могу попросить Юхансона, пока не узнаю, какая из них разбилась вдребезги!
– В ночнике, – удивленно ответила Ханна Хиггинс. – Но думаю, что обе лампочки одинаковой величины.
Немного подождав, Хиггинс добавила:
– Ну вот, тебе опять худо?! Томпсон опять был зол и груб?
– Он дьявол! – ответила Фрей.
– Пожалуй, слишком сильно сказано о впавшем в детство ребячливом старике.
– Ребячливом! – воскликнула Кэтрин Фрей.
Ее всю трясло.
– Он столь же ребячлив, сколь Пибоди ангелоподобна!
Да, так было всегда: дьявол мог казаться ребенком, со всем унаследованным им злом, а ангелы прячутся за всеми добродетелями мира…
Она повторила:
– Он дьявол!
– Разве, разве… – возразила миссис Хиггинс. – Хотя, может быть…
Очень осторожно вывинтила она разбитую лампочку из ночника.
– В дьявола, – сказала она, – мне всегда было трудно поверить. Ангелов представить себе куда легче… Но не могу понять, почему проповеди пастора Грим лея столь благословенно скучны. Ведь он высокообразованный человек, не правда ли?
– Правда, – слабым голосом отозвалась мисс Фрей и села на стул.
Ханна Хиггинс продолжала болтать о Гримлее и весеннем бале и показала свою сумочку, украшенную гагатовыми [22]22
Гагат – особый вид каменного угля, получающего сильный лоск при полировке и идущего на брошки и другие украшения. Не смешивать гагат и агат.
[Закрыть]бусинками. Сумочкой этой Хиггинс пользовалась для выхода в торжественных случаях.
– Моряк, – сказала она, – у него свой стиль. Мисс Фрей вертела в руках сверкающую сумочку, и глаза ее внезапно замигали…
Она слышала, как миссис Хиггинс хлопотала в ванной и вернулась оттуда, снова болтая о весеннем бале. Кэтрин, мол, не следует надевать длинные брюки, а наоборот, одеться красиво и женственно, а парик – убрать.
– Сними парик, дружок, и посмотрим, какие у тебя свои волосы.
Кэтрин Фрей сняла парик. Миссис Хиггинс долго смотрела на нее сквозь очки с утолщенными стеклами, смотрела и поверх головы, и снизу, и сбоку, а в конце концов сказала, что тут требуется помощь парикмахерши, и помощь немедленная.
* * *
Улицы Сент-Питерсберга, опаленные послеобеденной жарой, были пусты. Сотни старых и пожилых дам сушили волосы под фенами, а те, что уже сделали прическу, ожидали у себя дома, когда наступит вечер.
Кэтрин Фрей поспешно шагала по городу – улица вверх, улица вниз, и повсюду дам – битком набито! Она испугалась и пошла на авось в парикмахерские салоны, где уже бывала, но куда бы она ни приходила, везде и всюду сушилки для волос были немилосердно заняты и всюду сидели длинные ряды терпеливо ожидающих своей очереди женщин, которых назначили на определенное время.
Сколько старческих волос, которые мыли и укладывали локонами, обрызгивали лаком, сколько белого и седого птичьего пуха зачесывалось наверх над холодеющими висками!!!
Мало-помалу, носясь от одной парикмахерши к другой и постоянно получая отказы, мисс Фрей забыла о своих собственных огорчениях, дабы целиком предаться той преисполненной тайны одержимости, той магии, что женственность доверяет уходу за собственными волосами, и ее охватило фантастическое спокойствие. Наконец-то она нашла мирное прибежище, далекое от «Батлер армс».
Быстрым и серьезным шепотом посоветовавшись с парикмахершей, опустилась она под пластиковый футляр, глубоко, во влажное тепло, насыщенное тепло оранжереи, в тот мир, что сулит забвение на многие часы покоя.
Все в переполненной клиентками парикмахерской было розовым, даже телефон. То было надежное женское пристанище, где мисс Фрей задремала, освеженная серебряным спреем номер пять.
Последние в очереди дамы спешили из парикмахерской домой с прическами, укрытыми легкими шелковыми платочками. В городе стояла полная тишина. Уже в сумерках Линда поставила на стол в гостиной холодный ужин: курица и картофельный салат из кафе «Сад».
Все было иным – временным и поспешным, как обычно бывает за полчаса до путешествия. Юхансон подает машину, которую сам же он и поведет.
* * *
Ханна Хиггинс и Пибоди ужинали, сидя друг против друга с театральными сумочками, что покоились рядом с ними на столиках.
Миссис Хиггинс видела, что Пибоди явно взволнована, смотрит по очереди то на дверь, то на экран телевизора, и все время ерзает, да и курица – не на пользу, если ты поел перед празднеством, блюдо это не очень практично и может нанести большой урон платью.
Но вот появилась, шурша тафтой, Кэтрин Фрей, и миссис Хиггинс, отложив в сторону вилку, сказала:
– Посмотрим, дружок, на собственные твои волосы, подойди поближе, повернись кругом… Такая серебристая седина… очень красиво!..
Пибоди слегка хохотнула, издав коротенький, не очень-то любезный смешок, а Фрей, словно ужаленная змеей, кинулась к телевизору и стала смотреть, повернувшись к ним спиной, на экран. Там лесоруб из Канады отвечал со злобным видом лишь «да» и «нет» на все задаваемые ему вопросы.
– Словно на пикнике, – заметила Пибоди. – Так приятно есть из картонки!..
– Тесс! – прошипела Фрей. – Идет программа! Но Пибоди тотчас продолжила громким голосом свою речь и напомнила, что бал все-таки – событие. И спросила, видел ли кто-нибудь новую шляпку миссис Рубинстайн? Да, да, ведь ее шляпка – большой сюрприз!
– Почему ты так неестественно болтаешь? – спросила Ханна Хиггинс. – Вы поссорились?
– Тесс! – снова прошептала Фрей.
Она подошла совсем близко к экрану, чтобы показать, как все ей мешает, и сказала:
– Деревья такие высокие и необъятные! Сквозь них можно проехать на машине! Посмотрите на них! Посмотрите!
Но когда они взглянули на экран, там по-прежнему виднелось лишь злобное лицо лесоруба, до тех пор, пока оно не стерлось, смешавшись с рекламой.
– Да, – произнесла Ханна Хиггинс, – конечно же, было бы занятно увидеть такое колоссальное дерево и даже проехать сквозь него…
– Глупо!.. – воскликнула Пибоди, поспешно откинувшись на спинку дивана.
– Ешь свою курицу, – строго посоветовала ей миссис Хиггинс. – Мир куда огромнее, чем ты думаешь!
В гостиной было уже сумеречно, вечерняя прохлада вливалась через открытое окно. Они услыхали, как внизу под верандой проехал автобус. Мисс Фрей быстро прошла мимо них в вестибюль, а Пибоди прошептала:
– Бедняжка!
– Прибереги свои слова! – посоветовала Ханна Хиггинс. – Опрометчивые слова все равно что сухие листья на ветру. Жалеть – значит понимать, а если понимаешь, то должно полюбить.
– Нет, нет, – робко прошептала Эвелин Пибоди, – все изменилось, теперь мы – враги!
Миссис Хиггинс, слегка вздрогнув, заметила, что будь ты одним, или будь ты другим, надо только знать, чего хочешь.
Взяв свою сумочку, она вышла из гостиной. Внизу на улице празднично одетые люди группками или пара за парой начали двигаться к гавани.
Платья дам казались длиннее и светлее, нежели в сумерки. Они отчетливо вырисовывались на фоне зелени, окружавшей дома. Многие машины спускались вниз по Второй авеню к морю и к «Клубу пожилых».
Рассеянно, но при этом тщательно, оделась к празднеству и Элизабет Моррис. Она сидела у открытого окна своей комнаты, смотрела на людей и на автомобили, на потоки людских ожиданий, струившихся мимо к освещенному кораблю, и почувствовала непреодолимое желание просто-напросто остаться дома наедине с самой собой.
Это новое настойчивое желание придавало миссис Моррис ощущение праздничности и личной свободы; выпрямившись на стуле, она медленно натянула на одну руку длинную голубую перчатку.
Пибоди поскреблась к ней в дверь и спросила, готова ли она и записалась ли уже в «Клуб пожилых».
– Да, – ответила Моррис. – Не беспокойся, все идет как положено…
И мисс Пибоди устремилась вниз по лестнице и выскочила на улицу. Та была пуста. Юхансон уже уехал. Она пробежала немного вперед и снова вернулась. Сгорбившись под своей серой шалью, она более чем когда-либо походила на мышку, постоянно бегущую, постоянно спешно выскакивающую из все новых и новых норок и то тут то там вынюхивающую что-то на своем пути.
Мимо нее прохромал вверх по улице к кафе Палмера Томпсон в диковинной шляпе и в черном костюме.
Миссис Моррис услыхала, как он пробормотал:
– Пибоди, поторопитесь! Мы успеем выпить по стаканчику пива, прежде чем все начнется. А Крестный Отец Юхансон пусть катится куда хочет со своей священной телегой.
* * *
Бар изменился… Ярко освещенный, он был переполнен людьми, пытавшимися перекричать музыку. Она, испугавшись, остановилась в дверях.
– Пибоди! – закричал Томпсон. – Входи и садись!
Вонзив свой локоть в соседа слева, он стащил его со стула; это произошло очень быстро, а пробиться к Томпсону сквозь все эти длинные платья было трудно. Она робко попыталась извиниться:
– Простите, это был ваш стул…
Но огромный человек не слыхал, что она говорила, он висел над стойкой и орал:
– Ха! Пинту пунша для бабули!
Большой бокал проехал прямо к ней по оцинкованной стойке, а огромный человек, вполне уважительно подмигнув, спросил:
– Как поживает малышка Алоха? Написали ли друзья Иисуса?
– Поцелуй меня… – выругался бармен.
Томпсон сидел молча, словно в церкви, под ярким светом он производил впечатление удивительно маленького и сильно запыленного человечка.
Пибоди объясняла, что она лично Баунти-Джо не знает, но никто ее не слушал. Из вежливости выпила она сначала большой бокал вина, а потом пиво и, облокотившись о стойку, почувствовала, как прекрасно это для ее спины. Здесь были только одни друзья, они болтали, перебивая друг друга и, нагнетая свое собственное чувство гнева, не сходились во мнениях. Вдоль всей этой длинной стойки она видела, как руки их что-то выясняют и оценивают, и снуют, видела их затылки и профили, видела мужчин, наклонявшихся над оцинкованной стойкой и снова, смеясь и вытянув шеи, откидывающихся назад… А иногда кто-то из них подходил к магнитофону и включал музыку.
У Палмера, и она знала… Бар Палмера – это место, где снова приходит покой. Она засунула пятерку под локоть Томпсона, и он заказал еще два стаканчика пива.
Помещение было абсолютно надежным, внушающим доверие. «Почему, – думала Пибоди, – почему они не могут заставить и меня быть тоже доброй, ведь я все-таки необычайно добрый человек?»
Углубившись в созерцание зеркала бара, Эвелин Пибоди лелеяла сочувствие к этим людям, наблюдая за своей откровенно-истинной дружелюбностью, порой выбрасывающей удлиненные шипы ненависти, столь же колкие, как шипы розы.
– Неужто это возможно? – с болью думала Пибоди, – что со мной? Ни у кого из них нет такой скверной совести, как у меня, никто не обращает внимания на столь многое, как я. Своей совестью я, пожалуй, сравняюсь с землей, да, я равняюсь с землей. И самого крошечного, самого маленького врага я не оставляю в покое…
– Ха! – воскликнул Томпсон. – Ты что, спишь, Пибоди?
Совершенно внезапно бар опустел, посетители один за другим расплачивались и уходили.
– Почему они расходятся? – робко спросила Пибоди.
– Они идут домой ужинать.
– А они не вернутся?
– Они вернутся, – утешил ее Томпсон. – Они все вернутся сюда рано или поздно. Не беспокойся!
Улица была тиха, и молчалива, и совсем пустынна, словно все уже вышли из кино или разбрелись по делам.
Пибоди с Томпсоном направились к морю; все было ошибкой. Он объяснял ей, что кафе-бар Палмера, по большому счету, не очень-то хорош. Бары в Сан-Франциско – совсем другое дело! Вот бы ей на них взглянуть!
К вечеру поднялся ветер, прохладный, неслабеющий ветер! Они прошли два квартала, и тут Пибоди упомянула парад шляпок и прежде всего – шляпку миссис Рубинстайн.
– Пибоди, – спросил Томпсон, – о чем ты говоришь? Ты говоришь о шляпах?
– Да, – беспокойно ответила она.
– Шляпы! Шляпы, сидящие на головах огромных глуповатых женщин… Вот это зрелище! Такое зрелище я видел слишком часто.
– Конечно, – понимающе заметила Пибоди, там, на севере, – холодно. А ты больше думаешь о шляпках или о женщинах?
– О тех и о других. Помолчи, Пибоди!
Они продолжали медленно спускаться вниз на безлюдную авеню, к освещенным парусам «Баунти».
* * *
Нарядившись в праздничный туалет, миссис Рубинстайн отправилась к мисс Рутермер-Беркли – продемонстрировать свою шляпку. Встречались они не часто, но выказывали друг другу холодноватое, но неизменное почтение.
Каждый год сразу же пред весенним балом они обычно устраивали небольшую конференцию. Зажигались хрустальная люстра и лампады, миссис Рубинстайн была желанной гостьей. Ее ждали. Сознавая, какое удовольствие подарит своим появлением, она остановилась на миг в дверях, дабы снискать восхищение.
На сей раз огромная величественная дама была облачена в черный наряд, в сверкающий футляр из несовременных блесток, облегавших дугообразные изгибы ее могучих форм сверху вниз от белоснежного декольте до могучих же рук и рыхлого, лишенного мускулов живота прямо к полу, где распростерся пышный шелестящий шлейф. Одной рукой миссис Рубинстайн опиралась о косяк двери, другой легонько касалась полей своей громадной, отбрасывающей тень шляпы. В нынешнем году цвет ее был красный, шляпа была сотворена из темно-красного шелка и украшена фиолетовыми розами, правда, несколько роз были потрясающе голубыми. Одной голубой розе было дозволено опасть над одним ее глазом, другой же глаз смотрелся черным и торжественным, видимо, почти так это и было задумано. Мисс Рутермер-Беркли изрекла:
– Миссис Рубинстайн, вы великолепны! Позвольте предложить вам стаканчик шерри?
Хрустальный графин стоял на овальном столике с двумя застывшими в ожидании бокалами; миссис Рубинстайн подала бокал хозяйке, а потом – себе, высказав при этом словно бы свою собственную продуманную мысль, что, мол, традиции «Клуба пожилых» нуждаются в обновлении. Пока она была членом правления, она, мол, делала все, что в ее силах, но ее выпроводили оттуда, прежде чем многое, что имеет значение, было претворено в жизнь.
Мисс Рутермер-Беркли возразила собеседнице:
– Вы, очевидно, там слишком доминировали. Старые люди крепко придерживаются своих привычек, тут уж ничем не поможешь! Не желаете ли сигарету?
Миссис Рубинстайн вежливо отклонила предложение хозяйки. Она сказала:
– Я знаю. Я пугаю их. Трудно не слишком энергично идти вперед, когда тебе абсолютно ясно, что следовало бы изменить и как это можно было бы сделать. Представьте себе, будто кто-то пытается поднять тяжелый предмет на самую вершину холма, например, с помощью подъемной силы, а вы видите, что баланс ошибочно нарушен. Тогда в самом деле трудно не выскочить вперед и не сказать, каким образом надо использовать подъемную силу, дабы добиться эффекта и избежать катастрофы. Люди столь крайне мало осведомлены о том, как следует организовывать различные процессы…






