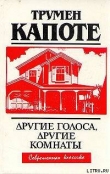Текст книги "Другие голоса, другие комнаты. Летний круиз"
Автор книги: Трумен Капоте
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 16 страниц)
Тут он вспомнил, что так и не сходил к отшельнику за обещанным амулетом; если они с Айдабелой сбегут, амулет им обязательно понадобится – и он спросил, знает ли она дорогу к гостинице «Морок».
– Примерно, – сказала она. – Лесом, через амбровую низину, а потом через ручей, где мельница… У-у, это далеко. А зачем нам туда вообще?
Объяснить он не мог, конечно, потому что Маленький Свет велел молчать про амулет.
– У меня там важное дело к человеку, – сказал он и, желая немного попугать ее, добавил: – А то с нами случится что-то страшное.
Оба вздрогнули.
– Не прячься, я знаю, где ты, я тебя слышала. – Это была Эйми, она кричала из окна прямо над ними, но их не видела: листья таро скрывали их, как зонт. – Надо же, оставил мистера Сансома, беспомощного, – ты совсем сошел с ума?
Они уползли из-под листьев, прокрались вдоль стены дома и кинулись к дороге, к лесу.
– Я знаю, что ты здесь, Джоул Нокс, немедленно поднимись, любезный!
В глубокой низине темная смола засыхала корками на стволах амбровых деревьев, опутанных вьюнами; там и сям опускались и поднимались зеленые бабочки, похожие на светлые листья яблонь; живая дорожка длинноцветных лилий (только святым и героям, говорят старики, слышен туш из их раструбов) манила как будто призрачными руками в кружевных перчатках. И Айдабела все время махала руками: комары свирепствовали: как осколки огромного зеркала, бежали навстречу и дробились под ногами Джоула комариные болотные лужи.
– У меня есть деньги, – сказала Айдабела. – Между прочим, почти доллар.
Джоул вспомнил мелочь, спрятанную в шкатулке, и похвастался, что у него еще больше.
– Все потратим на цирк, – сказала она и лягушкой сиганула через бревно, похожее на крокодила. – Кому они вообще нужны, деньги? Нам сейчас уж точно не нужны… только на выпивку. Надо заначить столько, чтобы каждый день было на кока-колу, – у меня мозги сохнут, если не выпью с ледиком. И на сигареты. Выпить, покурить и Генри – больше мне ничего не нужно.
– И я немного нужен, да? – сказал он – неожиданно для себя вслух. Но вместо ответа она завела нараспев: «…хорошо макаке по ночам во мраке рыжие расчесывать вихры…»
Они задержались, чтобы соскрести смолы для жвачки, и, пока стояли, она сказала:
– Папа всю округу из-за меня обшарит: сейчас пойдет к мистеру Блюи одалживать гончую. – Она засмеялась, и капли жеваной смолы выдавились у нее из углов рта; на волосы ей села зеленая бабочка и повисла на локоне, как бант. – Один раз они беглого каторжника ловили – в этой самой низине, – мистер Блюи со своей гончей, и Сэм Редклиф, и Роберта Лейси, и шериф, и все собаки с фермы; когда стемнело, видно стало их лампы в лесу и собачий лай слышен; прямо праздник какой-то: папа с мужчинами и Роберта напились до чертей, и как Роберта ржала, слышно было небось в Нун-сити… Знаешь, мне жалко стало этого каторжника, и страшно за него: я все думала, что он – это я, а я – это он, и нас обоих ловят. – Она сплюнула жвачкой и засунула большие пальцы в петли своих защитных шортов. – Но он ушел. Так и не поймали. Кое-кто говорит, что он до сих пор тут… прячется в гостинице «Морок», а может, в Лендинге живет.
– Кто-то в Лендинге живет! – с энтузиазмом подхватил Джоул, но тут же разочарованно добавил: – Только это не беглый, это дама.
– Дама? Мисс Эйми, что ли?
– Другая дама, – сказал он и пожалел о том, что начал этот разговор. – У ней высокий седой парик и красивое старинное платье, но я не знаю, кто она, и вообще, есть ли она на самом деле. – Айдабела только посмотрела на него, как на дурака, и он, смущенно улыбнувшись, сказал: – Я пошутил, просто хотел напугать тебя. – Не желая отвечать на вопросы, он забежал вперед. Сабля при этом хлопала его по бедру.
Ему казалось, что они далеко ушли, и легко было даже представить себе, что они заблудились: может, нет вовсе этой гостиницы, чье название рождало образ бесплотно-белого дворца, плывущего сквозь лес подобно пару. Очутились перед стеной ежевики; Джоул вынул саблю и прорубил проход.
– После вас, моя дорогая Айдабела, – сказал он с глубоким поклоном; она свистнула собаку и вошла.
За ежевикой открылся берег с крупной галькой и неторопливый ручей – скорее даже речка в этом месте. Пожелтелый тростник заслонял разрушенную плотину. Ниже ее на высоких сваях стоял над водой странный дом: дощатый, некрашеный и серый, он имел незаконченный вид, как будто строитель испугался и бросил работу на половине. На лоскутьях кровли загорали три грифа; через небесно-голубые сквозные окна влетали в дом и вылетали обратно бабочки. Джоул ощутил горькое разочарование – неужели это и есть гостиница «Морок»? Но Айдабела сказала: нет, это – старая заброшенная мельница, раньше фермеры возили сюда молоть кукурузу.
– Тут была дорога, она вела в гостиницу, теперь – сплошной лес, даже тропки не осталось.
Айдабела схватила камень, швырнула в грифов; они снялись и стали парить над берегом. Их тени лениво описывали пересекающиеся круги.
Вода здесь была глубже, чем там, где они купались, и темнее – грязно-оливковая, бездонная, и Джоул, услышав, что переплывать не придется, от облегчения так расхрабрился, что зашел под мельницу, где через ручей была переброшена тяжелая подгнившая балка.
– Лучше я первая пойду, – сказала Айдабела. – Старая, провалится еще.
Однако Джоул протиснулся вперед нее и ступил на дерево; что бы она ни говорила, он – мальчик, а она – девочка, и он, черт возьми, больше не позволит ей верховодить.
– Вы с Генри идите за мной, – сказал он, и голос его прозвучал гулко в подвальном сумраке.
Светлые отражения воды, змеясь, взбегали вверх по гнилым изъеденным сваям; медные водяные клопы раскачивались на хитрых трапециях из паучьей пряжи, и на мокром истлевшем дереве сидели грибы величиной с кулак. Джоул переступал робко, балансируя саблей, и, чтобы не видеть головокружительной глубокой воды, движущейся под самыми ногами, неотрывно глядел на противоположный берег, где нагруженные лозы рвались из красной глины к солнцу и зеленели призывно. Но вдруг он почувствовал, что никогда не перейдет на ту сторону – так и будет качаться между сушей и сушей, один, в потемках. Затем, ощутив, как вздрогнула балка под тяжестью Айдабелы, вспомнил, что он не совсем один. Только… Сердце упало, остановилось; все тело сжали железные обручи.
Айдабела крикнула:
– Что там?
А он не мог ответить. Не мог издать ни звука, не мог шевельнуться. В полушаге от него, свернувшись, лежала мокасиновая змея толщиной с его ногу и длинная, как бич; копьевидная голова поднялась, впившись в Джоула узкими зрачками; и его обожгло, словно яд уже побежал по жилам. Айдабела подошла сзади и заглянула через его плечо.
– Черт! – выдохнула она. – Ух черт.
…и от ее прикосновения силы вытекли из Джоула: ручей застыл, превратился в горизонтальную клетку, и ноги перестали держать, словно балка была зыбучим песком. Откуда у змеи глаза мистера Сансома?
– Руби ее, – приказала Айдабела. – Саблей руби.
Вот как все было: они шли в гостиницу «Морок», да, в гостиницу «Морок», где плавал под водой мужчина с рубиновым перстнем, да, и Рандольф листал свой альманах и писал письма в Гонконг, в Порт-оф-Спейн, а бедный Джизус умер, убита кошкой Тоби (нет, Тоби была младенцем), гнездом печной ласточки, упавшим в огонь. И Зу – она уже в Вашингтоне? И там – снег? И почему так пристально смотрит на него мистер Сансом? Это очень, очень невежливо (как сказала бы Эллен), до крайности невежливо со стороны мистера Сансома – никогда не закрывать глаза.
Змея развертывалась с мудреной грацией, вытягивалась к ним, гоня по спине волну, и Айдабела кричала: «Руби, руби!» – а Джоул по-прежнему был всецело поглощен взглядом мистера Сансома.
Айдабела развернула его кругом, отодвинула за спину и выхватила у него саблю.
– Бабуська, гадина, – тыча саблей, дразнила она змею.
Та будто опешила на секунду; потом, с неуловимой для глаза быстротой, напряглась, как натянутая до звона проволока, откинулась назад и сделала выпад.
– Гадина! – Айдабела, зажмурясь, взмахнула саблей, как косой. Сброшенная в пустоту змея перевернулась, ушла под воду, всплыла на поверхность; скрюченную, белым брюхом кверху, течение унесло ее, словно вырванный корень лилии.
Нет, – сказал Джоул немного позже, когда победоносная и спокойная Айдабела уговаривала его перейти на ту сторону. – Нет, – ибо зачем было теперь искать отшельника? С опасностью они уже встретились, и амулет ему был не нужен.
11
За ужином Эйми объявила:
– Сегодня у меня день рождения. Да, день рождения – и хоть бы кто вспомнил. Будь с нами Анджела Ли, я испекла бы огромный пирог с сюрпризом в каждом ломтике: золотыми колечками, жемчужинкой для моих жемчужных бус, серебряными пряжечками для башмаков… ах, подумать только!
– Поздравляю вас, – сказал Джоул, хотя здоровья не так уж ей и желал: когда он вернулся домой, она бросилась навстречу с определенным намерением – во всяком случае, так она заявила – разбить о его голову зонтик, ввиду чего Рандольф распахнул свою дверь и предупредил ее вполне серьезно, что если она только дотронется когда-нибудь до мальчика, он свернет ей к чертям шею.
Рандольф продолжал глодать свиную голяшку, а Эйми, полностью игнорируя Джоула, сердито смотрела на него, и губы у нее дрожали, а брови всползали все выше и выше.
– Ешь, ешь себе, разжирей, как свинья, – сказала она и рукой в перчатке стукнула по столу: стук был как от деревяшки, и потревоженный старик будильник принялся трезвонить; все сидели без движения, пока он жалобно не иссяк.
Затем морщины на лице у Эйми прорисовались рельефнее вен, и, до нелепости горько всхлипнув, она разразилась слезами и заикала.
– Глупое животное, – всхлипывая, сказала она. – Кто еще тебе когда-нибудь помогал? Анджела Ли отправила бы тебя на виселицу! А я – жизнь за тебя положила. – И, перемежая икоту извинениями, икнула раз двенадцать подряд. – Вот что скажу тебе, Рандольф: моя бы воля, ни на секунду бы здесь не осталась, уборщицей пошла бы к каким угодно потным неграм; не думай, заработать себе на пропитание я всегда сумею – в любом городе Америки матери будут присылать ко мне детей, и мы будем организовывать игры: жмурки, шарады – и я буду брать по десять центов с ребенка. Без куска хлеба не останусь. Зависеть от тебя мне нет нужды; будь у меня хоть капля здравого смысла, давно бы села и написала письмо в полицию.
Рандольф положил нож на вилку и промокнул губы рукавом кимоно.
– Извини, дорогая, – сказал он, – боюсь, что не уследил за твоей мыслью: в чем именно ты усматриваешь мою вину?
Его двоюродная сестра покачала головой и глубоко, прерывисто вздохнула; слезы перестали капать, икота прекратилась, и на лице ее внезапно возникла застенчивая улыбка.
– Сегодня день моего рождения, – чуть слышно прошелестела она.
– До чего странно. Джоул, тебе не кажется, что день исключительно теплый для января?
Джоул настроил слух на то, что должно было зазвучать за их голосами: три свистка и крик совы – сигнал Айдабелы. От нетерпения ему казалось, что выдохшийся будильник остановил и само время.
– Да-да, для января, – ведь ты, моя милая, родилась (если верить семейной библии, хотя верить ей никак нельзя – уж больно много свадеб там датировано по ошибке девятью месяцами раньше) января первого числа, вместе с Новым годом.
Эйми робко, по-черепашьи втянула голову в плечи и снова начала икать, но теперь не возмущенно, а горестно.
– Ну-у, Рандольф… Рандольф, у меня праздничное настроение.
– Тогда – винца, – сказал он. – И песню на пианоле; да загляни еще в комод – наверняка найдешь там старые собачьи галеты, кишащие маленькими серебряными червячками.
С лампами они перешли в гостиную, а Джоул, посланный наверх за вином, быстро зашел в комнату Рандольфа и открыл окно. Внизу огненные, только что распустившиеся розы горели, как глаза, в августовских сумерках; надушенный ими воздух казался цветным. Он свистнул, шепотом позвал: «Айдабела, Айдабела», – и она появилась с Генри из-за покосившихся колонн. «Джоул», – произнесла она неуверенно, и позади нее ночь перчаткой наделась на каменную пятерню, будто согнувшуюся в потемках, чтобы захватить девочку; но Айдабела ускользнула от каменной хватки: откликнувшись на зов Джоула, она сразу подбежала к окну.
– Ты готов? – Она сплела ошейник из белых роз для Генри, и у нее самой в волосах криво торчала роза.
Айдабела, – подумал он, – какая ты красивая.
– Иди к почтовому ящику. Там встретимся.
Без огня ходить по дому было уже темно. Он зажег свечу на столе Рандольфа, подошел к шкафу и отыскал непочатую бутылку хереса. Когда он нагнулся задуть свечу, в глаза ему бросился зеленый листок почтовой бумаги и на нем, знакомым изящным почерком, начало: «Дорогой мой Пепе». Так вот кто сочинял письма к Эллен – и как же он не сообразил, что мистер Сансом не может написать ни слова? В темном коридоре свет лампы обозначил контуром дверь мистера Сансома, которую на глазах у Джоула медленно раскрывал сквозняк; он увидел комнату будто через перевернутый бинокль, так схожа с миниатюрой была она в своей желтой четкости: и свесившаяся с кровати рука с обручальным кольцом, и пейзажи Венеции на матовом шаре лампы, спроецировавшей на стены и на одеяло их бледные цвета, и в зеркале метание – этих глаз, улыбки. Джоул вошел на цыпочках и опустился на колени возле кровати. Внизу разразилась грубой, ярмарочной музыкой пианола – но почему-то не нарушила таинственности и тишины этого мгновения. Он ласково поднял руку мистера Сансома, приложил к своей щеке и держал так, покуда между ними не пошло тепло; он поцеловал сухие пальцы и обручальное кольцо из золота, которое должно было бы охватывать их двоих.
– Я ухожу, папа, – сказал он, и получилось это так, что он как бы впервые признал их родство. Он медленно встал, взял в ладони лицо мистера Сансома и прижался губами к его губам. – Мой единственный папа, – прошептал он, и повернулся, и пошел вниз, и на ходу повторил эти слова еще раз – но теперь уже самому себе.
Он пристроил бутылку вина под вешалкой в зале и, укрывшись за занавеской, заглянул в гостиную; Эйми и Рандольф не слышали, как он спустился по лестнице: Эйми сидела на табуретке у пианолы, усердно обмахивалась веером и без устали притопывала ногой, а Рандольф, совершенно разомлев от скуки, созерцал арку, где должен был появиться Джоул. Но Джоула уже не было; он бежал – к почтовому ящику, к Айдабеле, на волю. Дорога стелилась под него рекой, словно фейерверочная ракета, воспламененная вдруг блеснувшей свободой, мчала его за собой в хвосте искр-звезд.
– Бежим! – крикнул он Айдабеле, потому что немыслимо было остановиться, пока Лендинг не скроется из виду навеки, – и Айдабела неслась перед ним, и тугой ветер сметал назад ее волосы; когда дорога прянула на холм, Айдабела будто полезла в небо по прислоненной к луне стремянке.
За холмом они остановились, тяжело дыша и встряхивая головами.
– Они гнались за нами? – спросила Айдабела, и роза в ее волосах обронила несколько лепестков.
– Теперь нас никто не поймает, никогда.
Они все время держались дороги – даже там, где она прошла вблизи ее дома, – и Генри трусил между ними; выбившиеся из ошейника розы впитывали холодный свет луны, и Айдабела сказала, что с голоду готова съесть розу «или траву и поганки». Ничего, ответил Джоул, только до города потерпеть: он раскошелится и угостит ее мясом в «Королевском крове Р. В. Лейси». Вспомнили ту ночь, когда он ехал в Лендинг и по дороге услышал ее и Флорабелы пение. Пристыли тогда к звездам его глаза, и старая телега завезла его за кордон сна, зимней спячки, от которой только теперь он радостно пробуждался, – ибо все приключившееся было сном, и узор его распускался быстрее, чем успевала связывать память, – только Айдабела и осталась, а прочее стушевалось, как тени в темноте.
– Я помню, сказала она, – я думала, ты такая же дрянь, как Флорабела; честно говоря, и не передумывала, до нынешнего дня.
Как будто застеснявшись, она сбежала к узенькому ручейку, журчавшему у обочины, и стала пить из горсти; потом вдруг выпрямилась, приложила палец к губам и поманила Джоула.
– Слышишь? – шепнула она.
За густой листвой, смешиваясь в едином ритме, как ласка дождя, звучали два голоса, один – бычьего тона, другой – похожий на гитару: замысловатое плетение шелестящих шепотов, вздохов без грусти, молчаний, более глубоких, чем пустота. Неслышно, по мху, они прошли сквозь лиственную чащу и остановились перед прогалиной: под тонкими пасмами луны и папоротников лежали, раздевшись и обнявшись, негр и негритянка – кофейное тело мужчины браслетами охватывали темные руки и ноги возлюбленной, а он водил губами по ее соскам: о-о, о-о, Саймон, милый, вздыхала она, и любовь плескалась в ее голосе, любовь прокатывалась по ней громом; тише, Саймон, милый Саймон, тише, родной, ворковала она и вдруг напряглась, подняла руки, точно обнимая луну; возлюбленный сник поперек нее, и вдвоем, раскинувшись, они образовали на лунном мху черную падшую звезду. Айдабела бросилась прочь, напролом, расплескивая листву, и Джоул, едва поспевая за ней, шептал тс-с, тс-с и думал, как нехорошо пугать возлюбленных, жалел, что она так быстро ушла, потому что, когда он смотрел на них, сердце его будто билось по всему телу, и все неопределенное шушуканье слилось в единый рев желания: он знал теперь – и вовсе это не смешок и не внезапное белого каления слово; просто двое, друг с другом в нераздельности: точно прибой отступил, оставил его на белом, как мел, берегу – и как же хорошо было покинуть наконец такое серое, такое холодное море. Ему хотелось идти с ней рука об руку, но она крепко сжала кулаки и, когда он заговорил с ней, ответила только злым, враждебным, испуганным взглядом; они будто поменялись сейчас ролями: днем под мельницей она была героем, – вот только оружия у него теперь не было, чтобы защитить ее, да если бы и было, он все равно не знал, кого или что им надо убить.
Огни чертова колеса кружились вдалеке; ракеты взлетали, лопались, осыпали Нун-сити радужным дождем; тараща глаза, бродили дети со взрослыми, в самых лучших летних нарядах, и огни карнавала точками отражались в их глазах; из-за тюремной решетки одиноко и печально глядел молодой негр, а девушка топазового цвета стремительно прошла мимо, шурша красными шелковыми чулками, и крикнула ему что-то бесстыдное. На веранде старого треснутого дома старики вспоминали карнавалы прошлых лет, а мальчишки бегали за кусты пописать и смеялись там, щипались. Мороженое выскальзывало из чумазых пальцев, лопались вафельные стаканчики, и капали слезы, но никто не был несчастлив, никто не думал о будущих и прошлых трудах.
Здорово, Айдабела! Как дела, Айдабела? – а с ним никто ни слова, он был чужой, они его не знали; вспомнила только Р. В. Лейси.
– Смотри – маленький мой! – сказала она, когда они появились в дверях «Королевского крова», и собравшиеся там – городские девки с нахальными мордочками и неотесанные фермерские парни с коровьим недоумением в глазах – перестали шаркать под музыкальный автомат; одна из них подошла и пощекотала Джоулу подбородок.
– Где взяла такого, Айдабела? Хорошенький.
– Отвали, соплячка, – ответила Айдабела, усевшись за стойку.
Мисс Роберта Лейси погрозила ей пальцем.
– Сколько раз я тебя предупреждала, Айдабела Томпкинс: этих гангстерских манер я здесь не потерплю. Кроме того, тебе ясно было сказано: забудь сюда дорогу, раз ведешь себя, как Красавчик Флойд – да еще в таком наряде, в каком приличной девушке вообще стыдно появляться. А ну, сгинь со своей паршивой собакой.
– Не надо, мисс Роберта, – вмешался Джоул, – Айдабела ужасно голодная.
– Тогда пускай идет домой и учится мужчинам стряпать (смех); кроме того, у нас тут кафе для взрослых (аплодисменты). Ромео, напомни мне повесить такое объявление. А еще, Айдабела, твой папа сюда заходил, разыскивал тебя, и у меня такое предчувствие, что нажгут тебя сегодня по сдобной попочке (смех).
Айдабела искоса уставилась на хозяйку, а затем – сочтя это, видимо, наиболее выразительным ответом – плюнула на пол; после чего засунула руки в карманы и гордо вышла. Джоул двинулся было за ней, но Р. В. Лейси схватила его за плечо.
– Маленький мой, – сказала она, крутя длинный черный волос, росший из бородавки на подбородке, – с кем же ты компанию водишь, сладенький? Айдабелин папа тут жаловался, что она своей красивой сестричке нос сломала и зубы чуть не все выбила. – Ухмыляясь и почесывая под мышками, как обезьяна, она добавила: – Ты не думай, что Роберта злая, с тобой Роберта добрая, – и вручила ему пакетик соленого арахиса – бесплатно.
Айдабела сперва объяснила ему, куда он может засунуть эти орешки, но потом, конечно, смягчилась и съела их соло. Она позволила взять себя за руку, и они спустились к площади, где праздничным ульем гудел приезжий цирк. Карусель, печальная обшарпанная игрушка, вертелась под звон колокольчиков, а цветные, которых на нее не сажали, стояли кучкой в отдалении и радовались волшебному вращению больше, чем сами седоки. Айдабела отвалила 35 центов на метание дротиков, с тем чтобы выиграть новую пару темных очков взамен раздавленной Джоулом, – и какой же скандал она подняла, когда человек в соломенной шляпе попытался всучить ей трость! Очки она, ясное дело, отбила, но они оказались велики и все время съезжали на нос. В десятицентовом шатре они видели четырехногого цыпленка (чучело) и двухголового младенца, плававшего в стеклянной банке, как зеленый осьминог; Айдабела долго разглядывала его, а когда отвернулась, глаза у нее были влажны: «Бедный малютка, – сказала она. – Бедная крошка». Утиный Мальчик ее развеселил; он и правда был умора: крякал, строил дурацкие рожи, хлопал перепончатыми руками, а один раз даже расстегнул рубашку и показал обросшую белыми перьями грудь. Джоулу больше понравилась миссис Глициния, показавшаяся ему – и Айдабеле тоже – прелестной маленькой девочкой; не верилось, что она лилипутка, хотя сама Глициния сказала, что ей двадцать пять лет и она только что вернулась с больших гастролей по Европе, где выступала перед всеми коронованными особами: ее золотую головку тоже украшала мерцающая каменьями корона; на ногах у нее были изящные серебряные туфельки (удивительно, как ей удавалось ходить почти на цыпочках), а платье из пурпурного шелка, перехваченное желтым шелковым кушаком, ниспадало красивыми складками. Она прыгала и скакала, смеялась, пела песню, читала стихотворение, а когда сошла с эстрады, Айдабела в таком волнении, в каком Джоул ее еще не видел, бросилась к ней и сказала: не откажитесь, выпейте с нами газированной воды.
– С наслаждением, – сказала мисс Глициния, крутя толстый золотой локон. – С наслаждением.
Айдабела была сама услужливость: она принесла кока-колу, нашла, где им сесть, и держала Генри на расстоянии, поскольку мисс Глициния призналась, что опасается животных.
– Честно говоря, – пролепетала она, – я не думаю, что Бог хотел их сотворить.
Младенчески пухлое лицо ее было бледным, эмалевым, и только бантик губ алел помадой; руки у нее порхали так, будто жили отдельной жизнью, и время от времени она поглядывала на них с большим недоумением; они были меньше детских, эти ручки, но худые, взрослые и с крашеными ногтями.
– Очень мило с вашей стороны, – сказала она. – Вот в цирке много обыкновенных притворщиков, а я притворства не признаю, я хочу нести мое искусство людям… многие просто не понимают, как это я подвизаюсь в такой труппе… Слушай, мне говорят, ты же была в Голливуде, получала тысячу долларов в неделю как дублерша Шерли Темпл… а я им говорю: дорога к счастью не всегда асфальтовая.
Допив, она вынула помаду и подвела кукольные губки; и тогда случилась странная вещь: Айдабела попросила у нее помаду и нарисовала нечто клоунское на губах, а мисс Глициния захлопала в ладоши и завизжала от радости. Айдабела отозвалась на это веселье глупой, полной обожания улыбкой. Джоул не понимал, что на нее нашло. Околдовала ее лилипутка? Айдабела продолжала пресмыкаться перед златовласой Глицинией, и ему пришло в голову, что она влюблена. Нет, торопиться ей некуда – времени полно, сказала Айдабела и предложила покататься на чертовом колесе.
– С наслаждением, – ответила мисс Глициния. – С наслаждением.
Громовый всполох тряхнул звезды, от шнуровой вспышки занялся огнем венец мисс Глицинии, и стеклянные алмазы продолжали мерцать под розовыми лампами чертова колеса. Джоул увидел снизу, как ее руки-крылышки слетели на волосы Айдабелы, вспорхнули снова, стиснули мрак, словно поедая его черное содержимое. Люлька пошла вниз, и смех их плескался, как длинный кушак Глицинии; потом они взмыли к новой вспышке молнии и в ней растворились; но все равно он слышал игрушечный флейтовый голос лилипутки, звеневший по-комариному над праздничным гомоном площади: Айдабела, вернись, подумал он, испугавшись, что больше никогда не увидит ее, что она отправится в небо с мисс Глицинией; Айдабела, вернись, я люблю тебя. И она уже стояла рядом и говорила: «Там далеко видать, там прямо небо достаешь», – и уже он сидел в колесе наедине с Глицинией и вместе с ней смотрел, как уменьшается Айдабела под шаткой расхлябанной люлькой.
Ветер раскачивал их, как фонарь; это – ветер, думал Джоул, видя, как трепещут вымпелы над шатрами, как скачут зверьками по земле скомканные бумажки, а дальше, на стене старого дома, где бандит-северянин убил трех женщин, драные афиши танцуют танец скелетов. В люльке перед ними сидела мать в чепце, и ее маленькая дочка баюкала куклу из кукурузной кочерыжки; они махали фермеру, ждавшему внизу. «Слазьте оттуда, – кричал он, – дождь собирается». А их кружило, и ветер шуршал пурпурным шелком Глицинии.
– Сбежали, да? – спросила она, с улыбкой показав заячьи зубы. – Я ей сказала и тебе скажу: мир – пугающее место. – Она широко развела руки и в этот миг показалась ему Вселенной, то есть географией, сушей и морем и всеми городами из Рандольфова альманаха: забавные ручки, порхавшие в пустоте, охватили земной шар. – И какое же пустынное. Я убежала. У меня было четверо сестер (Моди ездила на конкурс красоты в Атлантик-сити как Мисс Мэриленд – такая красавица), высокие интересные девушки, а мама, Царствие ей небесное, была без туфель под метр восемьдесят. Мы жили в Балтиморе, в большом доме, самом видном на нашей улице, и в школу я никогда не ходила; я была такая маленькая, что могла сидеть в маминой корзинке для шитья, а она шутила, что я в игольное ушко пролезу; у Моди был поклонник, который мог поставить меня на ладонь, и в семнадцать лет я сидела за ужином на высоком детском стульчике. Мне говорили: не играй одна, еще есть маленькие люди, пойди найди их, говорили, – они живут в цветах. Сколько я оборвала лепестков, но сирень она и есть сирень, и в розе ни в одной я не нашла людей; кофейной гущей сыта не будешь, и в рождественском чулке – ничего, кроме конфет. Потом мне исполнилось двадцать, и мама сказала, что так не годится, что у меня должен быть жених, и написала письмо в «Любимые» – брачное агентство в Ньюарке. И, представляешь, приехал свататься – но чересчур большой и очень некрасивый, и было ему семьдесят семь лет; ну, все равно, я, может, и пошла бы за него, да он, как увидел, какая я маленькая, сразу же: «Пока» – и обратно на поезд, восвояси. Так и не нашла я себе хорошего маленького человека. Есть дети, но как представлю, что мальчики все вырастут, бывает, даже заплачу иной раз.
Во время этого рассказа голос ее окреп и посуровел, а руки спокойно улеглись на коленях. Айдабела махала им, кричала, но ветер относил ее слова, и мисс Глициния грустно заметила:
– Бедная девочка, думает, что она тоже уродец?
Она положила руку ему на бедро, и пальцы сами, словно совсем не подчиняясь ей, пробрались к нему между ног; она смотрела на руку с напряженным изумлением, но как будто не в силах была убрать ее; а Джоулу, смущенному, но осознавшему вдруг, что он никого на свете больше не обидит – ни мисс Глицинию, ни Айдабелу, ни маленькую девочку с кукурузной куклой, – так хотелось сказать ей: ничего страшного, я люблю тебя, люблю твою руку. Мир – пугающее место – да, он знал это, – ненадежное: что в нем вечно? Или хоть кажется таким? Скала выветривается, реки замерзают, яблоко гниет; от ножа кровь одинаково течет у черного и у белого; ученый попугай скажет больше правды, чем многие люди; и кто более одинок – ястреб или червь? Цветок расцветет и ссохнется, пожухнет, как зелень, над которой он поднялся, и старик становится похож на старую деву, а у жены его отрастают усы; миг за мигом, за переменой перемена, как люльки в чертовом колесе. Трава и любовь всего зеленее; а помнишь Маленькую Трехглазку? Ты к ней с любовью, и яблоки спеют золотом; любовь побеждает Снежную королеву, с нею имя узнают – будь то Румпельштильцхен или просто Джоул Нокс: вот что постоянно.
Стена дождя двигалась на них издалека; задолго стал слышен его шум – словно стая саранчи гудела. Механик чертова колеса стал выпускать пассажиров. «Ой, мы будем последние», – запищала мисс Глициния, потому что они зависли сейчас на самом верху. Стена дождя заваливалась на них, и лилипутка вскинула руки, точно хотела ее оттолкнуть. Дождь обрушился, как приливная волна; Айдабела и все люди бросились бежать.
Внизу, на пустой площадке, стоял один человек без шляпы. Джоул, лихорадочно ища взглядом Айдабелу, сперва и не заметил его. Внезапно с голубым треском замкнулась электрическая линия, и в этот миг человек без шляпы будто осветился изнутри; казалось, до него рукой подать. «Рандольф», – прошептал Джоул, и от этого имени у него перехватило горло. Видение было мимолетным, ибо лампочки тут же потухли, и, когда колесо сделало последнюю остановку, Рандольф уже исчез.
– Подожди, – просила мисс Глициния, расправляя промокшее платье, – подожди меня.
Он выпрыгнул первым и побежал от одного укрытия к другому; Айдабелы не было в десятицентовом шатре: там никого не было, кроме Утиного Мальчика, раскладывавшего при свече пасьянс. Не было ее и среди людей, которые сгрудились под тентом карусели. Он пошел в платную конюшню. Он пошел в баптистскую церковь. И наконец, исчерпав, кажется, все возможности, очутился на веранде старого дома. По пустынному ее простору, взвившись спиралью, с шорохом носились листья; пустые качалки легонько покачивались, старинный плакат птицей пронесся по воздуху и облепил ему лицо; он попробовал освободиться, но плакат льнул к нему, как живой, и Джоул вдруг испугался еще больше, чем при виде Рандольфа: ему не избавиться ни от того, ни от другого. Хотя, чем же так страшен Рандольф? Если он нашел его, то это значит, что он всего-навсего посланец пары телескопических глаз. Ничего плохого Рандольф ему не сделал (еще, до сих пор, пока). Он опустил руки, и – чудо: стоило их опустить, как плакат сам отлетел, подвывая под секущим ливнем. С такою же ли легкостью утишит он другой гнев, безымянный, чей вестник явился в образе Рандольфа? Вьюны из Лендинга протянулись сюда через мили, обвили его запястья, и планы его, его и Айдабелы, лопнули, как расколотое громом небо, – но нет, не совсем еще, надо только ее найти, – и он вбежал в дом: «Айдабела, ты здесь, ты здесь?»