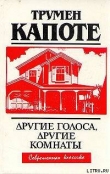Текст книги "Другие голоса, другие комнаты. Летний круиз"
Автор книги: Трумен Капоте
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 16 страниц)
– Давненько вы сюда не заглядывали, мистер Рандольф, – сказал он, придвигая кресла к огню. – Ребенком еще, вроде этого милого мальчика. – Он ущипнул Джоула за обе щеки – а ногти у него были такие длинные, что чуть не прорвали кожу. – С рисовальными книжками сюда приходили; вот бы опять так пришли.
Рандольф наклонил лицо к тенистым глубинам кресла.
– Как это глупо, мой милый; знаешь ли ты, что, раз я приходил сюда ребенком, так здесь почти весь и остался? Я всегда здесь был, так сказать, даровым постояльцем. То есть надеюсь, что был, иначе почему мне так неприятно думать, что я оставил себя где-то еще.
Джоул улегся перед камином, как собака, и отшельник дал ему подушку под голову; весь день, после многих недель в постели, он словно боролся с круговертью, и теперь, блаженно разомлев от тепла, уступил, сдался огненной речке, и та понесла его к порогам; в голубом смежении век многословное журчанье пьющих звучало где-то далеко: отчетливей и ближе были шепоты за стенами и над потолком: кружение бальных туфель, послушных требованиям скрипок, шастанье детей, взад и вперед шаги, слагавшиеся в танец, вверх-вниз по лестнице чок каблучков и девчоночий щебет, рассыпная лопнувших бус, катящихся жемчужин, соскучившийся храп дородных отцов, постук вееров, отбивавших такт, плеск одетых в шелк ладоней, когда вставали кланяться музыканты, белые, как женихи в костюмах-пирожных. (Он смотрел в огонь, томительно желая увидеть их лица, и пламя вылупило эмбрион: в прожилках, трепетное нечто, медленно обретавшее черты, но так и не выступившее из-под ослепительной пелены; он все приближал к нему глаза, уже закипавшие: скажи, скажи, кто ты? Я знаю тебя? Ты мертвый? Ты друг мой? Ты любишь ли меня? Но цветная, без тела, голова так и не выпросталась из-под маски, не разгадалась. Тот ли ты, кого я ищу? – спросил он, не зная, о ком спрашивает, но в полной уверенности, что такой человек должен быть, как есть у всех: у Рандольфа с его альманахом, у мисс Глицинии, фонариком обшаривавшей тьму, у Маленького Света, который помнит другие голоса, другие комнаты, – у всех у них, помнящих или никогда не знавших. И Джоул отодвинулся. Если узнает он лицо в огне, то что еще найдет ему в замену? Легче не знать, лучше небо держать в ладони, как бабочку, которой нет.) Доброй ночи, дамы, сладких снов вам, дамы, прощайте, дамы, мы покидаем вас! Прощальные вздохи складываемых вееров; грубый топот мужских сапог; крадущиеся шажки, смешки девочек-негритянок, их бег на цыпочках по громадным сотам, задувание свеч, задергивание штор на ночных окнах: отголоски оркестра гуляют по дому сна.
Потом послышалось вполне земное бряцание чего-то таскаемого по полам, и Джоул, пораженный этим грохотом, повернулся к остальным. Они тоже услышали. Рандольф, разрумянившийся or выпитого и от разговора, нахмурился и поставил стакан.
– Мул, должно, – с хмельным хохотком сказал отшельник, – бродит там где-то.
Джоул вспомнил о плевательнице, привязанной к ноге Джона Брауна: она гремела о ступени, кувыркалась как будто над головой, то дальше, то совсем близко.
– Как он туда забрался? – с тревогой уже спросил отшельник. – Нечего ему там делать, убьется, дурак чертов.
Он подержал в огне толстую лучину и с ней поплелся в танцевальный зал. Джоул отважно двинулся за ним. А пьяный Рандольф идти не мог.
Реяли белые хоры поющих крыл вокруг факела, прыгало и качалось все, до чего досягал колеблемый ими свирепый свет: горбатые борзые неслись по залам, топча неслышными тенями лап паучьи клумбы, и динозаврами в вестибюле маячили ящерицы; кукушка с коралловым языком, навеки замершая на трех часах, раскинула крылья, как коршун, как яростный ястреб.
Они остановились перед лестницей. Мула нигде не было видно; громыхание опознавательной плевательницы смолкло.
– Джон Браун!.. Джон Браун!.. – Голос Джоула расширил тишину: он поежился от мысли, что в каждой комнате какое-то бессонное что-то слушает его.
Маленький Свет выше поднял факел – и осветился балкон, нависший над вестибюлем: там в чугунной неподвижности застыл мул.
– Ты слышишь, уважаемый, спустись оттудова! – велел отшельник, и Джон Браун вскинулся, попятился, захрапел, забил копытом; потом, будто обезумев от ужаса, кинулся вскачь – и, проломив балконные перила, прыгнул.
Джоул сжался, ожидая грохота, но ничего не произошло; когда же он посмотрел опять, мул висел на балке, захлестнутый за шею веревками-поводьями, и качался; в его больших, как лампы, глазах, зажженных факелом, золотилось невозможное лицо смерти, та голова из огня.
Утро набиралось в комнату, обозначился в углу тюк из одеяла – это спал Маленький Свет. Рандольф поднялся, опрокинув три порожние бутылки из-под виски, и шепнул: «Не буди его». Пока пробирались по гостинице, Джоул не открывал глаз, боясь увидеть висельника, и его вел Рандольф; Рандольф же только судорожно вздохнул при виде мула – он ни разу не обмолвился о несчастье, ни разу ни о чем не спросил: словно так и было задумано, что они вернутся в Лендинг пешком. Утро было как чистая аспидная доска, на которой напишется будущее; будто конец наступил, и все, что было прежде, стало птицей, отлетело на дерево среди пруда: буйная радость владела Джоулом, он бегал, он носился, он пел, он любил, он поймал маленькую квакшу, потому что любил ее, и отпустил, потому что любил, и смотрел, как она скачет, прыгает вместе с его гулко скачущим сердцем; он обнимал себя, живого и веселого, молотил по воздуху, бодался, как козел, прятался за кустами, выскакивал: гав! «Смотри, Рандольф, – сказал он, напялив на голову тюрбан из мха, – смотри, кто я?»
Но Рандольфу было не до него. Он шел с угрюмо сжатым ртом. Шел, словно по палубе в качку: то его тащило вперед, то бросало из стороны в сторону, и его налитые кровью глаза действовали, как неисправный компас, – он, казалось, не знал, в каком направлении движется.
– Я – это я, – вопил Джоул. – Я – Джоул, мы с ним – одно и то же.
Он поглядел вокруг, на какое бы влезть дерево: он взберется на самую макушку и там, на полдороге к небу, раскинет руки и потребует себе весь мир. Далеко убежав от Рандольфа, он стал карабкаться на березу, но на середине кроны замер, обняв ствол: голова закружилась; с высоты он поглядел назад и увидел Рандольфа, который шел по кругу с вытянутой вперед рукой, точно играл в жмурки. Ковровые шлепанцы свалились с него, но он не заметил. Время от времени он встряхивался, как мокрое животное. И Джоул вспомнил о муравье. Ведь предупреждал! Ведь говорил, что это опасно! Или это просто виски бродит у него в голове? Но почему тогда Рандольф тихий? Пьяные тихими не бывают. Это было непонятно. Рандольф как будто был в трансе.
И тогда Джоулу открылась правда: он увидел, как беспомощен Рандольф: парализованный хуже мистера Сансома, больший ребенок, чем мисс Глициния, что может он один, вне дома? Только круг описать, ноль своей не-жизни. Джоул съехал по стволу; он не добрался до верха, но это не имело значения: он знал теперь, кто он такой, знал, что он сильный.
Дорогу назад он с грехом пополам отыскал. Рандольф не проронил ни слова. Дважды он падал и сидел с младенчески важным лицом, пока его не поднимал Джоул. А один раз наткнулся на пень. После этого Джоул взял его за полу.
Длинная, как проход в соборе, в пасмурном лиственном свете открылась тропа, потом ориентир: «Тоби, убитая кошкой». Миновав лунное дерево, под которым, не обозначенный камнем, лежал Джизус Фивер, они вышли к Лендингу с тыла и вступили в сад.
Глазам их открылось нелепое зрелище: присев возле сломанных колонн, Зу дергала плантаторский колокол, словно пытаясь вывернуть его с корнем, а Эйми с растрепанными волосами и разводами грязи на лице, напоминавшими боевую раскраску, расхаживала рядом, руководя ее действиями.
– Кверху тяни, глупая, кверху… да это же ребенку ясно!.. А ну, еще раз! – Тут она увидела Рандольфа, лицо у нее исказилось, щека задергалась, и она закричала ему: – Не вздумай меня останавливать, это тебе не удастся! Ты не всем тут владеешь, все это такое же мое, как твое, и даже больше мое, если бы кто знал правду, – я буду делать то, что мне угодно, не тронь меня, Рандольф, тебе будет плохо! Я пойду к шерифу, я объеду всю страну, я буду выступать повсюду. Ты думаешь, что нет, – но я сделаю это, сделаю…
Рандольф не взглянул на сестру и пошел через сад так, будто ее тут не было, а она побежала за ним, стала дергать его за рукав, теперь уже умоляя:
– Рандольф, ну отдай мне его, пожалуйста. Я хорошо себя вела, сделала все, как ты велел: сказала, что они ушли, надолго ушли, охотиться на белок; я надела хорошее серое платье, испекла кексы, и в доме было убрано, – я ей правда понравилась, Рандольф, она сама сказала и объяснила про магазин в Нью-Орлеане: там могут взять мои серьги, и колокол, и зеркало из передней… ты не слушаешь, Рандольф! – Она ушла за ним в дом.
Едва она скрылась, Зу мстительно плюнула на колокол и дала ему такого пинка, что он опрокинулся с гулким звоном.
– За эту дрянь никто не даст денег. Сама с ума спятила и мисс Эйми голову морочит.
Джоул постучал по колоколу.
– Это кто спятила?
– Была тут… не знаю кто. – И вдруг Зу будто ушла от него, не сходя с места: речь ее замедлилась, слышалась как бы издалека: – Какая-то из Нью-Орлеана… с девочкой некрасивой, у ней машинка в ухе – глухая, стало быть, девочка. Кто их знает. Ушли они.
– У меня сестра двоюродная глухая, Лоис, – сказал Джоул, думая о том, как прятал от нее слуховой аппарат, как плохо с ней обходился – до слез доводил малышку! Жаль, денег нет. Но когда они встретятся – ух, какой он будет добрый, и говорить будет громко, чтобы каждое слово слышала, и в карты с ней сядет играть. А подразнить все-таки забавно. Один разик. А Эллен на его письма так и не ответила. Ну и черт с ней. Не очень надо. Родственница, называется. А наобещала сколько. Любит, сказала. А сама забыла. Ну и ладно, и он забыл; забыла и забыла, подумаешь. А еще говорила, любит. – Зу… – сказал он и, подняв глаза, увидел только, как она скрылась за изгородью туи, и туя колыхнулась и замерла.
Будто колокол ударил в саду и лег переливчато-зеленый, белесо-бесплотный навей одиночества, и Джоул закинул голову, как если бы следил за змеем: на солнце нашли облака, он ждал, когда они пройдут, – когда они пройдут и он опустит взгляд, может совершиться какое-то чудо: окажется вдруг, что он сидит на бордюрном камне Сент-Дивал-стрит или читает перед кинотеатром «Немо» афишу на неделю – а почему нет? Все возможно, небо везде одно, только то, что под ним, – разное. Облака двигались медленнее стрелок в часах, и, пока он ждал, сделались грозово-темными, сделались Джоном Брауном и жуткими мужчинами в панамах, гостиницей «Морок», старым псом Айдабелы… прошли, и солнцем оказался мистер Сансом. Джоул опустил взгляд. Чуда не совершилось; но что-то совершилось – или вот-вот должно было. Он сидел, оцепенев от предчувствия. Стебель розы перед ним отбрасывал тень, как в солнечных часах: час прополз, за ним другой, растворилась черточка тени, все слилось в саду, пришло в движение.
Как будто он вел счет про себя, и, когда дошел до нужного числа, интуиция и разум сказали ему: пора. Потому что он вдруг встал и поднял взгляд на окна Лендинга.
Сознание его было совершенно чистым. Как фотокамера, ждущая, чтобы перед объективом появился предмет. Желтела стена под копотливо садившимся октябрьским солнцем, и холодными зеркалами осени рябились окна. Из одного кто-то наблюдал за ним. В нем все оцепенело, кроме глаз. Глаза знали. Окно было Рандольфа. Слепящий закат медленно стекал со стекла, темнел, и словно снег уже валил там, складывая из хлопьев снежные глаза, волосы: лицо трепетало, как крылья прекрасного белого мотылька, улыбалось. Она манила его, серебряная, блестящая, и он понял, что должен уходить: без страха, без колебаний, он задержался только на краю сада и, точно спохватившись, оглянулся на погасшую палую синь, на мальчика, которого там оставил.
Летний круиз
ГЛАВА 1
– Ты странно ведешь себя, милая, – сказала мать, и Грейди, пристально глядевшая сквозь букет из папоротника и роз, стоявший на середине стола, снисходительно улыбнулась: да, я непостижимая – ей нравилось так думать.
Но тут Эппл, старше на восемь лет, к тому же замужем, – вот уж в ком не было ничего непостижимого, – заявила:
– Грейди просто дурочка, я бы с радостью поехала с вами. Ах, мамочка, подумать только: через неделю в это самое время вы будете завтракать в Париже! Джордж все обещает, что мы тоже съездим… но я не знаю, получится ли. – Она замолчала, взглянув на сестру. – Грейди, ради бога, ну зачем тебе торчать в Нью-Йорке в такую жару?
Грейди хотела одного: чтобы ее оставили в покое; но нет, опять завели свою волынку, а ведь пароход отплывает уже сегодня, и все, что она могла им сказать, уже сказано. Не хватает только открыть им правду, а это совершенно не входило в ее планы.
– Я еще ни разу не оставалась здесь летом, – сказала она, переводя взгляд на окно: из-за блеска несущихся по дороге машин июньская утренняя тишина Сентрал-парка казалась особенно благодатной. Ярко-зеленая глазурь весны подсыхала на солнце, которое, припекая совсем по-летнему, купалось в листве деревьев, росших возле отеля «Плаза», где они завтракали. – Можете считать меня сумасбродкой – ну и пожалуйста.
Она улыбнулась, подумав, что ляпнула что-то не то: родные и так уже почти считали ее сумасбродкой. Когда Грейди было четырнадцать, однажды она вдруг с ужасом осознала, и очень остро, что не нравится матери, хотя та ее и любит. Сперва она думала, что мать считает ее менее красивой, менее веселой и куда более упрямой, чем Эппл. Однако позже, к великому разочарованию сестры, стало очевидно, что Грейди гораздо привлекательнее, и она перестала выискивать причины материнской неприязни. Ведь все дело было, разумеется, в том – теперь-то Грейди это прекрасно понимала, – что и сама она подспудно всегда, с самого раннего детства, недолюбливала мать. И все же этим чувствам недоставало огня, и обитель их враждебности была, правда скромно, украшена взаимной любовью, которую миссис Макнил на сей раз выразила тем, что прикрыла руку дочери ладонью и проговорила:
– И все равно, доченька, мы будем о тебе беспокоиться. Как же иначе? Я просто не знаю. Просто не знаю. Отнюдь не уверена, что ты справишься. Тебе ведь только семнадцать лет, и ты никогда не оставалась одна, совсем одна.
Мистер Макнил, всегда говоривший таким тоном, будто делает ставку в покере, но вообще-то чаще помалкивавший – отчасти потому, что жена его не любила, когда ее перебивают, отчасти же потому, что он был сильно утомлен жизнью, – сунул сигару в кофейную чашку, чем вызвал содрогание у Эппл и миссис Макнил, а затем изрек:
– Черт возьми, когда мне было восемнадцать, я уехал в Калифорнию на целых три года!
– Но Леймонт… ты же мужчина.
– Какая разница? – проворчал он. – Между мужчинами и женщинами уже давно нет никакой разницы. Ты сама мне говорила.
Разговор принимал неприятный оборот, и миссис Макнил, откашлявшись, возразила:
– И все равно, Леймонт, меня очень беспокоит наш отъезд…
На Грейди накатила волна неудержимого смеха, радостного волнения, от которого грядущее лето казалось ей нетронутым белым холстом, на который ей предстояло нанести первые, пусть неумелые, но самостоятельные мазки. И еще ее веселило то – хотя лицо ее ни чуточки не дрогнуло, – что они ничего не заподозрили. То есть вообще ничего. Искорки света, подрагивавшие на серебряных столовых приборах, словно бы поощряли ее восторг и в то же время предупреждали: осторожнее, милая. Но вдруг откуда-то донеслось: «Грейди, тебе есть чем гордиться, ты сумеешь высоко держать свое знамя, и пусть оно вьется на ветру». Чей же это голос? Быть может, одной из роз? Ведь розы умеют говорить, Грейди где-то читала, что они – средоточие мудрости. Она снова взглянула в окно; смех рвался наружу, разжимал ее губы: этот сияющий, весь в солнечных пятнах, весенний денек предназначен ей, Грейди Макнил, розам, умеющим говорить!
– Что тут смешного, Грейди? – Голос Эппл прозвучал не очень-то ласково, будто она разговаривала с назойливым капризным ребенком. – Мама задала тебе простой вопрос, а ты смеешься, как будто она сморозила глупость.
– Грейди вовсе не считает меня глупой, разумеется нет, – всполошилась миссис Макнил, но прозвучало это не слишком убедительно.
Глаза матери, прикрытые паутинкой вуали, которую она при этих словах опустила на лицо, приобрели несколько смущенное выражение, как всегда, когда Грейди бывала, по ее мнению, чересчур надменна и строптива. Они с дочерью никогда не были особенно близки, и миссис Макнил считала, что это даже к лучшему: слишком плохо они понимали друг друга. И все же невыносимо было думать, что Грейди, поскольку они так далеки, смеет смотреть на мать свысока; при одной этой мысли у миссис Макнил начинали дрожать руки. Однажды, когда Грейди была еще девчушкой-сорванцом со стрижеными волосами и шершавыми коленками, мать не смогла справиться с ними, со своими руками: когда это случилось, разумеется не в самый легкий для любой женщины период, она, не выдержав холодного равнодушия Грейди, сильно ее отшлепала. Впоследствии, если вдруг накатывало раздражение, миссис Макнил покрепче цеплялась руками за что-нибудь твердое: ведь в тот раз она сорвалась потому, что Грейди удалось смутить ее оценивающим взглядом своих зеленых глаз, похожих на два маленьких моря, удалось увидеть ее насквозь и словно направить прожектор на кривое зеркало ее тщеславия; и поскольку миссис Макнил была женщиной ограниченной, то впервые столкнулась с волей более сильной, чем ее собственная.
– Разумеется, нет, – повторила она шутливо, вся светясь напускной веселостью.
– Извини, – сказала Грейди, – ты о чем-то спросила? Похоже, у меня что-то со слухом.
Она специально произнесла последнюю фразу так, чтобы та прозвучала скорее как печальное откровение, чем как извинение.
Неужели! – прощебетала Эппл. – Уж не влюбилась ли ты?
Сердце Грейди застучало чаще, словно отбивая сигнал тревоги, серебряная ложка дрогнула в ее руке, и колечко лимона, которое она лишь наполовину успела выдавить в чай, перестало истекать соком. Девушка метнула быстрый взгляд на сестру, чтобы проверить, чего больше в ее глазах – прозорливости или глупости? Удовлетворенная результатом своих наблюдений, она выжала лимон до конца.
– Мы о платье, дорогая, – объяснила мать. – Просто я подумала, что его можно заказать и в Париже – Диор, Фат, что-нибудь в этом роде. В конце концов, это может оказаться даже дешевле. Бледно-зеленый смотрелся бы божественно, это же твой цвет, и он так пошел бы к твоим волосам… Напрасно ты так коротко подстриглась, тебе не идет, и это не очень-то… не очень-то женственно. Жаль, что на первый выход в свет нельзя надевать зеленое. Но у меня возникла другая идея: как тебе белый муаровый шелк?
Грейди раздраженно ее перебила:
– Если вы опять о бальном платье, то мне ничего не надо. Не надо мне никаких балов, я вообще не собираюсь на них ходить, во всяком случае на такие, вы понимаете, о чем я. Не позволю делать из себя дуру.
Из множества испытаний, уготованных миссис Макнил в этой жизни, это было самым невыносимым: ее всю затрясло, будто какие-то сверхъестественные колебания наполнили вдруг пределы столовой отеля «Плаза», который являл собой воплощение устойчивости и трезвого благоразумия. «Я тоже не позволю делать из себя дуру», – могла бы она ответить дочери, ибо, продумывая предстоящий ее выход в свет, она уже постаралась на славу. И хотела даже нанять специального секретаря. Более того, она имела полное право сказать, что вся ее светская жизнь, каждый смертельно скучный обед, каждое дурацкое чаепитие (именно так – дурацкое!) были выстраданы ею ради будущего дочерей: чтобы их выход в свет ознаменовался блестящим приемом. Надо сказать, светский дебют самой Люси Макнил был событием громким и запоминающимся: ее бабка, которая справедливо слыла одной из первых красавиц Нового Орлеана и вышла замуж за мистера Ла Тротта, сенатора от Южной Каролины, одновременно представила свету Люси и двух ее сестер – случилось это на Балу камелий, который был дан в Чарльстоне в апреле 1920 года. Вот уж был выход так выход: все три сестры Ла Тротта тогда еще учились в школе, и их светские похождения ограничивались посещением церкви. Той ночью Люси с такой жадностью кинулась в водоворот танца, что много дней потом не сходили с ее ног синяки, оставленные этим первым выходом в жизнь. С такой жадностью целовала она губернаторского сына, что не один месяц потом ее щеки пылали от стыда и раскаяния, потому что сестры – они тогда были девушками, ими же и остались – утверждали, будто от поцелуев рождаются дети. Но бабушка, которой Люси со слезами во всем призналась, сказала, что нет, дети от поцелуев не рождаются – леди, впрочем, тоже. Вздохнув с облегчением, Люси продолжила в том же духе, и ее первый год прошел триумфально. Оно и понятно: на нее было приятно взглянуть и к тому же не слишком противно слушать – это давало огромные преимущества, поскольку девушек на выданье было не много, и молодым кавалерам приходилось выбирать между такими несоблазнительными яблочками, как Хейзл Вир Намланд и барышни Линкольн. Кроме того, во время зимних каникул родные матери, урожденной Фермонт, коренные ньюйоркцы, устроили в честь Люси роскошный бал, в этом самом отеле, в «Плазе». И хотя сейчас она была почти в том же самом месте и изо всех сил старалась вспомнить хоть что-нибудь – воспоминания ускользали, – она была уверена только в одном: все тогда сияло золотом и белизной, и на ней было жемчужное ожерелье матери, и – ах да! – тогда она и познакомилась с Леймонтом Макнилом – не ахти какое событие: потанцевала с ним один раз и тут же забыла об этом. На мать он, однако, произвел впечатление: хотя Леймонт Макнил не был известен в свете и ему не исполнилось еще тридцати, тень этого молодого человека уже маячила над Уолл-стрит, а посему он считался выгодной партией – заключение это было вынесено если не в сонме ангелов, то по крайней мере в кругу людей лишь не намного ниже статусом. И молодого человека позвали на обед. А отец Люси пригласил его в Южную Каролину, на утиную охоту. «Бравый юноша» – таков был вердикт старой доброй миссис Ла Тротта, и поскольку для нее это было главным критерием, считалось, что Макнил прошел испытание. Семь месяцев спустя Леймонт Макнил, приглушив свой зычный «покерный» голос до нежной дрожи, произнес полагающуюся реплику, и Люси, которой до этого делали предложение лишь дважды, причем одно из них было нелепым, другое – шутливым, ответила: «Ах, Леймонт, я самая счастливая девушка на свете!» Ей было девятнадцать, когда у них родился первый ребенок – Эппл: забавно, но девочку назвали так потому, что Люси Макнил во время беременности поедала яблоки корзинами.[5] Однако ее бабушка, приехавшая на крестины, сочла это скандальной вольностью: она сказала, что это джаз и непутевые двадцатые ударили Люси в голову. Но выбор яблочного имени оказался последним озорным взмахом руки вослед затянувшемуся детству: год спустя Люси потеряла второго ребенка, который родился мертвым. Это был сын, и она назвала его Грейди в память о брате, погибшем на войне. Люси долго тосковала; Леймонт нанял яхту, и они отправились в круиз по Средиземному морю. И в каждом ярко-синем порту, от Сен-Тропе до Таормины, она устраивала грустные, слезливые вечеринки с мороженым для местных на редкость стеснительных мальчишек, которых ватагами пригонял для нее с берега пароходный стюард.
Но по возвращении в Америку этот слезливый туман внезапно улетучился: Люси вдруг обнаружила, что существуют Красный Крест, Гарлем, бридж, стала всерьез интересоваться деятельностью церкви Святой Троицы, журналом «Космополитен», республиканской партией; не было организации, которую она не опекала бы, не поддерживала бы деньгами и личным сочувствием. Одни говорили, что она восхитительна, другие – что она отважна, а кое-кто попросту ее презирал. Однако эти немногие составляли энергичную клику, и за несколько лет совместными усилиями им удалось загубить ряд начинаний Люси. Она выжидала; она ждала Эппл: если выход девушки в свет становится триумфом, в распоряжении ее матери оказывается, фигурально выражаясь, атомное оружие. Но судьба обвела Люси вокруг пальца: началась новая война, а в военное время торжественный вывод в свет дочурки выглядел бы вульгарно; вместо этого Макнилы снарядили для Англии санитарный отряд. А теперь и Грейди пыталась обвести Люси вокруг пальца. Руки ее укоризненно постукивали по столу, взлетали к лацканам жакета, теребили брошь с бриллиантами коричного цвета: это было уже слишком, Грейди всегда норовила обвести ее вокруг пальца – уже тем, что не родилась мальчиком. Но она все равно назвала ребенка Грейди, и бедная миссис Ла Тротта, в раздражении доживавшая последний год своей жизни, рассердилась настолько, что объявила Люси ненормальной. А Грейди так и не стала Грейди – ребенком, о котором Люси мечтала. И в данном случае Грейди тоже слишком далеко до идеала: Эппл – вот кому, при ее милой игривости, при ее чувстве стиля, перенятым у Люси, успех был бы обеспечен, тогда как перспективы Грейди вызывали сомнения – хотя бы уже потому, что она никогда не пользовалась благосклонностью молодых людей. Если же она не будет слушаться матери – провала не избежать.
– Грейди Макнил, твой выход в свет состоится во что бы то ни стало, – объявила Люси, натягивая перчатки. – Ты будешь в белом шелковом платье, с букетом зеленых орхидей: это слегка оттенит цвет твоих глаз и рыжие волосы. И мы наймем оркестр, который Беллы приглашали для Харриет. И, Грейди, учти: если ты намерена и дальше капризничать по этому поводу, я никогда больше не стану с тобой разговаривать. Леймонт, попроси, пожалуйста, счет.
Грейди предпочла промолчать; она знала, что отец и сестра не так спокойны, как может показаться: они ждут, что она снова начнет препираться, – и это лишний раз показывало, как они к ней невнимательны, как плохо знают ее характер. Еще месяц-два назад, если бы кто-то посмел вот так унизить ее достоинство, она немедленно помчалась бы к машине и, до отказа вдавив педаль, рванула бы прочь; потом она нашла бы Питера Белла и излила бы ему свою злость в каком-нибудь придорожном кабаке – она бы заставила всех их поволноваться. Но теперь ей было совершенно безразлично. Отчасти она даже сочувствовала честолюбивым замыслам Люси. Но до всего этого еще так далеко, впереди – целое лето; и ничто не предвещало того, что это вообще когда-нибудь случится, это белое шелковое платье и оркестр, который Беллы приглашали для Харриет. Пока мистер Макнил оплачивал счет, а остальные направились к выходу, Грейди приобняла Люси и с отроческой (подростковой) неловкостью нежно чмокнула ее в щеку. Этот ее жест неожиданно всех объединил; они стали семьей: Люси вся засветилась – ее муж, ее дочки… ей есть чем гордиться; а Грейди, при всех ее странностях и упрямстве, что бы там кто ни говорил, – просто чудесный ребенок, и незаурядная личность.
– Дорогая моя, – сказала Люси, – я буду по тебе скучать.
Шедшая впереди Эппл вдруг обернулась:
– Грейди, а ты сегодня на машине?
Грейди помедлила с ответом: в последнее время все, что бы Эппл ни говорила, казалось ей подозрительным – в самом деле, почему ее так интересует, на чем она приехала? А что если Эппл знает? Только не это…
– Я приехала гринвичским поездом.
– Так ты оставила машину дома?
– А что, это важно?
– Нет, то есть да. И нечего на меня рявкать. Я просто думала, что ты подбросишь меня на Лонг-Айленд. Я обещала Джорджу заехать домой и взять его энциклопедию, тяжеленную такую. Уж очень не хочется тащить ее в поезд. Если мы обернемся быстро, ты могла бы искупаться.
– Извини, Эппл, не могу. Машина в мастерской; я отдала ее еще позавчера: спидометр заклинило. Наверное, уже починили, но у меня, вообще-то, еще встреча в городе.
– Ага, – проворчала Эппл. – И с кем же, если не секрет?
Это был очень даже секрет, но Грейди ответила:
– С Питером Беллом.
– С Питером Беллом? Господи! Ну почему же все с ним да с ним? Он считает себя очень умным.
– Он действительно умный.
– Эппл, – одернула ее Люси, – с кем дружит Грейди – не твое дело. Питер – чудесный мальчик, а его мать была подружкой невесты у меня на свадьбе. Помнишь, Леймонт? Она тогда поймала букет. Но разве Питер еще не в Кембридже?
И тут Грейди услышала, как с другого конца холла донеслось:
– Эй, Макнил!
Только один человек на свете так ее называл, и с сделанным восторгом, поскольку момент для встречи был не самый удачный, она обернулась и убедилась, что опасения ее оправдались. Молодой человек, одетый хорошо, но как-то нелепо (строгий фланелевый костюм с белым вечерним галстуком, ковбойский ремень с блестящими побрякушками, а на ногах – теннисные туфли), стоял у табачного прилавка и запихивал в карман сдачу. Он двинулся к Грейди, и она сама пошла ему навстречу; в его походке была небрежная грация, присущая баловням судьбы, ждущим от жизни только самого лучшего.
– Выглядишь сногсшибательно, Макнил. – Он по-свойски ее приобнял. – Но до меня тебе далеко: я только что из парикмахерской.
Справедливость сего заявления подтверждалась безупречной свежестью его аккуратно выбритого, тонко очерченного лица, а новая стрижка придавала ему вид невинный и беззащитный.
Грейди с ребяческой грубоватостью пихнула его в плечо:
– А почему ты не в Кембридже? Неужели юриспруденция – это так скучно?
– Очень скучно, но еще скучнее мне станет, когда мое семейство узнает, что меня выперли.
– Ты врешь, – рассмеялась Грейди. – Но все равно, я хочу услышать подробности. Правда, сейчас мы ужасно спешим. Папа с мамой плывут в Европу, и мне нужно посадить их на пароход.
– А можно мне с вами? Ну пожалуйста, мисс!
Грейди задумалась, но потом крикнула:
– Эппл, скажи мамочке, что Питер поедет с нами!
И Питер Белл, стоявший за спиной Эппл, показал ей нос и побежал на улицу ловить такси.
Им пришлось взять два такси; Грейди и Питер сели во второе – задержались, чтобы забрать из гардероба собаку Люси, маленькую таксу со злыми глазками. В крыше машины был люк; над ними проносились летящие голуби, облака и башни; солнце, метавшее стрелы, оперенные летом, звенело в стриженых волосах Грейди, сиявших, как новенький пенни, а ее худенькое подвижное лицо, на котором проступали изящные, словно рыбий хребет, косточки, вспыхивало румянцем под ударами стрел медового света.
– Если тебя вдруг спросят, – предупредила она, зажигая Питеру сигарету, – Эппл или кто-нибудь еще, пожалуйста, скажи им, что у нас с тобой свидание.