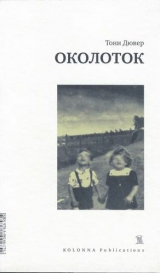
Текст книги "Околоток"
Автор книги: Тони Дювер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц)
СНЕГОВИК
Когда я был маленьким, один мальчик не хотел расти. Он был старше нас, но интересовали его мы, дети. Его не стали отдавать в учение и просто нанимали на фермах. Из двух предложенных работ он выбирал ту, что способен выполнить ребенок, а от другой отказывался: его считали хитрым.
Тем не менее, он всегда находил работу. Этот мнимый ребенок соглашался на то, на что не соглашаются настоящие дети – как за уроки, так и за ласки либо пинки. Иметь такого идиота – большое счастье: он хорошо зарабатывал на жизнь.
Из всех его ремесел мы, дети, предпочитали ремесло снеговика, которым он занимался зимой, когда нечего было делать в поле. Во время уроков он колол дрова, сносил пощечины от женщин, насильно откармливал гусей перед Рождеством. Но с наступлением темноты он приходил и дожидался нас возле школы, на черно-белой улице, где мокрый туман разносил запахи из дымоходов. Он засыпал себя до пояса снегом, словно песком, только стоя. Нам оставалось закрыть верхнюю часть. Мы превращали его в огромную снеговую статую, толщиной в три человека: он божился, что внутри прекрасно дышится, и малыши из любопытства засовывали нос внутрь снеговика. Носы мокли, щеки пылали, ноздри горели, блаженные лица изумленно смеялись, словно увидели что-то небывалое – диковинное!
Потом снеговика разрушали. Старшие мальчики часто прятали камень в снежке, который бросали: простачок их смущал, они боялись стать такими же и швыряли со всей силы, целясь в лицо. Поначалу снег смягчал удары, но затем осыпался, и тогда показывался ярко-красный кусочек лица -красный от крови. Спереди вскоре расплывалось большое алое пятно. Малыши из робости бросали едва слепленные снежки, остальные пинали его под зад, чтобы обрушить снежные глыбы и потом закричать: жопа ну у тебя и жопа смотри какая жопа!
Когда совсем темнело, мы уходили. Мальчик высвобождался полностью, протирал раны снежком и искал под фонарем небольшие подарки, которые дети раскидывали специально для него: ведь мы оставляли всякий раз орехи, свисток, птичье перо, оцепенелую лягушку, драже с еловым вкусом, рогатку, листик, баранью косточку, карандаш, красный плод, букет из цветочков, пробивающих снежный покров перед самой весной. Он возвращался один, с полными руками, из носа текла кровь, взгляд был дерзновенным от счастья. Мы любили его.
ГРАВЕР
Мы показывали старые номера прежних владельцев, выгравированные на фронтонах некоторых домов. Эти произведения искусства насчитывали несколько веков, и о них рассказывали следующую историю.
В былые времена жил ребенок, который каким-то чудом умел произносить слово «нет» с самого рождения. Но, хотя он все понимал, так и не удалось научить его ни одному другому слову.
Он вызывал всеобщее восхищение, когда писал буквы «Н», «Е» и «Т», простые либо украшенные, в том возрасте, когда обычные грудные младенцы едва начинают сосать свои ножки.
Маленьким мальчиком он приводил в восторг мать, которая прикидывалась несчастной лишь для того, чтобы набить себе цену. В душе она радовалась, что ответы ее ребенка были настолько предсказуемыми, и, внешне ее жалея, втайне мы ей завидовали: многим женщинам тоже хотелось иметь карапуза, который не говорил бы ничего лишнего, но они боялись слишком уж сильно об этом мечтать, ведь младенец мог оказаться и девочкой.
Наш мальчик настолько преуспел в своем искусстве, что, став взрослым, разбогател, рисуя буквы «Н», «Е» и «Т» в красивых манускриптах для монастырской братии. Он также высекал их в камне, вырезал на дереве, на заказ выводил инициалы вельмож и деревенских жителей с подходящими именами, каковых в ту пору было несколько. Один хорватский принц даже пригласил его в свой дворец и пожаловал пенсию.
Никто бы не поверил, что этот гравер ведет точно такую же жизнь, как и все остальные люди. На старости он даже умудрялся говорить «нет» столь находчиво, что кумушки и дети считали его святым. Он научил своему искусству нескольких подмастерьев, не оставил никакого потомства и умер молча.
ПАЛАЧ
Еще мне рассказывали о легендарном ребенке, который всегда говорил «да». Впрочем, он знал и другие слова. Просто «да» было его любимым ответом, позволявшим проказничать, не навлекая на себя упреков.
С самого начала он принес родителям столько горя, что отец бросился в колодец: это был общинный колодец, и вода в нем полностью испортилась. Ну а мать повторно вышла замуж за мельника, и он от этого умер.
Затем мальчик рос в обществе свиней, за которыми присматривал, а также солдафонов, женщин и священников, с которыми беседовал. Одним словом, он стал палачом и отрубил семьдесят голов.
После того как он впал в маразм, его «да» превратилось в вопрос, так что он непрестанно твердил «Да? Да?» и одновременно колол и щипал соседей, прохожих, малышей, путешественников.
Когда он умер, мы вздохнули с облегчением – так глубоко страдали мы от этого зеркала, что отражало каждого жителя деревни. Мы бросили его труп на съедение волкам, и с тех пор они стали кровожадными.
МЕЧТОПИСЕЦ
У нас было принято иметь свой портрет, который можно показать. Фотография, даже в старинном вкусе, для этой цели не подходила. Нас должен был изобразить творец воображаемых миров. Этот человек – всего-навсего художник, весьма умелый и крайне покладистый, хоть и неглупый -всегда был желанным гостем.
Он жил вместе с нами и ел нашу пищу, у него не было собственного жилья, он сам изготавливал свои инструменты, сам собирал, обрабатывал, растирал минералы и краски, а также занимался любовью со всем, что движется, смотря по настроению хозяев, их детей и скотины.
Его принимали у себя на то время, пока он писал заказанный портрет. Ему не нужно было вас видеть, но он должен был вас слышать. На самом деле, эти портреты не воспроизводили модель, а воплощали образ того, кем мы мечтали быть.
Женщина или старая дева говорила: «Мне хотелось бы иметь маленький носик, большие, добрые и живые глаза, широко расставленные зубы, чтобы губы изгибались вот так, когда я хочу понравиться, животик, ляжку, изящную руку». Художник изображал, какими мы желали себя видеть, а мы смотрели на результат и добавляли: «Нет, мне хочется еще небольшой локон вот здесь, на лбу, румяные скулы, блестящие колени и выгнутые ступни, левая слегка оттянута назад, просто согнута вот так». Художник дорисовывал.
Зрелые мужи были такими же кокетливыми, как и женщины: вы больше нигде не встретите столько мужчин, мечтающих быть красивыми, как в нашей деревне.
Едва портрет был закончен, его выставляли на самом видном месте жилища. С тех пор мы легче переносили самих себя и от этого терпимее относились к другим. Вы приходили к кому-нибудь в гости, а хозяин лукаво прятал лицо и говорил:
– Подождите, подождите! Взгляните-ка на меня!
И он подводил вас к своему изображению. Это был он – ни бесформенной головы, ни брюха чревоугодника: идеальная красота, которая должна распускаться в постели, прогуливаться посреди ясной весенней свежести, тянуться к лицам любимых. Это и впрямь предназначалось для вас.
– Посмотрите на меня!
Мы смотрели и оценивали другого по той внешности, которой он желал обладать, а не по тому ходячему уродству, каким наградили его случайность или возраст. Портрет был произведением самой модели – необычайно интимным изображением того, какой бы она предпочла стать, если бы только могла. К тому же портреты самых несравненных красавиц редко писались по просьбам красавиц настоящих. Если люди считали себя красивыми от природы, они требовали максимального сходства, и потому изображение получалось заурядным, хвастливым, перегруженным милыми пустяками. Зато у самых уродливых портреты были настолько красивы, что трогали до слез: уж эти-то образины разбирались в красоте.
МУЗЫКАНТЫ
По праздникам в деревне играла музыка. Профессиональных музыкантов у нас не было: эту обязанность выполняли некоторые жители. Они входили в закрытую гильдию, внутри которой тайно передавалось искусство игры и даже сами инструменты.
Концерты устраивались в специальном здании, где была всего одна комната, крыша и много окон, всегда закрытых. Когда приближалось время выступления, мы обступали этот дом, цеплялись за окна, давили друг друга, взбирались друг на друга, терпеливо ждали, страдая от щекотки, вдыхая чужие запахи, чувствуя ломоту в ногах.
Наконец музыканты выходили на середину комнаты и располагались поудобнее, как будто они были здесь одни. Распаковывали свои инструменты и, подстегнув любопытство публики долгими приготовлениями, начинали играть.
По крайней мере, мы видели, как они играли, – ведь слышно ничего не было. Все инструменты были беззвучными, а искусство – чисто жестикуляционным. Каждый из нас сам воображал – исходя из позы музыканта, размеров и формы его инструмента, живости игры, выражения лица – тот звук, что мог звучать внутри помещения.
Вокруг дома царила сверхъестественная тишина, которой никогда не добиться без этой тишины внутри.
Концерт продолжался до самых сумерек. Мы возвращались, уставшие от впечатлений, гама, и мысленно напевали все самое прекрасное, что воображали, наблюдая за музыкантами сквозь стекло. Наконец-то у нас появлялась возможность поднять шум, и ею спешил воспользовался самый крикливый.
ВРАЧ
Я был пареньком, пышущим здоровьем, лазал по деревьям, ломал носы и мог проглотить целого страуса. Я видел врача всего раз в жизни (он прятался, чтобы мы ему больше доверяли).
Когда я воровал яблоки, меня укусила змея. Эта тварь прилипла к моей коже, обвила запястье, и я был еще таким маленьким, что ее хвост бил меня по боку. Это слегка неприятно, но меня поразило, какая она прохладная и гладкая на ощупь – красивая мышиная головка с содранной кожей, высушенная, плоская, без усов и ушей.
Я побежал на ферму к врачу. Слово «ферма» тут не совсем подходит, потому что он выращивал только животных для колдовства, да и слово «врач» тоже неточное, поскольку в наше время его назвали бы целителем или колдуном, но эти нюансы несущественны, раз уж наши беды всегда равновелики шарлатанам, которым мы за них платим.
Доктор снял змею с моей руки, произнеся «коз, тоз, зоз» и ловко потянув за голову. Он спрятал рептилию в карман с таким видом, будто она опасна, и очень громко задышал. Теперь-то я думаю, что это был малолетний ужик, который по-своему любил людей: щенки ведь тоже кусают их До крови, чтобы заставить улыбнуться. Но никогда не стоит работать за гроши: у моего отца было пять стельных коз, а жизнь ребенка куда важнее козленка. В общем, змея была опасна. Я рассказал бы об этом папе, не предпочитай он свой скот собственному потомству.
Врач вытащил из курятника зеленого петуха, зажал его коленями, загнул ему голову между ногами и принялся ощипывать зад. Какие красивые перья! Мне так захотелось их получить, что я протянул укушенную руку. Но врач поклялся, что они наводят порчу и оставил все у себя. Змея перекатывалась у него в кармане, он постукивал, чтобы напугать ее, и мне тоже было страшно.
Наконец он взял петуха, свернутого калачиком, и приставил его гузку к моей ранке. Потом помассировал, сдавил и отпустил живот птицы, чтобы гузка всосала яд, если он там был. Тем временем врач объяснял:
– Если петух умрет, значит, змея была ядовитой, а если выживет, значит, и ты не умрешь.
Это рассуждение было детским, и я в него поверил. Мы наблюдали за петухом, и до самого вечера я ждал вестей, очень тревожась за свою жизнь. Но петух остался жив и здоров: на его обнаженных ягодицах все так же проступали розовые и желтые прожилки – пусть даже он стыдливо прятал зад в соломе.
Через месяц петух снес пергаментное яйцо, откуда вылупилась какая-то очень злобная ящерка, которую мой целитель окрестил кокодрилом. Он сказал, что это обычный результат оплодотворения через анус. Я покраснел: после того, что мы, дети, вытворяли друг с другом, мы должны были откладывать кокодриловые яйца каждый вечер. Но врач обрадовался: он утверждал, что зубы этой свирепой рептилии, растертые вместе с желчью волчицы и одним буасо моли, склоняют женщин к браку. Некоторые наивные влюбленные покупали их за большую цену, а так как вскоре они об этом жалели, то приобретали затем и противоядие.
Антидотом служило пюре из вербены, где были вымочены бобровые яички. Врач истреблял этих бедных зверьков, которых мы так любили, холостил и презрительно выбрасывал тушки, а мы собирали шкурки.
Считается, что бобры ближе к обезьянам, нежели к водяным спаниелям. Эти понятливые животные быстро сообразили, почему за ними охотятся, и, едва заметив врача на берегу реки, спасали свою жизнь, отрывая у себя тестикулы. Врач собирал в траве окровавленные яйца, а патроны в ружье приберегал для самых строптивых.
Но самыми строптивыми часто оказывались бобры, которым уже нечего было терять. Эти смышленые зверьки, недовольные тем, что их убивали ни за что ни про что, вскоре поняли, что следует делать: вместо того чтобы убегать, они ложились навзничь и раздвигали ляжки, повернувшись лицом к врачу и отчетливо демонстрируя результат кастрации. Их не трогали, и тогда они поднимались и уходили с чрезвычайно обиженным видом. Но врач редко извинялся, так как был очень самодовольным.
КРИВОРУКАЯ ПРИСЛУГА
Наши матушки порою бывали помешаны на уборке, а ведь порядок в доме – подлинное бедствие. Муж с детьми прячется в кабинете, а друзья боятся приходить, напуганные мегерой, что правит здесь со шваброй в каждой руке, половой тряпкой в каждой туфле и пучками перьев в волосах. Где еще насладиться покоем, почувствовать себя, как дома, если не дома? Но горгона, ощетиненная скребками, терками, выварками, иголками и тряпками, устраивает домашнюю горячку во всех углах каждой комнаты. Она готова запустить ноготь в мышиную норку и выковырять оттуда обглоданные крошки или выпавшие усы!
Нам не спрятаться даже в хлеву: она натирает до блеска коров, закутывает их ягодицы и прочищает их огромные уши. Эта подозрительная баба с портняжным азартом рядит нас в странное барахло, придающее дурацкий вид, а если солома вдруг испачкает нашу одежду, разражается громогласными воплями.
Нет, чтобы избавиться от всего этого, надобно завести лучшую из прислуг, самую дальновидную из служанок – криворукую.
Когда мать видит свою соперницу, она не взрывается. Ведь она не вправе отказаться от поединка и полна решимости победить. Самомнение домохозяек! Криворукая прислуга – чудо изворотливости, с которым никто не в силах совладать.
Этим ремеслом занимаются в любом возрасте. Даже очень старая криворукая прислуга остается в услужении, а некоторые молоденькие девочки быстро успевают поднатореть в своем деле.
Криворукая прислуга трудится не покладая рук. Она следует повсюду за своей хозяйкой, полагая, что улучшает ее работу. Заново намыливает посуду, пока та не выскальзывает из пальцев и не разбивается на полу; заново трет белье, пока оно не распадается на куски под ее щеткой; драит паркет, пока на нем не остаются рытвины; придает блеска стеклам, заливая их растительным маслом; так ревностно подтирает ребятишек, что те повторно гадят в трусы; по семь раз переваривает суп; перештопывает одежду, пока та не становится вдвое толще и вдесятеро темнее; моет, скоблит, скребет и завивает хозяйку, пока та не превращается в горшок с требухой. Потом эта мегера переделывает нескончаемую работу криворукой прислуги, устраняет ущерб, та его опять наносит, а хозяйка устраняет его заново, до тех пор, пока устранить его становится уже невозможно.
Посреди сада мало-помалу вырастает гора мусора из домашних предметов, которыми больше нельзя пользоваться. А изнуренная, побежденная мегера в свой черед расстается с жизнью. Остается лишь зашвырнуть ее покрытый рубищем, озлобленный труп на груду отбросов.
Обычно на все это уходило не больше недели. Криворукая прислуга наконец возвращалась к нам в укрытие, получала свое содержание, обнимала нас и отправлялась прислуживать в другое Место. А мы недоверчиво, взволнованно, проворно и робко возвращались домой.
КОЛЕСАРЬ
Мы были домоседами и не любили выходить из дома: лишь немногим жителям моей деревни хватало смелости покинуть родину.
Но порой один из нас испытывал подобное желание и целыми месяцами, даже годами рассказывал друзьям и окружающим о своем замысле. Гнетущая перспектива: он должен был заплатить колесарю.
На самом деле, никто не хотел уезжать: говорившие об этом просто впадали в уныние и надеялись, что в конце концов им помогут. Таков был обычай. Мы устраивали складчину, выслушивали грустные речи горемыки и в страхе принимались ждать.
Наконец, как-то вечером он заявлял, что завтра на рассвете уезжает и что нужно запрячь повозку. Все молча соглашались. Пора было известить колесаря и обсудить цену.
На рассвете повозку оставляли на выезде из деревни. Тот, кто собирался уехать, неторопливо приходил холодным и хмурым утром, забросив пожитки на плечо, и никто его провожал. Он грузно садился на повозку, сжимал в руке поводья, тоскливо оглядывался и вполголоса понукал лошадь.
Тотчас из-за дерева выскакивал колесарь – борода торчком, глаза бешено сверкают, изо рта вылетает брань – и вонзал в колесо огромный стальной прут. Возница для вида протестовал, а колесарь бранился пуще прежнего, глаза у него дьявольски разгорались, а из бороды сыпались искры. Тогда водитель начинал рыдать от тайной радости: он был спасен. Он потихоньку возвращался в деревню, и все жители выходили ему навстречу. То был волнующий момент. Я присутствовал при этом лишь раз, когда был маленьким. С тех пор люди уезжают навсегда, по очереди и в одиночку, а никакого колесаря больше нет.
ОКОЛОТОК
СТРОЙКА
Грузовики. Машины. Строят дома. Эвакуируют раненых. Наступает тишина. И ночь.
У некоторых рабочих был понос, они сидели в углу на корточках.
Дети играли. Дни проходили. Высились кучи песка, похожие на гигантские муравейники. Для раствора, для детей. Ясли построили, но не закончили. Не было пола – дети провалятся, ни подвала, ни почвы, ни земли: дети попадут в ад.
Убирали объявления, где говорилось о строительстве, новых домах. Их не сжигали, а складывали на тачку и отвозили в лачугу, со всех сторон покрытую гофрированным железом. На крыше лежал снег. Под жаровней снег таял, вода вымывала канавки, уносила мелкий гравий, что скапливался поодаль – на краю тротуара, у остановки такси.
Мы привыкали. Подходили к домам. Проводили по ним руками, ногтями, возможно, оставляли следы крови. Белесые и землистые. Эта кровь разъедала двери, стекло, искусственную древесину, пластмассу, сталь, мы входили, выходили, трогали. Оставляли пятна пота.
В полдень женщины кричали, дети возвращались из школы. Потом женщины кричали, дети уходили. Потом женщины кричали. Они шли в парикмахерскую и красили волосы. Им сушили головы. Они читали журналы, изучали фотографии голов. Напротив парикмахерской – вся улица как на ладони. Снег. Прохожие и клиентки смотрели друг на друга сквозь витрину и отводили взгляды. Все возвращались домой, темнело. Дети возвращались. Женщины кричали, тарелки звенели, продукты готовились.
На улице было тихо. Проезжали машины. Дети. Газеты были распроданы. Никого не осталось.
Переставляли стулья, накрывали на стол, тарелки звенели на столах, горел газ, горело электричество.
Дерево, металл, ткань были искусственными. Пожар в головах, падавших на подушки, белые или в крупный веселенький цветочек, с серой выемкой по центру. Точно краска газет, пот на ладонях, овощи, одежда на спинках лакированных пластиковых стульев.
Шел дождь. Шторы были опущены. Огни не светились, кроме поездов на горизонте: вокзал совсем близко, под боком – мелькали окна. Время для совокупления, серая фигура, живот, веселенькая подушка. Сигареты возле кровати гаснут, из-за толчков в вагонах падает пепел, он припудривает серую одежду, руки, ляжки, простыни. В тишине.
Разгружали еще один грузовик. Блестящие длинные черные трубы складывали, будто бревна, в грязь – красную или оранжевую, цвета навоза, крови. Сверху, на весу, клали трубы поменьше, иногда коленчатые. Сверху усаживались смуглые хмыри с заостренными носами, открывали котелки, ели на трубах, ссали за ними. Новая стройка.
Летними ночами на улице смеялись. Юные голоса с нежными, мяукающими связками, и другие – хриплые, вязкие, раскатистые: они смешивались, будто вылетали из одной глотки. Откликались третьи – резкие, высокие, пронзительные крики женщин, немытых девчонок. Они удалялись, исчезали, словно устав смеяться – грудь надрывалась от хохота, скрывались куда-то за топкие улицы, блестевшие в свете больших фонарей, или окон, или вон той новой стройки, где был темный, оранжевый, мрачный котлован глубиной метров двадцать.
Потом уже больше не смеялись. Ждали рассвета.
Светало. Дети кричали. Другие плакали. Третьи смеялись. Это был тот же крик. Дети есть дети.
Их было слышно.
А женщины кричали. Неплачущие, несмеющиеся, материнские голоса. Суровые, резкие, громкие, эти женщины в пальто, черных, темно-синих, коричневых, словно анус, морщинистые голоса, в морщинах – ресницы, благопристойные мрачные черты подчеркивают коричневые, словно анус, глаза, дряблые отверстия, откуда исходят звуки, взгляды, жидкости.
Трубы закапывали. В земле рыли траншеи: топкая, оранжевая земля истекала влагой, блестела грудками на краю траншеи. По трубам поступал газ или вода – мужчины разговаривали, женщины становились вялыми, высохшими, дети бегали.
Повсюду тишина, никаких звуков: мотоциклы, поезда, самолеты, отбойные молотки, велосипеды, матери, двери, колымаги – больше ничего не слышно.
А перед этим торговцы зазывали, лавки распахивались, заполнялись покупателями, пустели, люди возвращались со своей добычей, шагали по грязи и радовались, по улицам, похожим на транспортные развязки, носились покупательницы в пальто, с собачкой на поводке, ребенком или кошельком в руке. Это матери с полными руками возвращались домой.








