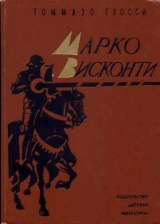
Текст книги "Марко Висконти"
Автор книги: Томазо Гросси
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 22 страниц)
Примерно через час, показавшийся бесконечным всем, кроме, пожалуй, Отторино и Микеле, не замечавших бега времени и всей душой предававшихся, увы, столь разным чувствам, у мыса Варенны показался огонек. Раздался общий крик радости, и в ответ донеслись далекие крики, приглушенные ветром. Потерпевшие крушение продолжали кричать, и по их голосам лодка, шедшая им на помощь, находила свой путь среди бушующих волн. Спустя немного времени через торжественно-неумолимый рев стихии пробился какой-то новый, размеренный звук; то нарастая, то стихая, он становился все слышнее. Последовала новая перекличка, и наконец суденышко оказалось около утеса. Оба графских лодочника бросились навстречу лодке, чтобы не дать ей разбиться о скалу, и с их помощью Лупо, который тоже приплыл в этой лодке, сумел перебросить с носа на берег широкую доску, послужившую мостом, связавшим утес с суденышком.
Первым, кто поспешил спуститься в лодку, едва убедившись, что она выглядит достаточно устойчивой, был граф Ольдрадо. Он спрыгнул в суденышко, обернулся к дочери и был очень обрадован, когда увидел, что Отторино, взяв ее за руку, помогает ей перейти шаткий мостик. Один за другим в лодку перешли все остальные; лодочник спустился последним. Он положил труп сына на дно, поближе к корме, а сам устроился рядом. Спустя немного времени Лупо заметил, что Микеле весь промок и закоченел в своей легкой куртке. Он снял с себя плащ и прикрыл им старика. Микеле и не поблагодарил Лупо за плащ и не отказался от него; долгое время он, казалось, вообще его не замечал. Но потом, шевельнув рукой, он ощутил какую-то помеху, опустился на колени, снял с себя плащ, и, накинув его на тело сына, любовно расправил складки и подоткнул края.
Когда лодка обогнула мыс, спасенные увидели, что мол в Варенне весь озарен огнями, и вскоре до них долетели крики толпы, заполнившей набережную. Лодка приблизилась к берегу. Следуя советам, которые подавали с берега самые опытные кормчие, гребцы своевременно повернули лодку, вошли в гавань и оказались в безопасности. Жители местечка засуетились вокруг спасенных: кто подтягивал лодку повыше, кто светил прибывшим и помогал им выходить на берег, и каждый старался превзойти другого в услужливости. Но при всем добродушии жители Варенны были не прочь подшутить и посмеяться над попавшими впросак гребцами из Лимонты. Те сначала молчали, а потом стали огрызаться, и, слово за слово, разгорелся такой спор, что дело чуть было не дошло до драки, но тут в толпе прошел слух, что графский лодочник привез в лодке тело утонувшего сына, и все крики и оскорбления мгновенно утихли, сменившись всеобщим ропотом сострадания. Бедному отцу предлагали кров, любую помощь и услуги, однако он от всего отказался и пожелал провести ночь возле покойника, которого утром собирался отвезти в Лимонту.
На рассвете он отыскал плотника и попросил сделать крест, чтобы установить его на месте крушения. Вынув из кармана жалкие монетки, он стал по одной перекладывать их в свою мозолистую ладонь, чтобы отсчитать нужную сумму и расплатиться с мастером.
– Эти деньги он заработал сам, – повторял Микеле, – а эти он принес мне позавчера, когда вернулся из Лекко. Кто бы мог подумать, что они пойдут ему на крест!
Как только ветер утих, в Варенну прибыли остальные лодки с жителями Лимонты. Среди них была и лодка другая Микеле, которую он накануне одолжил кому-то из своих земляков. Утром несколько сострадательных людей положили в нее тело утонувшего. Когда бедный отец вышел на берег и увидел свою лодку с лежащим в ней грузом, он почувствовал, что слезы навертываются ему на глаза; но, сделав над собой усилие, он сел в лодку, взял в руки одно весло, уперся им в песок, оттолкнулся, достал второе весло и стал грести, медленно удаляясь от берега, к которому постепенно поворачивался спиной.
Озеро было спокойным и гладким, оно блестело, словно зеркало.
О, как непохожи были безмятежность и спокойствие озера на боль и отчаяние, бушевавшие в душе бедного лодочника!
Некоторое время Микеле греб молча и хмурился все больше. Наконец, не в силах сдержать отчаяние и ярость, он ударил веслом по воде и воскликнул:
– Подлое озеро!
Весло треснуло пополам. Тогда он резко вкинул в лодку второе весло и обломком первого, оставшимся у него в руках, ударил по борту, вдребезги разбив уключину.
Но при этом он так накренил лодку, что третье весло, лежавшее на одной из скамеек, сползло с нее и чуть было не упало на тело сына. Микеле испуганно вскочил, подхватил весло, подержал его в руках, взглянул на него и сказал:
– Это его весло. – Затем он осторожно положил его на прежнее место. – Господи! – воскликнул он. – Помоги мне, осени меня своей дланью! Не дай врагу привести меня к погибели и погубить мою душу! – И он снова принялся грести, лихорадочно повторяя слова молитвы.
Тем временем лодка приближалась к Лимонте, и при виде родных мест еще более тягостная скорбь охватила душу осиротевшего отца и несчастного мужа.
Но боже милостивый! Как застучало его сердце, когда, приблизившись к берегу, он различил среди множества людей, которые смотрели на него и, казалось, его ждали, растрепанную женщину с исцарапанным лицом, бившую себя в грудь и рвавшую свои седины. И ему показалось, что горы и долины эхом вторят ее жалобам, ее отчаянному плачу.
Нет, рука не подымется описывать столь горестное зрелище. А потому мы оставим несчастного лодочника и его еще более (если только это возможно) несчастную жену и вернемся к нашим героям, которых мы оставили в Варенне.
Глава VI
На ночь путники кое-как устроились у приходского священника, которому просто не верилось, что его скромное жилище могло удостоиться чести принять столь высоких гостей. Он даже немного возгордился и позже нередко с удовольствием упоминал об этом посещении.
Там же, в Варенне, жил в это время и Пелагруа, оставшийся совершенно неожиданно без крова, без денег, без какой-либо поддержки и без всяких надежд; скоро ему пришлось бы покинуть и эту деревушку, жители которой были ему рады, как гвоздю в башмаке. Короче говоря, он оказался в положении собаки, которую хозяин выгнал на улицу. Наутро этот негодяй смиренно – во всяком случае, по виду – явился к священнику из Лимонты, стал униженно просить у него прощения за все зло, которое ему причинил, и за еще худшее зло, которое собирался причинить, и умолял помочь ему в беде и посоветовать, как найти выход из столь отчаянного положения.
Добрый священник был охвачен состраданием не столько к самому Пелагруа, которому небольшая кара за его деяния пошла бы только на пользу, сколько к его жене и невинному ребенку. Он обещал походатайствовать перед графом дель Бальцо, хотя, по правде говоря, не надеялся добиться от него какой-нибудь помощи. Но, к счастью для негодяя, священник, придя к графу, застал его в компании дочери и Отторино. Добрая и мягкая девушка, познакомившаяся с женой Пелагруа, когда та укрывалась в замке, и разделявшая с матерью жалость к этой несчастной женщине, была глубоко растрогана словами своего духовника и стала упрашивать отца найти какое-нибудь убежище для изгнанника и его семьи.
Легко себе представить, как принял граф эту просьбу, исполнение которой грозило не более и не менее, как поссорить его с настоятелем монастыря святого Амвросия, а заодно и ухудшить его отношения со всеми жителями Лимонты.
Не желая, однако, прямо отказать дочери, бедняга стал изворачиваться и искать всякие предлоги, что-то невнятно бормотал и был весь как на иголках, но Отторино, обрадовавшись возможности угодить девушке и услужить ее отцу, сам с готовностью предложил устроить Пелагруа, заверил всех, что дело можно уже считать улаженным, и получил в награду от Биче взгляд, исполненный такой невинной и радостной доброты, такой безмятежности и ласки, что почувствовал, как блаженство наполняет все его существо.
Священник счел долгом отвести Отторино в сторону и предупредить его, из какого теста слеплен человек, которому он собирается оказать услугу, не сомневаясь, что подобные сведения заставят молодого человека быть осторожнее. Но то ли от беспечности, естественной в этом возрасте, то ли от того, что он и подумать не мог, чтобы человек, так сказать, осененный милостью Биче, мог оставаться тем же злодеем, каким был прежде, Отторино не придал большого значения словам священника; не найдя ничего лучшего, он решил направить своего нового подопечного к Марко Висконти, который во имя их старой дружбы не преминет, конечно, дать ему место в одном из своих многочисленных замков. Итак, он велел принести ему прибор, чтобы написать письмо Марко, но – поверите ли? – во всей деревне ни за какие деньги нельзя было найти чернильницы, пера, куска пергамента или бумаги. Местный священник никогда ничего не писал, а аптекарь и немногочисленные дворяне селения вообще не умели держать перо в руках. И так обстояло дело не только на берегах Комо, а во всей Ломбардии, во всей Италии, во всей Европе. И это вполне естественно. Разве в те времена мечей, копий, луков и арбалетов, во времена зубчатых стен, осаждаемых и отбиваемых замков и укреплений, – разве в такие времена могло развиться искусство письма, это нежное, слабое и капризное растение, расцветающее в тиши и уединении и не выносящее шума и грубого обращения?! Но тут сокольничий вовремя вспомнил о старом нотариусе, который жил в Перледо, небольшой деревушке, расположенной в горах, у подножия которых стояла Варенна, быстро сходил к нему и вернулся со всеми необходимыми принадлежностями; правда, ему пришлось повозиться, размачивая содержимое чернильницы, которое высохло уже больше года назад.
Принявшись за письмо к Марко, чтобы отрекомендовать ему Пелагруа, молодой человек должен был объяснить, как и почему он взял на себя эту заботу, а потому рассказал все, что произошло с ним за это время, начиная от поединка своего оруженосца и кончая событиями прошедшего дня, упомянул о графе дель Бальцо, в замке которого собирался провести несколько дней, затем перешел к Биче и, в полном согласии с пословицей: «У кого что болит, тот о том и говорит», написал о ней несколько больше, чем следовало бы тому, кто не хочет себя выдавать. Под конец, стараясь как можно точнее описать девушку своему господину, он в пылу юношеской восторженности стал утверждать, что она, по всеобщему мнению, как две капли воды похожа на мать и стремится подражать ей в своем поведении. Эти слова заронили первую искру… Но не будем забегать вперед.
Наши герои сели в наемную лодку и к вечеру прибыли в Лимонту. Уже ходившие там слухи, что аббат монастыря святого Амвросия решил наказать строптивцев независимо от исхода божьего суда, вид тела бедного утопленника, привезенного утром, тягостное зрелище отчаяния несчастных родителей и долгое ожидание лодки графа, прибывшего гораздо позже, чем думали, – все это весьма охладило первоначальное чувство признательности к молодому победителю, и потому, когда Лупо ступил на берег, он не застал там толпы и его не встретили, как он надеялся, кликами и рукоплесканиями. Вспомнив о прекрасных мечтах, которым он предавался, сидя на носу лодки при отплытии из Беллано, он почувствовал себя весьма огорченным.
Священник остался в Лимонте, все же другие, сев на приготовленных лошадей, поднялись на гору и продолжали путь, пока не приехали в замок.
Эрмелинда приняла молодого человека с обычной любезностью. Для нее Отторино был особенно желанным гостем, так как она помнила о тесной дружбе, которая когда-то связывала юношу и ее бедного сына. Однако скоро она стала испытывать некоторое беспокойство из-за его ухаживания за Биче, тем более что от глаз заботливой матери не укрылось застенчивое удовольствие, с которым ее дочь принимала это ухаживание.
Спустя еще немного времени она увидела, что обычно свойственная Биче открытая и непритворная веселость уступила место робкой и застенчивой радости. Эрмелинда заметила, что девушка краснеет, когда она спрашивает ее об Отторино, и опускает глаза, не выдерживая материнского взгляда, и все это стало ее серьезно беспокоить.
Нет, она вовсе не считала неподходящей для дочери эту партию – более почетную, по правде говоря, вряд ли можно было бы найти, – но ее смущали слухи о том, что юноша уже обручен с дочерью Франкино Рускони, владельца Комо, и что этому браку покровительствует Марко Висконти.
Что же касается графа, то он был вне себя от радости, что у него гостит такой знатный рыцарь, двоюродный брат наместника и наперсник Марко Висконти, а потому суетился весь день напролет, стараясь сделать пребывание юноши в замке как можно более приятным И когда он устраивал пиры, охоту или прогулки в соседние деревушки, рядом с ним всегда была Биче, без которой отец и шагу не мог ступить Он не упускал ни одного случая рассказать ей о подвигах их молодого гостя и, словно нарочно, опять и опять перечислял все, что тот сделал для их спасения во время бури, без конца возвращаясь к подробностям того памятного дня и мучительных часов, проведенных на утесе, о которых девушка сама и без того слишком часто вспоминала с трепетом, вызванным не одним только страхом.
Кроме того, граф скоро открыл в юноше и другое достоинство, которое в его глазах было еще более ценным, чем все остальные, – Отторино всегда соглашался с мнениями хозяина дома, терпеливо и даже охотно выслушивал истории из его жизни и никогда не оспаривал честолюбивых выдумок графа.
– Вот воспитанный молодой человек, – говаривал последний, – не то, что эти нынешние молокососы, которые, еще не вылезши из пеленок, уже хотят учить старших… Ты видела, – спросил он однажды Биче, – ты видела, с каким вниманием слушал он меня вчера вечером? Когда я объяснял ему, почему поединок Лупо с Раменго должен считаться недействительным, он за два часа ни разу не мигнул.
И это была сущая правда: все два часа молодой человек, сидевший рядом с девушкой, был наверху блаженства и не слышал ни единого слова из рассуждений графа.
Когда же Эрмелинда пыталась с обычной своей скромностью предупредить мужа, убедить его, что надо быть осторожнее, он называл ее подозрения вздором и вынуждал ее замолчать. Добрая женщина не смогла, как собиралась было, выяснить положение дел, поговорив начистоту с самим Отторино, так как граф строжайше ей это запретил, и вынуждена была довольствоваться единственным средством, которое ей оставалось, – написать в Комо, чтобы узнать, насколько в действительности серьезны те обязательства, которые взял на себя юноша, а в ожидании ответа осторожно следить за дочерью, мешать ей видеться с Отторино и отвлекать от мыслей о нем.
Немножко капризная, как и все избалованные дети, Биче по натуре была очень мягка Как это нередко случается, она всегда относилась с большим почтением и с большей нежностью к матери, которая по необходимости держалась с ней довольно строго, чем к излишне снисходительному графу. Редкие улыбки и ласки матери доставляли ей гораздо больше радости, чем все проявления любви со стороны отца.
Но после того как в замке появился Отторино, в ее отношении к родителям постепенно произошла странная перемена. Эрмелинда, всегда внешне строгая и холодная, всегда со словами поучения и порицания на устах, по-прежнему вызывала у дочери уважение, но, так сказать, подавляла ее душу, бросала на нее тень, в то время как девушка, полная новой жизни, охваченная неизведанными ранее ощущениями, жаждала кому-нибудь о них рассказать. Имя юноши, наполнявшее девушку радостью, если его упоминал граф, заставляло ее трепетать от страха, когда его произносила мать, а потому она старалась не оставаться наедине с нею, и нет ничего удивительного в том, что изо дня в день ее глубокая любовь к матери постепенно слабела. Дальше – больше, и вскоре девушка уже начала испытывать в присутствии матери досадливую скуку, а в редкие минуты возвращения прежней дочерней привязанности, с ужасом чувствуя, как она переменилась, Биче горько упрекала себя и давала себе множество прекрасных обещаний, выполнить которые все равно была не в силах.
Эта внутренняя борьба длилась до тех пор, пока в замок не прибыл гонец от Марко Висконти и Отторино, поговорив с ним, не объявил, что через два дня его ждут в Милане.
Биче казалось, что ей снится страшный сон: она никак не могла поверить, что Отторино должен уезжать, – ведь ей было с ним так приятно! Прежде, расставаясь с юношей, она знала, что через два, через три, через четыре часа она вновь его увидит, и это ожидание занимало ее мысли и утешало ее во все время его отсутствия. Часы проходили, и Отторино появлялся вновь. Но теперь, когда он уедет, чем заполнит она все эти дни, все эти бесконечные вечера?
Она вспоминала счастливые дни, которые проводила в замке до того, как в нем появился роковой гость. Мать, служанка, лютня и гнедой, – но при мысли обо всем том, что было ей когда-то дорого, сердце ее осталось спокойным, словно она нажимала на клавиши клавесина с перерезанными струнами.
Следующий день, накануне отъезда Отторино, граф решил посвятить соколиной охоте, и Биче должна была непременно в ней участвовать.
– Я покажу вам, как летают мои соколы, – говорил граф своему гостю, – а потом вы мне скажете, есть ли такие птицы у Марко Висконти. Вы увидите ирландских, норвежских и датских ястребов и кречетов. У меня есть и гнездовые, и странствующие соколы; а какая чудесная свора – и гончие и волкодавы! Вы посмотрите потом на моего любимого сокола, которого я обучил сам – ведь я иногда развлекаюсь тем, что приручаю соколов по-новому, своими способами… Ну, да хватит: сами увидите.
В тот же день из Комо пришло письмо, и, получив его, Эрмелинда долго разговаривала с мужем. Биче из своих комнат, где она заперлась со служанкой, слышала голоса родителей, которые, казалось, спорили между собой, и она, конечно, догадывалась, о чем могла идти речь.
Весь день Биче удавалось избегать матери, и они встретились только вечером за ужином Эрмелинда выглядела задумчивой и огорченной, иногда она посматривала на дочь, словно собираясь открыть ей какую-то тайну, и Биче, боясь остаться с матерью наедине, решила, что лучше сделать так же, как и раньше: под предлогом, что завтра надо рано вставать для охоты, она попросила разрешения встать из-за стола и удалилась к себе. Запершись в своих комнатах, она почувствовала себя спокойнее и, перед тем как лечь спать, села у зеркала и велела Лауретте расчесать ей волосы. Служанка, догадавшаяся о сердечной тайне своей юной госпожи, с лукавым видом завела разговор об Отторино, поддразнивая ее скрытыми намеками, в ответ на что Биче хотела сделать обиженный вид, и это удалось бы ей в большей мере, если бы румянец, покрывавший ее лицо, можно было приписать гневу, а не стыдливому смущению. Причесав Биче, Лауретта начала было уже ее раздевать, как вдруг раздался легкий стук в дверь и послышался голос Эрмелинды:
– Отвори, это я… Оставь меня с ней, – сказала она служанке, подбежавшей открыть дверь
Та поклонилась и ушла в соседнюю комнату.
Оставшись наедине с матерью, Биче готова была провалиться сквозь землю от замешательства. Опустив голову, она ждала, что скажет ей мать.
– Я вижу, мое присутствие не очень тебя радует, – начала Эрмелинда. – Это меня огорчает, очень огорчает, дочь моя.
Девушка хотела было ответить, но у нее перехватило горло, и она, растерянно пробормотав несколько не имеющих смысла слов, умолкла
– Кто бы мог поверить, что вид твоей матери способен привести тебя в смятение? – продолжала графиня – Правда, я давно уже должна была бы заметить, что ты переменилась в обращении со мной, что ты уже не любишь меня, как прежде. Но трепетать при моем появлении!.. Это слишком, слишком тяжело для той, кто тебя так любит.
– Я не трепещу. Отчего я должна трепетать? – ответила живо девушка, которой досада на то, что мать заметила ее смущение, отчасти вернула природную твердость характера
– Биче!.. Как дерзко ты отвечаешь! – сказала мать сердитым голосом, но тут же, словно уступая внезапному порыву, схватила дочь за руку и продолжала: – Послушай, дочурка, не говори так со своей матерью. Или ты думаешь, что у меня может быть другая мысль, другая забота в этом мире, кроме одной – видеть тебя счастливой? Ты моя радость, мое утешение. О, если бы ты могла понять, как мне бывает горько всякий раз, когда я вынуждена тебе возражать! Но ведь так велит мне мой долг, и я делаю это ради твоей же пользы. Вспомни, душенька, как однажды, еще маленькой, ты серьезно заболела и все время плакала и просила у меня молока. Подумай, как болело у меня сердце, и все же я не дала тебе молока – оно тебя убило бы. Не знаю, о чем ты думала тогда, но теперь ты сама все отлично понимаешь…
– Скажите же наконец, чего вы хотите? – спросила Биче, растроганная и в то же время недовольная собой за свою мягкость.
– Я хочу, чтобы ты поняла одно… Ну, перестань, не гляди на меня такими испуганными глазами. Нет, дорогая доченька, ты не услышишь горьких слов из уст своей матери. Поди сюда, выслушай меня с такой же любовью и спокойствием, с какой я буду говорить. Отторино завтра уезжает…
Услыхав это имя, девушка вся похолодела, но, сделав над собой усилие, ответила как можно более равнодушно:
– Да, я знаю, но какое это имеет ко мне отношение?
– Гораздо большее, чем это нужно для твоего и моего спокойствия, – строгим тоном ответила Эрмелинда. – Перестань притворяться, не думай, что ты можешь что-то скрыть от матери, которая видит все, что творится в твоей душе.
– Но, в конце-то концов, что плохого я сделала? Я только во всем повиновалась отцу.
– Да, в эти дни ты старалась ему повиноваться, как никогда раньше. А когда ты не забывала моих советов, то умела, не споря с ним, управлять им, как хотела. Но я не собираюсь тебя бранить, бедняжка, ты ведь не знала, что так меня огорчаешь… Ты могла думать… Правда, я и сама, наверное, виновата: ведь до сих пор я ни разу не поговорила с тобой прямо. Я и сама надеялась… но теперь, когда я знаю все…
– Что вы знаете? – спросила девушка, впившись взглядом в глаза матери, словно надеялась прочесть в них смысл тех слов, которые собирались произнести ее уста.
– Дело в том, что Отторино… Ну, короче говоря, ты должна его забыть, потому что он уже связан словом… и вскоре должен жениться на дочери Франкино Рускони, сеньора Комо.
Щеки Биче запылали, как уголь в жаровне, затем покрылись мертвенной бледностью; мгновение она еще пыталась овладеть собой, сложила дрожащие губы в слабую улыбку, тут же исчезнувшую с ее лица, и, сломленная страданием, горько зарыдала.
Эти слезы заменили матери то признание, которое девичий стыд не позволял Биче выразить в словах. Прижав к себе голову дочери, целуя и осыпая ее нежными ласками, она сказала:
– Плачь, моя дорогая, плачь вместе с матерью… Неужели ты думаешь, что ты мне чужая и мне тебя не жаль? Неужели ты думаешь, что из-за этого я тебя меньше люблю? Что мне больше не дорого все то, что было дорого раньше? Нет, моя милая, нет, моя славная дочка… Если бы ты захотела еще больше завладеть моим сердцем, еще сильней утвердиться в нем, то ты добилась этого сейчас своими слезами, пробудив ту нежность, которая охватывает душу матери при виде горя дочери… послушной дочери.
Покоренная этими словами, а еще больше тем чувством, с каким они были сказаны, Биче бросилась в объятия матери, спрятала пылающее лицо на ее груди и, по-прежнему плача навзрыд, нежно к ней прижалась.
– Теперь ты понимаешь, – продолжала Эрмелинда, тоже глубоко взволнованная, – ты сама прекрасно понимаешь, что было бы нечестно с твоей стороны позволять ему сохранять с тобой ту же дружескую близость, что и прежде. И пусть твой отец будет предоставлять вам возможность видеться – он же не даст и самой легкой тени упасть на его любимую дочку, – ты знаешь о своей слабости и знаешь, что… быть может, и его чувства могли как-то измениться… Короче говоря, приличие требует, чтобы ты теперь держалась от него подальше. Завтра его весь день не будет в замке, а ты останешься со мной. Потом он уедет, и все твои заботы останутся позади… и обо всем будем знать только мы с тобой.
Графиня хотела еще сказать Биче, что она должна будет отвечать отцу, когда тот придет утром звать ее на охоту, но в это время на лестнице послышались чьи-то шаги, и она узнала походку графа. Не желая, чтобы он видел ее здесь, Эрмелинда поспешно высвободилась из объятий дочери, поцеловала ее еще раз и вышла со словами:
– Это твой отец, я должна уйти.
Биче долго сидела, стараясь хоть как-то прийти в себя. Наконец она позвала служанку, и та ее раздела. Видя, что госпожа все еще очень взволнована, служанка не осмелилась сказать ей ни слова и, только уложив ее в постель, как обычно спросила, что ей дать почитать.
– Хотите, я дам вам книгу про чертей и грешников, которая вам так нравится?
– Нет, задерни полог, погаси светильник и уходи.
– А завтра разбудить вас на заре, да? Ведь на охоту едут спозаранку.
– Нет, не приходи, пока я не позову.
– А какое приготовить платье?
– Я же сказала: ничего не надо. Выйди и оставь меня.
«Ну, море сегодня бурное», – подумала служанка выходя.
И Биче, вся предавшись своему горю, уткнулась в подушку, чтобы не было слышно, как она плачет. Ей казалось, что постель ее усеяна шипами и колючками; не находя покоя, она ворочалась с боку на бок, садилась, вставала, словно ей не хватало воздуха, потом опять ложилась, закутывалась в одеяла и все время безутешно рыдала.
Ей представлялось, как дочь Рускони, прекрасная и гордая, гарцует по улицам Комо, а Отторино легким галопом едет с ней рядом и они обмениваются ласковыми словами и взглядами.
Наконец, сломленная усталостью и страданиями, она забылась в дремоте, полной слишком живых и слишком мучительных сновидений.
Она собиралась встать пораньше и сойти вниз по первому зову, чтобы застать отца наедине, пока будут идти приготовления, и добиться, чтобы он одобрил ее намерение. Она твердо решила ни в коем случае не ехать на охоту и не дать себя уговорить, чтобы не ослушаться матери.
Утром она позвала Лауретту, чтобы та ее одела. Служанка подала ей охотничий костюм, приготовленный с вечера, и Биче, целиком погруженная в свои мысли, либо не заметила этого, либо не придала этому значения. Услыхав голос отца, она спустилась в зал и застала его там одного. Граф поднялся навстречу дочери и сказал:
– Сейчас все будет готово. Пойдем.
– Но я спустилась лишь для того, чтобы поздороваться с вами и пожелать вам удачи, – отвечала в смущении Биче.
– Ну, что за причуды?
– Нет, – отвечала Биче, отводя в сторону руку, увлекавшую ее к выходу, – подождите. Сядьте, мне нужно сказать вам два слова.
– Но у тебя будет время сказать их не два, а тысячу: разве на охоте мы не будем весь день вместе? И раз уж ты встала так рано, пойдем, чтобы не задерживать тех, кто нас ждет.
– Я уже вам сказала, что я не поеду, что я хочу остаться дома.
– А я тебе говорю, оставь свои глупости и не будь ребенком.
Пока длился этот спор, в зал вошел Отторино; после обычных приветствий он, попросив разрешения у графа, взял девушку за руку и вывел ее во двор, где ее уже ждал оседланный иноходец. Девушка шла не сопротивляясь, словно завороженная. Правда, у нее мелькнула мысль о матери, но как могла она повернуть назад теперь, когда встала столь рано и вот так оделась? Что она могла сказать? Что передумала? Но как это сказать? И почему передумала? Надо было как-то все объяснить, придумать причину. А она чувствовала, что у нее кружится голова, и не могла в этот миг произнести ни одного слова.
Часа через два они добрались до каштановой рощи, где псари спустили со сворки собак, которые тут же бросились в разные стороны, вынюхивая дичь, а господа вместе с Амброджо поднялись тем временем на вершину холма, откуда был виден весь ход охоты. Едва они достигли вершины, как граф, обращаясь к дочери, сказал:
– Смотри, Диана уже что-то учуяла. – И он показал на легавую, которая шла в их сторону, поглощенная поиском, уткнув нос в землю и помахивая хвостом. – Смотри, она делает стойку… Вот она подняла бекаса… Скорей сними колпачок с Гарбино! Да скорей же, какая ты сегодня неповоротливая!.. Выпусти его: он его уже видит, вот так, хорошо… Смотри, как быстро он летит! Нет, от него не уйти… Молодец Гарбино! С какой яростью он кинулся вниз! Все, ударил!
И действительно, все увидели, как сокол налетел на добычу и вместе с ней упал к подножию холма, на котором расположились охотники. Граф бросился вниз, чтобы выхватить бекаса из когтей Гарбино, и, воспользовавшись этим, Отторино приблизился к Биче и взволнованно проговорил:
– Умоляю вас, скажите, что с вами. Если я чем-то вас обидел, не наказывайте меня слишком жестоко. Биче, прошу вас, ведь вы же знаете, что завтра я должен вас покинуть…
– Да, я знаю, – прервала его девушка с улыбкой, которая не могла скрыть ее горечь, – я знаю, что вы завтра уезжаете, но моя мать сказала мне кое-что, о чем вы умолчали. Она сказала мне, что вы поедете через Комо. – Хотя Биче старалась произнести эти слова с безразличным видом, ей не удалось совсем скрыть свое чувство, и юноша сразу все понял.
Он густо покраснел и начал, запинаясь:
– Да, я не могу отрицать… Но тогда ведь я еще не знал вас… Но клянусь вам… Клянусь честью, Биче, что одну только вас…
Однако его речь была прервана появлением графа, который кричал своему сокольничему:
– Дай ему поклевать мяса и надень на него колпачок!
Слова, а еще больше смущение юноши убедили девушку в том, что мать сказала ей правду. На мгновение она почувствовала себя сломленной и униженной, но тут же овладела собой, и ей стало стыдно за свою слабость; в ее сердце вновь пробудилась презрительная гордость, воспитанная многолетней привычкой видеть, как любое ее желание исполняется немедленно. Поэтому, сделав вид, будто она целиком поглощена собаками и соколами и будто все ее мысли заняты охотой, она целый день ни на шаг не отходила от отца и ни разу не заговорила с Отторино, не посмотрела на него и вполне преуспела в том, чтобы превратить в желчь и отраву всю ту радость, которой юноша ожидал от этого дня.
На следующее утро молодой рыцарь в сопровождении Лупо выехал в сторону Милана, и Биче, измученная, истерзанная своим горем, сначала даже ощутила облегчение. Мать в тот день держалась с ней сухо и сурово, а это только увеличивало досаду Биче; вовсе не чувствуя себя виноватой, она возмущалась, считая, что мать к ней несправедлива. Весь день она капризничала, на всех дулась, а вечером рано ушла спать. Увидев, что барышня мрачна, как туча, служанка оставила зажженный светильник и поспешно удалилась. Биче взяла со столика, стоящего рядом с постелью, книгу в кожаном переплете. Это был «Ад» Данте []9
Произведение Данте «Божественная комедия» состоит из трех частей: «Ад», «Чистилище» и «Рай».
[Закрыть]. Когда накануне вечером Лауретта хотела подать ей книгу про чертей и грешников, она говорила именно об «Аде», ибо перед каждой песней была нарисована миниатюра, на которой изображалось все, о чем говорилось в песне. Если бы У кого-нибудь из вас нашлась теперь эта книга, он оказался бы обладателем целого состояния.







