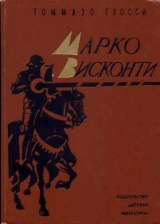
Текст книги "Марко Висконти"
Автор книги: Томазо Гросси
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 22 страниц)
Эрмелинде пришла в голову хорошая мысль.
– Как знать, – сказала она, – быть может, среди всех этих людей, собравшихся здесь, кто-нибудь может что-то о них сообщить?
– Это верно, – ответил граф, – я сейчас же велю расспросить людей, прежде чем они отсюда уйдут.
Выйдя на крыльцо, чтобы позвать управляющего, он тут же наткнулся на Тремакольдо, который никак не хотел уступить в споре. Увидев графа дель Бальцо, шут бросился ему навстречу. Сняв колпак и звякнув колокольцами, он отвесил поклон, в котором почтение смешивалось с насмешкой.
– А я как раз, – заговорил он, – спорил с этим живодером, который хотел выгнать меня взашей, как последнего негодяя, но я ведь нарочно приехал сюда, как только прослышал, что Отторино…
– Как? Ты что-нибудь слыхал о нем? Иди сюда, входи, – озабоченно сказал граф и, взяв Тремакольдо за руку, провел его в зал. Подойдя к Эрмелинде, он сказал ей: – Вот этот человек говорит, что знает кое-что о наших.
Жена графа бросилась к Тремакольдо.
– Скажите, – умоляюще проговорила она, – скажите, что вам известно? Вы их видели? Кто-нибудь вам о них говорил?
– О чем вы? Кто говорил? – недоуменно спросил Тремакольдо, удивленный тем, что все собрались вокруг него.
– Вы не видели Отторино и Биче? – взволнованно повторила мать.
– Нет, видеть не видел.
– А что-нибудь о них слышали?
– Да, я слышал в Сесто, что они еще не приехали к Кастеллето, и про себя решил – значит, попируем; и тогда я отправился сюда, правда немного поздно, но…
– А что говорили в Сесто?
– Да ничего… Так вот я и пришел сюда, а по дороге сложил песню в честь новобрачных.
– Но неужели никто их не видел и вы ничего о них не слышали?
– Никто, – отвечал шут и опять заговорил о своем: – Я еще в Беллано говорил, что они поженятся, так что у меня больше прав, чем у других, пропеть им свадебную песню. Вот поэтому я здесь. – Произнеся эти слова, он распахнул плащ, сунул руку за пазуху, вынул оттуда какой-то свиток и галантно вручил его Эрмелинде. Но, протягивая руку, он открыл весь свой левый бок; граф, стоявший рядом, заметил, что на поясе у него висит клинок, и сразу же узнал кинжал одного из оруженосцев, посланных с новобрачными до Кастеллето.
– Откуда ты взял этот кинжал? – испуганно спросил граф.
– Какой кинжал?
– Вот тот, который у тебя на боку…
Тремакольдо снял кинжал, протянул его графу и ответила
– Я купил его вчера у оружейника в Галларате.
– Что случилось? Что случилось? – спрашивала Эрмелинда.
– Это кинжал Риччардино! – воскликнул граф.
При этих словах его жена побледнела и затрепетала.
«Ну, видно, влип я в историю, – подумал шут. – Не пора ли уносить отсюда ноги?» Бочком, бочком он пробрался к выходу из зала, посмотрел на своего быстроногого коня, стоявшего на привязи у столба, посмотрел на распахнутые ворота, на опущенный мост и приготовился было уже задать стрекача, но потом сказал себе: «Нет, Тремакольдо повсюду может ходить с высоко поднятой головой. Я не хочу, чтобы кто-нибудь подумал, будто я замешан в разбое. Я останусь здесь и докопаюсь до истины».
Под градом новых вопросов шут смог повторить только то, что уже сказал. Но ему самому наконец стало ясно то, что с таким трудом укладывалось в его мозгу: он понял, что речь шла не более и не менее как об исчезновении Отторино, его жены и свиты, среди которой был и Лупо. Тремакольдо растрогало горе несчастных родителей. Помня, как добры были к нему Отторино и Лупо, предвкушая возможность новых приключений, которые неотразимо влекли в те времена людские души, особенно если речь шла, как в нашем случае, о какой-нибудь красавице, шут решил проследить тонкую нить, оказавшуюся у него в руках, чтобы отыскать пропавших и по возможности узнать их тайну. Он сказал Эрмелинде и графу о своем намерении с таким чувством, что оба были растроганы.
Граф горячо поблагодарил Тремакольдо за его предложение и сказал:
– А не лучше ли тебе взять с собой кого-нибудь из моих слуг? Амброджо, например; он – отец Лупо и одной из служанок Биче, которая тоже пропала вместе с другими. Человек он осторожный и храбрый, и ты сам понимаешь, что он с радостью отправится на поиски.
– Нет, нет, – отвечал шут. – Такие дела лучше делать в одиночку, с вашим слугой все будет только труднее. Я сам справлюсь. А если я что-нибудь узнаю, где мне вас найти?
– Условимся так, – ответила Эрмелинда, – мы останемся в Кастеллето еще на три дня, не считая сегодняшнего. Если господь смилуется над нами и поможет вам узнать хорошие новости, приезжайте скорее. Тогда ваш труд не пропадет даром, и мы не будем долго мучиться. Если же он захочет продлить наши испытания, то через три дня вы найдете нас в Милане. Послушайте, добрый человек, – продолжала она, – я понимаю, что, начиная столь милосердное дело, вы ищете иного вознаграждения… Но все же позвольте мне обещать вам, что отныне вам не придется больше добывать хлеб лютней.
– Благодарю вас, – отвечал шут, – но… к чему это? Говорю вам от всего сердца: не только хлеб, заработанный лютней, но и саму лютню, которая мне дороже брата, я готов отдать вместе с руками в придачу, лишь бы видеть вас довольной.
– Да вознаградит вас господь.
– Впрочем, если подумать, так это очень хорошо, что я могу использовать свою лютню и ради благого дела. Раз уж такое у меня ремесло, надо выполнять его со вкусом и изяществом, а также весело. Черт возьми! Где это видано, чтобы жонглер распускал нюни. Позор! Это же поношение колпака и лютни! – Тут он поклонился и ушел, напевая:
Менестреля видно сразу.
Прирожденный весельчак,
Может петь он по заказу,
Может петь и просто так
Смерть – и ту поднимет на смех
В песне, сочиненной наспех.
Граф бросился за шутом, догнал его в воротах и остановил, положив руку на плечо.
– Послушай, Тремакольдо, – проговорил он, – все это время, пока ты будешь стараться ради нас, тебе будет нужно… к чему скрывать… ведь ты не богат, и в этом нет ничего зазорного…
С этими словами граф хотел было сунуть шуту за пазуху кошель с деньгами, но тот отступил назад и спрятал руки за спину.
– Нет, – сказал он, – сейчас я ничего не возьму. Вернее, не сейчас, а вообще мне ничего не надо.
– Может быть, вместо денег ты хочешь чего-нибудь другого?
– Ни денег и ничего другого, ни денег и ничего другого Взгляните – разве я не богат? У меня остался еще кусок цепи, которую мне подарил Отторино. – И он показал несколько звеньев, висевших у него на груди. – Не будь у меня больше ничего, и этого хватило бы надолго, так что за меня не беспокойтесь. – С этими словами Тремакольдо вскочил на коня, выигранного им, а вернее, подаренного ему Арнольдо Витале в тот день, когда он состязался с ним на турнире, и медленно двинулся к мосту.
Вскоре опять послышалась его песня:
Для юнцов неискушенных,
Подражающих отцам,
И для старцев убеленных,
Подражающих юнцам,
Песню нужную подыщем.
Неудачника в счастливца
Эта песня превратит
И страдания ревнивца
Хоть на время прекратит.
И зажиточным и нищим
Песню нужную подыщем.
Выехав за ворота, шут свернул за бастион, так что вскоре слова его песни уже нельзя было разобрать…
Три дня прошли, не принеся никаких вестей, и несчастные родители вернулись в Милан, но Тремакольдо тем временем вовсе не сидел сложа руки Первым делом он отправился в мастерскую оружейника, который продал ему кинжал, и, притворившись, будто он хочет купить полное вооружение по поручению одного рыцаря, слово за слово, пригласил его для переговоров в харчевню. Там они выпили вместе кувшин доброго вина, и когда шут заметил, что его собутыльник слегка опьянел и стал болтлив, он притворился простаком и повел разговор вокруг да около, так что заставил своего собеседника, как говорится, развязать язык и выложить все, что у него было на душе.
Оружейнику было поручено продать этот кинжал вместе с кое-какой другой мелочью; поручил ему это его родственник – вассал и арендатор земель монастыря в Рескальдине. Тому, в свою очередь, эти вещи достались при разделе добычи, после того как однажды ночью были ограблены какие-то неизвестные ему всадники. Что сталось потом с пленниками; оружейник сказать не мог, так как попросту ничего не знал.
Услыхав все это, Тремакольдо хотел было немедленно броситься по горячим следам, но как явиться к родственнику оружейника, как расспросить его, не вызвав подозрений? Поэтому он всю неделю водил оружейника за нос, обещая со дня на день заключить с ним сделку, пока не настало воскресенье. Воскресенье было для соседнего городка местным праздником. Со всех окрестностей туда собирался народ, в нем устраивались всякие торжественные церемонии, игры, гулянья. Лучшего случая для шута не могло представиться: там, где шумел и веселился народ, – там был его дом родной. В субботу Тремакольдо с лютней на груди зашел за оружейником, и оба отправились в путь. По дороге он сумел расположить к себе оружейника, пустив в ход умильные и льстивые речи, которые проникли тому в самое сердце. Простак предложил шуту остановиться у своего родственника, и тот после долгих уговоров принял это предложение. Монастырский арендатор, которому оружейник представил шута как своего друга и заказчика, был рад приютить его в своем доме.
Вечером Тремакольдо пел, играл на лютне, откалывал коленца, каких присутствующим видеть еще никогда не доводилось. Проведя ночь в доме арендатора, наутро он как ни в чем не бывало вышел на площадь, чтобы заниматься своим ремеслом, а когда вернулся днем, то застал еще шестерых или семерых вооруженных людей, также приглашенных к обеду. Тремакольдо сразу же смекнул, в чем тут дело: это несомненно были соучастники хозяина в том деле, о котором ему так не терпелось разузнать. И он весь обратился в слух.
За столом ели, пили, хвастались, кричали, шумели. Тремакольдо все время прислушивался и приглядывался, ловил каждое слово, каждое движение, – ничего! Надо было что-то придумать, чтобы как-то помочь делу.
Но вот перед последним кубком на стол подали жареного павлина – это блюдо разрешалось лишь на рыцарских пирах, однако хозяин не боялся нарушать закон по большим праздникам, в кругу друзей и родных, когда хотел попотчевать гостей чем-нибудь особенным.
– Позвольте мне, – сказал Тремакольдо. – Нам, менестрелям, полагается первыми резать павлина, ибо мы пользуемся рыцарскими привилегиями, хотя сами и не рыцари.
С этими словами он вынул недавно купленный кинжал и с силой всадил его в тело лежавшей посреди стола благородной птицы, словно собираясь забрать ее себе целиком. Глаза всех сотрапезников устремились на это оружие, – высоко над птицей поблескивала серебряная рукоятка, а оставшаяся на виду часть лезвия сверкала золотой насечкой. Солдаты переглянулись, и кто-то тихо сказал:
– Точно такой же.
Тогда хозяин, подмигнув одному из гостей, сидевшему напротив, сказал:
– Кстати, а что сталось с теми двумя пташками?
– Залетная с гор, – отвечал тот, – до сих пор у нас в крепости, а другая – в новой клетке, но думаю, она долго не вытерпит и запоет.
«Понятно», – подумал про себя Тремакольдо, но и виду не подал, что услышал этот разговор.
Как только пир кончился и убрали со стола, солдаты пригласили своего нового знакомого и других сотрапезников выпить по бутылке вина в замке, до которого было рукой подать. Они отправились туда всей компанией, и в замке шут так хорошо пел и играл на лютне, так развеселил компанию своими шутками, канцонами и куплетами, что покорил всех. И когда к вечеру он собрался уходить, его заставили пообещать, что он снова вернется в следующее воскресенье, так как в замке всегда что-нибудь да праздновали, а в это воскресенье к тому же устраивали состязания. Тремакольдо обещал, но, прежде чем уйти, он, приглядываясь ко всему и вытягивая по полслова у каждого, убедился, что Лупо действительно находится в замке и сидит в темнице, которая выходит на ров с западной стороны.
С наступлением ночи наш шут, закутавшись в плащ, отправился побродить около замка. Он внимательно прислушивался и оглядывался, но вокруг не было ни души. Тогда он прошел вдоль рва к замеченному окошку, окликнул Лупо и постарался, чтобы тот его узнал, а потом сообщил ему, что пришел его вызволить. Окно, выходившее в поле, было защищено двумя толстыми решетками, в стене не было видно никаких других отверстий, и тут рассчитывать было не на что.
– Дверь моего каземата не очень крепка, – сказал Лупо, – и я мог бы выломать доску, отодвинуть засов и выбраться во двор, но что делать дальше? Придется начинать все сначала – ведь я все равно окажусь в замке с поднятыми мостами и охраной у ворот.
– Об этом уж позабочусь я, – ответил шут и добавил, что в воскресенье он снова придет в замок, но прежде еще раз навестит Лупо.
Хорошенько поразмыслив и взвесив все обстоятельства, Тремакольдо заказал два совершенно одинаковых шутовских костюма, а к ним – две причудливые шапочки с очень густой, сплетенной из шелка сеткой, которую можно было опускать на лицо, как забрало. Никто не увидел в этом ничего удивительного – ведь люди, чье ремесло заключается в том, чтобы смешить народ, могли рядиться во что угодно. В ночь на воскресенье Тремакольдо, взяв под мышку сверток с одним из костюмов и шапочкой, направился к темнице Лупо. Подойдя к самому рву, он с помощью длинного шеста передал все эти вещи Лупо и подробно рассказал ему, что он должен будет делать. Они уговорились обо всем, наметили место и время, условились о сигналах и пожелали друг другу спокойной ночи.
– Была бы канва, – сказал на прощание Тремакольдо, – а узор по милости господней появится.
Утром в воскресенье шут явился в замок в новом одеянии с забавной шапочкой на голове. Праздник там был в самом разгаре. Тремакольдо принялся петь, плясать, играть на лютне, выкидывать разные коленца, шутить и всячески потешать публику, то опуская сетку на лицо, то снова ее поднимая. Но вот наконец наступил час, назначенный для состязания, на которые солдаты из замка вызвали солдат из соседней крепости. После первых ударов перед самым ловким копейщиком вдруг предстал Тремакольдо и заявил, что он бьется об заклад на коня и победит его в состязании на два удара по сарацину.
– Знаю я тебя, приятель! – отвечал зычным голосом вояка, весь обросший черными волосами и страшный, как черт. – Если ты думаешь обвести меня вокруг пальца, как сделал это кое с кем на турнире в Милане, то ошибаешься: не на того напал, – знай это заранее.
– Стоит ли об этом говорить! – ответил шут. – Из пустой бочки вина не нацедишь, и глупо искать грибы в малиннике или требовать рыцарского обхождения от мужлана с дубленой кожей.
При этой выходке шута все засмеялись, кроме самого мужлана, которого она задела за живое. Вытаращив глаза, он бросил на шута бешеный взгляд, но тот, не выказывая никакой робости, подошел к нему поближе и продолжал в том же духе:
– Послушайте, моя радость, состязание должно быть равным, а у тебя конь посильнее, не так ли, прекрасная моя душечка?
– Верно, верно, – сказал один из распорядителей, – пусть Тремакольдо дадут другого коня, а его лошадка пока постоит в конюшне под присмотром судей турнира.
Тут же привели отличного скакуна, того самого, которого отобрали у Отторино.
– Вот теперь все в порядке, – заявил шут, – мне сказать больше нечего.
Изобразив с дурашливым видом рыцаря, опускающего забрало, он натянул сетку на лицо и крикнул, чтобы подали сигнал.
Затрубил рог, звук его разнесся по всему замку и достиг ушей человека, о котором не думал никто, кроме шута, и у которого при этом сигнале сильно забилось сердце. Соперник Тремакольдо подобрал поводья, пришпорил коня, поскакал к мишени и поразил ее в самую середину. Под одобрительные крики он вернулся на прежнее место, снова разогнал коня, прицелился в забрало сарацина и снова метко поразил цель. Новые рукоплескания, новые крики восторга. Теперь очередь за Тремакольдо, но где он?
– Где Тремакольдо? – спрашивают в толпе.
Его нигде нет. Мальчик держит под уздцы приготовленную для него лошадь, но шута нигде не видно.
– Тремакольдо! Тремакольдо! Куда ты пропал! Что это? Новая затея? Говорили же, что из этого ничего не выйдет! Хорошо еще, что хоть конь его здесь. Тремакольдо! Тремакольдо!
Но вот на лестнице, приплясывая, появляется Тремакольдо. Большими прыжками он приближается к коню, вскакивает на него, хватает копье, устремляется к сарацину и поражает его с такой силой, что кол, на котором он установлен, не выдерживает и все сооружение валится на землю. Нанеся этот блестящий удар, шут, а вернее, Лупо (читатели, конечно, уже догадались, что это был он), переодетый в шутовское платье, с сеткой, опущенной на лицо, разворачивает коня и, не обращая внимания на громовые клики восторга, пересекает двор, въезжает на подъемный мост и ветром мчится в поле.
Толпа бежит за ним, но вскоре все видят, что он скачет прямо по дороге, никуда не сворачивая.
– Тремакольдо! Тремакольдо! – кричат ему вслед. – Конь твой! Ты победил!
Но тот словно одержимый несется все дальше и дальше. В толпе строят самые разные предположения.
– Он небось думает, что проиграл, вот и сбежал, чтобы не потерпеть убытка.
– Как бы не так! Он не хуже нас знает, что это самый лучший удар – опрокинуть сарацина наземь.
– Так в чем же дело?
– В чем дело? Верно, опять выкинет какую-нибудь штуку, чтобы выставить на посмешище этого медведя. Ведь тот думал, что шут побоится и промахнется по мишени, а теперь ему не избежать позора.
– Да бросьте! Ведь он оставил свою лошадь, верно? Ну, так и вернется!
Пока мнимый Тремакольдо скакал во весь опор по дороге, настоящий Тремакольдо сидел в укромном уголке замка. Да, недурную надо было иметь ему голову, чтоб незаметно улизнуть! Но предоставим действовать шуту – он уже все обдумал, обо всем позаботился. Кроме главных ворот, в крепости имелся еще запасной выход, который вел в небольшой дворик, служивший конюшней. На него-то как раз и рассчитывал Тремакольдо. В самом начале состязания он отвел в сторону сторожа этих ворот и сказал ему, что спор идет понарошку, чему легко было поверить, и что он просит его открыть ворота и подвести к ним поближе его коня. Он намекнул сторожу, что хочет выехать из крепости незаметно для других, а затем неожиданно появиться в главных воротах и выкинуть одну штуку… Ну, в общем, сторож сам увидит, как все животики надорвут от смеха. Доверчивый простак сделал все, как его просили: распахнул ворота, приготовил коня, помог шуту сесть в седло, тихонько, без стука, закрыл за ним ворота и бросился затем на главную площадь, чтобы посмотреть на его возвращение. Но там не было ни души: все выбежали на насыпь поглазеть, как Лупо, переодетый Тремакольдо, ветром мчался по дороге. Сторож тоже успел добраться до одной из бойниц, откуда едва разглядел удаляющегося шута.
– Как же это? – сказал он про себя. – Я его только что выпустил, а он уже вон куда умахал! Дьявол, что ли, в него вселился? Ну и чудеса!
Лупо мчался напрямик по дороге, а Тремакольдо извилистыми тропками спустился вниз через лес. К вечеру оба встретились в Милане, в доме графа дель Бальцо.
Легко себе представить, как обозлились и испугались негодяи, когда они поняли, что шут не вернется обратно, обнаружили пустую темницу, догадались, что птичка улетела, и подумали о том, в какое бешенство придет их хозяин, когда узнает о случившемся.
Глава XXVI
Эрмелинда и граф заставили сына сокольничего повторить все подробности странной истории, в которую он оказался замешан, хотя, конечно, и не в качестве главного лица. Но Лупо мало что мог рассказать: с той минуты, когда он оставил Биче в Галларате, отправившись в Сеприо на поиски Отторино, он ничего не слышал о пропавших. Его самого перед самым замком захватила какая-то шайка вооруженных людей, ему завязали глаза, куда-то долго вели и бросили в темницу, где он и сидел, пока его наконец не вызволил Тремакольдо.
Все было загадкой в этом деле. Единственный свет на случившееся, казалось, проливало письмо от Марко, после получения которого Отторино поскакал в замок Сеприо. Правда, его имя могли нарочно вставить в письмо те, кто хотел устроить ловушку и похитить новобрачных. Лупо был в этом уверен. Граф, совершенно терявшийся при одном упоминании о Марко, ухватился за это объяснение, словно утопающий за соломинку. Но Эрмелинда, знавшая о любви Висконти к Биче, решила, хотя и не имея никаких доказательств, что именно он и похитил ее дочь. Однако она ничего не сказала мужу, боясь, что своими подозрениями и трусливыми опасениями он помешает ей пойти по тому пути, который, как она надеялась, мог вывести их из тупика.
Она тайно вызвала Лупо в свои покои и сказала ему:
– Послушай, у меня есть для тебя трудное и опасное поручение. Возьмешься ли ты за него из любви к своим прежним господам? Я ни на кого так не полагаюсь, как на тебя, и никому так не доверяю.
– Госпожа моя, окажите мне такую милость, скажите, что вы хотите мне поручить, и я постараюсь доказать вам и свою храбрость, и свою верность.
– Я хочу послать тебя в Лукку, чтобы ты отвез письмо Марко, – сказала Эрмелинда.
– И это все? – отвечал Лупо. – Предстать перед Марко! Да я сам не знаю, что дал бы, лишь бы удостоиться этой чести.
– Послушай, Лупо, я уверена, что если он остался таким, каким был некогда, если характер его не изменился со времени его молодости, то тебе нечего опасаться.
– Простите меня, госпожа, простите, но об этом не приходится и думать! Неужели вы полагаете, что я не доверился бы Марко! Благородней его нет никого на свете! Да будь я не таким ничтожным человеком, как сейчас, а бароном, или князем, или королем, и самым заклятым из его врагов, то и тогда я не побоялся бы уснуть, положив голову к нему на колени, и чувствовал бы себя безопаснее, чем в собственной постели. Послушайте, то, что я скажу, может показаться вам странным, но я так люблю этого человека и так ему предан, что пожелай он казнить меня, хоть это и вовсе невозможно, все равно я не почувствовал бы никакой горечи; я считал бы, что хорошо прожил свою жизнь, так хорошо, что и после последней исповеди не смог бы представить себе ничего лучше.
– Значит, ты поедешь!
– Да еще с какой охотой! Я же говорю, что сто лет мечтал поехать к нему.
– Одно меня беспокоит, – продолжала Эрмелинда. – Как бы те, кому, быть может, важно помешать тебе доехать до цели, не устроили по дороге ловушки.
– А чтобы этого не случилось, будем действовать быстро и без шума, – заключил Лупо, – и постараемся не попасть снова впросак. Да я и сам не буду хлопать ушами: раз уж лисица оставила хвост в капкане, поди поймай ее снова.
– Вот, возьми письмо, – сказала графиня. – Я тоже считаю, что чем быстрее мы будем действовать, тем лучше.
– Для нас, – добавил Лупо. – А сейчас я сбегаю вниз, поем, попрощаюсь с отцом и матерью и тут же поеду.
– Прощай, мой славный Лупо, – сказала графиня. – Да поможет тебе господь!
Но не успел еще Лупо выйти, как она позвала его назад:
– Если за то время, пока ты будешь в пути, Тремакольдо что-нибудь узнает, я сразу пошлю гонца, чтобы сообщить тебе обо всем Ты ведь знаешь, Тремакольдо обещал мне заняться этим делом, всюду смотреть и расспрашивать людей, чтобы напасть на их след?
– Да, да, я знаю, а теперь пора в путь, как и договорились. Одно только я хочу сказать вам до отъезда…
– Говори же, говори, не бойся.
– Я хотел просить вас, чтобы если со мной… если… А впрочем, не надо, вы и сами о них знаете… К тому же вы и так добры ко всем. Но довольно, я все сказал.
И, произнеся эти слова, Лупо вышел, чтобы приступить к задуманному делу.
Выезжая из ворот, Лупо встретился с Лодризио, который ехал верхом мимо в сопровождении двух оруженосцев. Лупо знал этого благородного сеньора и знал также, что в его отношениях с Отторино, несмотря на давнюю ссору, всегда сохранялись внешние приличия, которые, как известно, гораздо более живучи, чем дружба. А потому Лупо снял шляпу, поклонился родственнику своего хозяина и продолжал свой путь, не заметив неожиданного и непонятного удивления, которое мгновенно промелькнуло у того на лице при виде сына сокольничего. Лупо и не подозревал, что в эту минуту оба они – правда, по-разному – были озабочены одним и тем же делом, ради которого и отправлялись в путь, хотя и в разные стороны.
Предоставим Лупо ехать своей дорогой, а сами последуем за Лодризио, который, получив накануне письмо от Пелагруа, скакал в замок Розате, чтобы поговорить с ним об их общих делах.
Придя в себя от изумления, вызванного появлением пленника, который, по его предположениям, находился отнюдь не в Милане и, уж конечно, не должен был иметь возможности разъезжать по дорогам, Лодризио шепнул несколько слов на ухо одному из своих оруженосцев, и тот, кивнув головой, повернул назад.
Лодризио же пришпорил коня, снова и снова перебирая те мрачные мысли, которые все время осаждали его. Он думал о Марко, о Биче, об Отторино, о том, как быть тут и что сделать там. До самого Розате он молчал.
Уединившись наконец с Пелагруа, он спросил:
– Ну, так что? Прибыл новый гонец из Лукки?
– Да, прибыл и привез письмо от Марко, – ответил управитель, протягивая ему пакет.
Лодризио вскрыл его, сел на стул и долго читал, не говоря ни слова. Пелагруа стоял перед ним, держа шляпу в руках. Прочитав письмо, Лодризио покачал головой, пожал плечами и сказал:
– Все то же самое: с немцами плохо, а с жителями Лукки еще хуже. Одни – бездонные глотки, которые не наполнила бы даже река По в разлив; другие – проклятые скряги, которые не дали бы и гроша, чтобы выкупить свою шкуру у турок или у самого дьявола. Одни вопят и требуют, другие визжат и отказываются платить, а он между ними раздает кому пинок, а кому пряник. Сегодня он отправляет на плаху солдата, завтра – на виселицу горожанина: туда – сюда, как на качелях, а кончится тем, что и солдаты и горожане вместе поднимут на рога его самого. В общем, говорит он, ему все так надоело и опротивело, что он готов поступить так, как ему сначала очень не хотелось, – продать город Флорентийской сеньории, а самому умыть руки.
– Если это случится, – сказал Пелагруа, – то он снова заинтересуется здешними делами.
– Наверняка, а та нить, за которую мы уговорились дергать, чтоб держать его на привязи, послужит – теперь-то я это вижу – нам на пользу.
– На пользу? – сказал управитель, грызя ноготь на мизинце. – Дай бог, чтоб это послужило нам на пользу! Я боюсь, очень боюсь, что эта недотрога испортит нам всю игру.
– Почему ты всего опасаешься?
– А потому, что Марко, которому я только чуть-чуть намекнул насчет нее, чтобы как-нибудь его подготовить к возможным переменам, ответил… знаете, что?
– Что он на это не пойдет?
– Проклятье! Если бы только так! А то ведь он чуть голову не оторвал бедняге посланцу, а мне написал, чтобы я оставил в покое и ее и Отторино и вообще ни во что не вмешивался. Дела, что ли, излечили его от любви?
– Тем лучше! Если прежние бредни вылетели у него из головы, то он скорее займется серьезными делами и вспомнит о своих интересах. В конце-то концов, ведь это и наши интересы.
– Понятно, понятно, но мне-то тем временем что делать с этой трещоткой?
– То же, что и раньше: добром или силой заставить ее примириться с Марко. Думаешь, когда он вернется сюда и найдет ее очаровательной и покладистой, он не растает, как прежде, даже если первая страсть уже позади?
– Да смягчит небо ее душу! Вы ведь не знаете, что у нее за характер! Представьте себе: прошло уже двадцать дней, как она здесь, а она все еще думает, что она в Кастеллето. И я никак не могу решиться…
– Хорошенькое начало! Черт тебя побери!
– А что делать?
– Если видишь, что добром не выходит, надо действовать покруче: ты что, не знаешь, что такое женщины?
– Но она от всего падает в обморок.
– Пусть выкидывает свои штучки, а ты не обращай внимания.
– Легко вам говорить! Побыли бы вы здесь в четвертый день ее пребывания в замке: у нее началась такая горячка, что я испугался за ее жизнь и каждый час казался мне последним. Умри она в самом деле – попали бы мы с вами в переделку! А тут еще надо возиться и с другой, которая живет вместе с ней.
– Служанка, хочешь ты сказать? Вот еще забота! Приставь ее к госпоже, чтобы той не страшно было спать в одиночку… Ну, и чем же все это дело кончилось?
– Выздоровела после того, как получила письмо от своего разлюбезного, которое я ей достал.
– От Отторино? – спросил Лодризио с недоверчивым и раздраженным видом.
– Да, от него, но только не сердитесь, потому что Отторино – это был я.
– Ты сам написал письмо?
– Сам написал и сам подделал почерк.
– И что же ты написал?
– Прежде всего, надо было как-то объяснить ей причину его задержки, не так ли? Я наврал тут с три короба: что Марко принял меня с большой любовью, что он хочет послать меня в Тоскану, что он не оставляет мне свободного времени ни днем ни ночью, что я все еще не решаюсь сказать Висконти о своей свадьбе, так как вижу, насколько он был бы недоволен, но что скоро, как только я окажу ему одну великую услугу, мне, надеюсь, удастся его образумить. Словом, написал ей сотни всяких небылиц, приправил их обычными слащавостями и вздохами влюбленных, начинил письмо клятвами и словечками, вроде: «Душа моя! Сладкая моя надежда! Любовь моя!» – и всяческими преувеличениями, без которых не обходятся эти сердцееды, когда они хотят вскружить голову бедняжке, попавшей в любовные сети.
Лодризио расхохотался, а затем спросил:
– Ну, и что она? Клюнула и ничего не заподозрила?
– Уж в этом вы можете на меня положиться, – сказал управляющий. – Да попадись письмо в руки Отторино, он и сам, голову даю на отсечение, принял бы его за свое собственное.
– Ну, а что было потом?
– Потом она ответила, Отторино прислал новое письмо, она написала второе, Отторино – третье, и пошло, и пошло… Дело не прекращается, потому что она влюблена в него без памяти… И видели бы вы, какие нежные, трогательные вещи она мне пишет! С каким трепетом вскрывает мои письма, как жадно их читает, орошая их подчас слезами! А затем, с любовью сложив их своими белыми ручками, прячет на груди, опять вынимает, перечитывает и целует. Я каждый день наслаждаюсь этим зрелищем через дырочку в стене, и, клянусь вам, мне оно начинает просто нравиться.
– Ах ты старая шельма! Ах ты старый греховодник! – воскликнул Лодризио, шутливо хлопая его по щеке. – Итак, вместо того чтобы приступить к делу, ты все время развлекался милыми шуточками, и вот что получилось – двадцать дней потеряно напрасно.
– Нет, не совсем напрасно. Видите ли, кое-что я уже начал ей внушать, но пока что это все мелочь. К ней нужен такой тонкий, такой осторожный подход, а то ведь она шарахается от каждого пустяка. Она так нежна и деликатна, что довела нас всех до изнеможения, до лихорадки.







