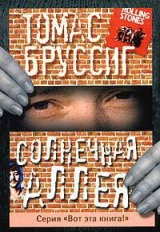
Текст книги "Солнечная аллея"
Автор книги: Томас Бруссиг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 9 страниц)
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ, ЧТОБЫ ВСЕ МЫ БЫЛИ ТАКИЕ ЗДОРОВЫЕ!
У Михи западных пластинок не было – невзирая на западного дядюшку. Пластинку в кальсонах не провезешь, а для контрабандистских трюков с двойным дном дядя Хайнц был явно не тот человек. Достаточно было пограничнику чуть медленнее обычного пролистать его паспорт – и дядюшка Хайнц уже на чем свет стоит клял судьбу, спроворившую ему бедных восточных родственников, ради которых он всякий раз подвергает себя поистине нечеловеческому риску. Однажды, когда пограничник вдруг торжествующе помахал его паспортом, у Хайнца просто сердце оборвалось.
– Знаете, что я думаю? – загадочно произнес пограничник, изучая многочисленные штампы в дядином паспорте. – Знаете, что я думаю? Когда человек, вот вроде вас, приезжает так часто, знаете, что я думаю?
Тут у дядюшки перехватило дыхание, и единственное, что он смог – это безмолвно покачать головой. Он до смерти боялся, что на сей раз его уж точно застукают – с бисквитно-вишневым рулетом, приклеенным скотчем где-то между икрой и лодыжкой. И когда пограничник повел его в таможенный барак, дядя Хайнц сразу понял: всё, это конец. Отныне – только небо в клеточку. Он даже запястья уже подставил для наручников. Лучше сразу честно во всем признаться.
– Когда человек, вот вроде вас, приезжает так часто, – продолжил пограничник, доверительно понижая голос, – он наверняка друг нашей республики и приверженец нашего строя.
Дядя, от греха подальше, на всякий случай кивнул. А пограничник, делая многозначительные глаза, перешел на шепот:
– Я вам сейчас кое-что покажу. Только никому ни слова!
С этими словами он откинул мешковину, под которой обнаружилась конфискованная четырехкомпонентная японская акустическая система: две трехполосные напольные колонки, тюнер с автоматическим запоминанием станций, автоматической подстройкой и электронной памятью на множество каналов, усилитель с эквалайзерами, с отдельной регулировкой усиления на каждом канале, с двумя режимами воспроизведения (моно и стерео), а также кучей всяких других кнопок, ручек и клавиш, вдобавок еще и с отдельными выключателями на каждом из четырех компонентов системы. Пограничник торжествующе указал на систему и гордо спросил:
– Ну как?
Дядя и тут не нашелся, что ответить, но этого от него, по счастью, и не ждали.
– Нет, вы только взгляните! Нагромоздили, накрутили, не разбери поймешь чего! – укоризненно сказал пограничник. – Это же до чего надо дойти! И вот такое они там на западе производят! То ли дело мы… – И с этими словами пограничник указал западному гостю на изделие под названием комнатный радиоприемник «Фихтельберг», скромно коротавшее свой век на подоконнике посреди горшков с чахлыми, полуживыми цветами. «Фихтельберг» являл миру четыре ручки, три большие и одну поменьше, одну шкалу настройки и один динамик.
– Вот это, я понимаю, вещь! – гордо сказал пограничник. – С этим любой трудящийся без всякого труда разберется. Вот, взгляните: для включения и выключения плюс вдобавок для регулировки громкости – всего одна ручка, это ж какая экономия материала! И репродуктор туда же встроен – не то что на этой бандуре. Ее ведь без репродукторов даже не слышно! А они стоят, будьте уверены, еще столько же, и места занимают будь здоров!
Дядюшка Хайнц, который всего минуту назад видел себя исчезающим на студеных просторах Сибири, начал догадываться, что происходит какое – то недоразумение, однако вроде бы явно в его пользу: ему, предполагаемому почитателю и стороннику ГДР, демонстрируют новейшие достижения республики на техническом фронте. И он спрашивал себя: способно ли семейство Куппиш хоть когда-нибудь понять и оценить, что означают для него всякий раз вот эти поездки, это пересечение границы с подзапретными подарками, после тщательнейшей подготовки размещенными на теле в укромных местах, которые он изобретал неделями. Никто из Куппишей в жизни не испытает тех чувств, которые он, дядя Хайнц, испытывает, стоя перед гедеэровским пограничником. Разумеется, дядюшка Хайнц ни за какие коврижки не поменялся бы со своими восточными родичами местами и условиями жизни, но что они даже отдаленного представления не имеют о его каждоразовых муках при пересечении границы – это, считал дядюшка Хайнц, вопиющая несправедливость.
Пограничник тем временем все продолжал без устали расхваливать достоинства комнатного радиоприемника «Фихтельберг», однако дядя хотел уже только одного: как можно скорее выскочить из перетопленного, душного барака, где одна из плит за батареей отопления от старости и перегрева лопнула и из нее смертельной трухой сыпался на пол убийца-асбест.
– От этого бывает рак, – пролепетал дядя, указывая на плиту и приведя тем самым пограничника в еще более жизнерадостное настроение.
– Да-да, у них, бедняг, на западе кругом сплошные трудности, – проговорил он и, вдруг раззявив рот так, словно его показывают студентам-стоматологам, заорал своим товарищам. – Слыхали? У них там на западе думают, что от этого бывает рак. – Он вручил дяде Хайнцу паспорт и от всей души саданул его по плечу. – А я вот, сколько живу, ни разу раком не болел. Пока мы тут социализм строим, они там невесть чем занимаются: рака какого-то боятся или, вон, приемники делают, которые ни один нормальный человек даже включить не может. Н-е-ет, куда им против нас!
Дядюшка Хайнц кивал, всерьез подумывая на прощание по-ротфронтовски вскинуть кулак, но не рискнул: чего доброго, истолкуют как угрозу. Для него всегда оставалось загадкой, с какой стати коммунисты вместо приветствия показывают друг другу кулак.
Хайнц, конечно, мог бы расспросить об этом Сабининого очередного, который жаждал дать ей рекомендацию в партию, но тот уже перестал быть очередным. Нынешний Сабинин очередной трудился в театре простым рабочим сцены, но имел большие театральные амбиции. Он хотел стать режиссером. И хотя до режиссера ему было пока что далеко, этот подвижник кулис уже вовсю разглагольствовал о «моих актерах» и о том, что актеры – всего лишь глина у режиссера в руках. Господин Куппиш только спросил:
– Как так глина? Почему не гипс?
Когда Хайнц со своим рулетом между икрой и лодыжкой осторожно поднимался по лестнице, он чуть ли не с первого этажа слышал, как Сабина повторяет одну-единственную строчку из шекспировского «Макбета»: «Смертельных мыслей духи, измените мой женский пол…» [5]5
У.Шекспир, «Макбет», I, 5. (Перевод С.М.Соловьева.)
[Закрыть]Она работала над строчкой уже двадцать минут, но поскольку проделывала это вместе со своим режиссером в ванной, интонации ее менялись соответственно сопутствующим процессам.
Почти всегда, когда дядюшка Хайнц приезжал навестить своих восточных родственников, случалось нечто, что приводило его в оторопь. Вот и на сей раз, завидев родную сестру, Хайнц просто остолбенел. Госпожа Куппиш прихорашивалась перед зеркалом, однако выглядела почему-то постаревшей разом лет на двадцать. Господин Куппиш, в очередной раз затеявший безнадежную битву с раздвижным столом, откуда-то с полу отпустил по этому поводу язвительное замечание:
– У всех жены как жены, стараются выглядеть помоложе, и только моя норовит превратиться в старуху!
Обретя наконец дар речи, дядюшка Хайнц ткнул на убийцу-асбест за плитами центрального отопления и ответил господину Куппишу:
– Радуйся, что вообще видишь ее живой, потому что такой старухой, как она выглядит, ей вовек не быть, а даже если и быть, ты-то уж точно до этого не доживешь.
Тему асбеста госпожа Куппиш терпеть не могла.
– Хайнц, прекрати, это только напрасно нервирует Мишу.
– Мама, почему ты без конца меня Мишей зовешь?! – взвился Миха. – Меня зовут Миха!
– Ничего, тебя не убудет. Миша – русское имя, а ты ведь хочешь учиться в Советском Союзе.
– Но это еще не повод называть меня Мишей! Я же не зову тебя «матушкой».
– А почему, что плохого, если люди будут думать, будто мы друзья Советского Союза? – философски заметила госпожа Куппиш.
– И все равно! Только не Миша! Это звучит как…
– Как Гриша, – подлил масла в огонь дяюшка Хайнц.
Сабина, прервав репетиции «Макбета», закричала из ванной:
– Зовите его Ми-и-ишей, р-у-у-усской душой! – голосила она нараспев, как ей казалось, с русскими интонациями. – Как Пу-у-у-шкин! Как Че-е-е-хов!
– Так твою мать! – рявкнул вдруг дядюшка на чистом русском, после чего, уже по-немецки, добавил: – Русскими нам не бывать!
– Хайнц! – всполошилась госпожа Куппиш. – Только не при мальчике!
– Да почему же не при мальчике! – не унимался Хайнц. – Если под Иванами вы живете даже без телефона, как можно посылать его в Россию учиться! Его там волки обложат, а ему из своего барака даже позвонить вам будет некуда!
Сабина со своим театральным работником и с полотенцем на голове вышла из ванной, на лету подхватывая заветное слово:
– Телефона у нас не будет никогда!
– Моей парикмахерше только что поставили домашний телефон, потому что у нее появился сахар, – начала объяснять госпожа Куппиш, но Хайнц сразу же истолковал ее объяснения по-своему.
– Вам нужен сахар? – спросил он сдавленным шепотом. – Наверно, я могу провезти немного…
– Да нет, у нее сахарная болезнь, и когда у нее инсулиновый голод, или приступ, или как его там, ей нужен телефон.
– Если так, я пишу заявление, – заявил господин Куппиш, снимая колпачок с авторучки, но тут же затруднился. – Только какая у нас болезнь?
Миха про себя подумал: «Крыша поехала – вот какая у нас болезнь».
– Рак легких, – предложил дядюшка Хайнц.
– Рака легких ни у кого из нас нет, – отрезала госпожа Куппиш. – Но у меня лично аллергия на пыльцу.
– А больше ничего? – с надеждой спросил театральный работник.
– Нет, только аллергия на пыльцу, – стояла на своем госпожа Куппиш.
– Дохлый номер, – совсем упал духом господин Куппиш. – Не может быть, чтобы все мы были такие здоровые!
– Это просто позор! – провозгласил дядюшка Хайнц. – В свободном мире у таких аллергиков специальный телефонный сервис имеется, а при коммунизме у них даже телефона нет!
– Телефонный сервис? Это как же? – заинтересовался господин Куппиш.
– Ну, рассказывают, когда какая пыльца летает, – пояснил Хайнц. – Тополиная или там липовая… Это все равно как с медом. У вас просто мед, и всё, а у нас различают: лесной, липовый, гречичный, акациевый…
– И у вас на какую-то пыльцу бывает аллергия, а на какую-то нет? – не веря собственной догадке, спросил господин Куппиш. Он отказывался допустить, что западный индивидуализм способен докатиться до проявлений столь извращенных.
– Именно, – беспощадно подтвердил Хайнц.
Господин Куппиш так и остался сидеть с раскрытым ртом.
– Ты погляди, чего делается, – только и сказал он, обводя глазами всех по кругу.
Тут слово взял подвижник кулис.
– Брехт или Хайнер Мюллер подошли бы к этому вопросу диалектически. Будь они пыльцовыми аллергиками, они бы написали заявление и потребовали создания противопыльцовой телефонной службы, даже если бы у них самих телефона не было.
– И что толку? – сердито спросила госпожа Куппиш. – Что бы это дало вашему Брехту? Много ему пользы от телефонного сервиса, если сам он без телефона сидит? Вот вам и вся ваша диалектика.
– Нет, не совсем, – с трудом сдерживая интеллектуальное торжество, протянул театральный работник. – Когда был бы создан противопыльцовый телефонный сервис, Брехт написал бы новое заявление: в связи с темчто создан телефонный сервис для аллергиков, необходимо установить ему телефон!
– Это еще почему?
– Какой же это телефонный сервис для аллергиков, если у аллергиков нет телефона!
Доводы театрального деятеля звучали подкупающе, тут уж никто не нашелся, что возразить. Только господин Куппиш буркнул:
– Да все равно телефоны ставят только тем, которые в органах.
Если господину Куппишу соседство с людьми из органов явно досаждало, то госпожа Куппиш, напротив, любила показать себя этим соседям с наилучшей стороны – в неизменной роли заботливой матери и хозяйки, сознающей свою верность партийной линии. Она, например, и вправду подписалась на «Нойес Дойчланд», но не для того, чтобы каждое утро ее читать, а только ради того, чтобы центральный орган каждое утро выглядывал из почтового ящика. Специально для этой цели в ящик набили побольше старых газет, чтобы целиком «НД» туда не влезала. Теперь каждый, проходя мимо почтовых ящиков, волей – неволей удостоверивался: Куппиши читают «НД».
Когда подоспел очередной фестиваль молодежи, госпожа Куппиш подкараулила соседа из органов и как бы невзначай столкнулась с ним на лестничной клетке.
– Как хорошо, что я вас встретила, – воскликнула госпожа Куппиш, просияв. – Вы, случайно, не одолжите нам два воздушных матраса, для квартирантов, ведь опять фестиваль молодежи.
Однако ключевые слова – квартирантыи фестиваль молодежи– прозвучали у нее с некоторой натугой, все-таки навыков самостийного участия в важном и общественно полезном государственном деле у нее было еще очень мало. Зато непростое словосочетание «воздушные матрасы» соскользнуло с губ будто само, так что от любого внимательного слушателя не могло не укрыться: с принадлежностями пляжного отдыха госпожа Куппиш совершенно на «ты». Она, должно быть, и сама это почувствовала, поэтому решила повторить попытку:
– Все-таки большое дело этот фестиваль, – затараторила госпожа Куппиш, пока сосед, ни слова не говоря, вытаскивал из кладовки два воздушных матраса. – Особенно как раз для молодежи. Ради такого дела и в маленькой квартирке потесниться можно, верно ведь? – А про себя в это время думала: «Давай-давай, мотай на ус и доноси, куда следует, какая у нас образцовая социалистическая семья». Вслух же говорила: – Я уверена, нашим квартирантам будет у нас уютно!
Она все еще упражнялась в составлении новых и новых предложений со словами «фестиваль молодежи» и «квартиранты», когда по лестнице поднялись Миха и Марио. Завидев Миху, госпожа Куппиш, стараясь, чтобы сосед из органов непременно услышал, приветствовала сына такими словами:
– Миша! Как хорошо, что ты пришел, обед как раз поспел, сегодня у нас солянка, твое любимое блюдо!
– Солянка? – резко переспросил Миха, и глаза его гневно вспыхнули. Опять мать выставляет его на посмешище, никакой он не Миша и до солянки совсем не охотник, особенно в присутствии Марио.
– Сперва на «красный монастырь» заглядываешься, – прокомментировал тот, – теперь вот и на русскую жратву облизываться начал. Этак ты, парень, совсем заделаешься в красные холуи.
Марио в те дни вообще был злющий до невозможности. Ему, бедняге, пришлось со своими длинными волосами расстаться. А ведь он сколько раз клялся, что никогда, ни за что в жизни этого не сделает – и вот все-таки сделал. Причем не то чтобы даже под открытым нажимом. Марио отрезал волосы, потому что хотел кататься на мопеде, сдавал на права, а экзамен по вождению у него принимал печально знаменитый инструктор, который, очевидно, считал делом чести завалить всякого длинноволосого. И прибегал ради этого порой к самым подлым трюкам. Например, перед экзаменом тайком замыкал проводок стопсигнала, а потом с треском проваливал длинноволосого испытуемого зато, что тот не убедился в технической исправности машины перед началом движения. Один раз Марио уже успел провалиться: его отправили на трассу испытаний с перекрытым бензонасосом, и уже через две минуты он безнадежно заглох прямо посреди перекрестка. Когда Марио узнал, что переэкзаменовку у него будет принимать все тот же зверь-инструктор, он за десять минут до начала экзамена в темном парадном надел мотоциклетный шлем и обкарнал все вылезающие из-под него волосы. Экзамен он сдал, зато по части прически, можно считать, провалился в первобытные бездны, поэтому, когда столкнулся на лестнице с госпожой Куппиш, которая звала своего Мишу отведать солянки, она его не признала, как, впрочем, и он ее, ибо госпожа Куппиш по-прежнему выглядела старше своих лет годков этак на двадцать.
А когда дядюшка Хайнц приехал в следующий раз, теперь уже его самого было не узнать. Он пять недель морил себя голодом и со своих восьмидесяти трех килограммов отощал до шестидесяти пяти. Он ничего не ел, «хуже, чем в сибирском концлагере», как он торжественно всем объявил, и ежедневно упражнялся с гантелями.
– Я потел, как в сибирской каменоломне! – хвастался он.
Дядюшка Хайнц до того исхудал, что даже кресло всеми своими пружинами застонало иначе, принимая его в свое лоно.
– Хайнц, бедняжка, доходяга ты мой, иди скорей, я тебя покормлю, – запричитала госпожа Куппиш, отгоняя от стола супруга, который, как всегда в подобных случаях, возобновил тщетные попытки оный стол раздвинуть.
– Хайнц, у тебя что, ленточный глист? – перепугался Миха, увидев дядюшку.
– Нет, – гордо провозгласил Хайнц, начиная раздеваться. – Я кое-что провез!
Под костюмом, который болтался на нем мешком, обнаружился еще один, сидевший как влитой.
– Это тебе! – торжественно объявил Хайнц Михе. – Чтобы в школе танцев все девки были наши! Ну, а теперь я наконец-то у вас отъемся, отведу душу! – И он залился счастливым детским смехом. – Надевай-надевай, я хочу посмотреть, как он на тебе! – продолжал радоваться дядя уже с набитым ртом. – Миха, ты даже представить себе не можешь… как я все это время мечтал… наесться до отвала… когда костюмчик тебе переправлю!
Миха только кивнул. У него язык не поворачивался сказать дядюшке, что провести один костюм разрешено по закону. И много позже, когда дядюшка благополучно набрал свои восемьдесят три килограмма и прежние костюмы опять стали ему впору, Миха не уставал прославлять его героический контрабандистский подвиг.
Вот так и вышло, что на выпускном бале в танцевальной школе у Михи не только была самая красивая дама, но и самый красивый костюм. А костюмчик и вправду оказался классный, до того модный, что даже со смотровой площадки ни смешка, ни гиканья не раздалось, когда Миха в нем из дому вышел.
Мирьям явилась на вечер в темно-синем бархатном платье, и даже Марио, Очкарик и Толстый оделись так нарядно, как давно не одевались прежде и еще долго не оденутся потом. Они даже туфли почистили. И вот сорок пар начищенных, сверкающих туфель, а вдобавок еще и туфли госпожи Шлоот и обеих ее танцевальных голубок снова, теперь уже в последний раз, заскользили по паркету.
Но Миха и Мирьям были, безусловно, первой парой. Миха, кстати, и танцевал лучше всех. Во всех танцах он с такой элегантностью вел свою партнершу, что она вверялась ему все больше – ибо и сама чувствовала себя с ним все увереннее. Впервые в жизни Миха смутно почувствовал, что это значит на самом деле – быть мужчиной,и вовсю старался быть им для своей дамы. Миха, прежде смотревший на мир с юношеской робостью, в тот вечер ощутил на себе всю притягательную силу восхищенных девичьих глаз и был потрясен: сколько всего, оказывается, можно пережить и выразить в одном только взгляде!
А Мирьям явно наслаждалась действием своих чар и тем, что, кроме нее, Миха вообще никого и ничего вокруг не замечает. Неудивительно, что и рокот мотоциклетного мотора за стенами школы он поначалу тоже не услышал. Как назло, это случилось во время танго, любимого Михиного танца. На фоне нервных ритмов «Кумпарситы» все отчетливей пробивался ровный, сытый, уверенный бас стоящего со включенным движком «АВО». И как только танец кончился, Мирьям с Михой попрощалась.
– Как всегда: в самый прекрасный момент приходится заканчивать, – сказала она и была такова. А Миха остался стоять, и все на него глазели, и никто в этот миг не желал оказаться на его месте. Только что он был прекрасным принцем, героем вечера. Едва Миха пришел в себя, он кинулся на улицу и крикнул вслед Мирьям:
– Да нет же, в самый прекрасный момент надо продолжать!
Но она уже отъезжала, крепко обхватив руками своего мотоциклиста. И поскольку была в бальном платье, то и сидела на мотоцикле по-дамски, свесив ноги в одну сторону. И даже не услышала, как Миха что-то прокричал ей вслед.
Когда Миха побитым псом вернулся в зал, все стояли молча и смотрели только на него. Заиграл вальс, и Шрапнель уже лихорадочно строила планы с учетом изменившейся обстановки, но Миха схватил одну из танцевальных голубок и пустился с ней по залу. Только один круг, потом он попросту оставил голубку и направился к выходу. Одним показалось, что он плачет, другие уверяли, что он был красный, как рак, и весь трясся. Но вальс он станцевал безупречно. Причем именно Миха вел танцевальную голубку – настолько хорошо он за это время научился вальсировать.
А несколько дней спустя Миха обнаружил в почтовом ящике письмо – без имени, без обратного адреса, только с наклеенным на конверте алым сердечком. Миха тотчас Конверт вскрыл и вышел с ним на улицу, где, как назло, тут же столкнулся с участковым. Письмо выпало у Михи из рук, а поскольку день выдался ветреный, его потащило вдоль по улице. Миха хотел было кинуться вслед, но участковый, хватая Миху чуть ли не за шкирку, потребовал предъявить документы. Письмо, уносимое ветром все дальше, приземлилось в итоге на нейтральной полосе, где благополучно застряло в кустах. Впрочем, этого Миха видеть не мог, письмо он обнаружил в кустах лишь позже, когда при помощи зеркальца, прикрепленного к палке от швабры, производил рекогносцировку нейтральной полосы. Не мог он просто так о письме забыть и с тех пор не оставлял попыток до него добраться.
Ведь это было первое любовное письмо, полученное Михой, и надо ж такому случиться, что именно оно угодило на нейтральную полосу, полосу смерти. Миха понятия не имел, что в том письме. Он даже не знал, от Мирьям оно или еще от кого-то. Может, ему всего-навсего Шрапнель написала. Или танцевальная голубка, с которой он вальс станцевал. Может, письмо вообще предназначалось не Михе, а его сестрице Сабине. Разумеется, Миха страстно желал, чтобы письмо было от Мирьям и ни от кого другого. В последующие недели для него на этом письме буквально свет клином сошелся. Он решил добраться до него во что бы то ни стало, а Мирьям про письмо спросить не мог: стыдился признаться, что он такой рохля и упустил письмо на нейтральную полосу. Это, во-первых, смешно, а во-вторых, для нее оскорбительно, так Миха думал. А если письмо вдобавок еще и не от нее, это уж совсем будет конфуз: спросить про любовное письмо, которого она даже не писала.







